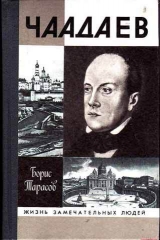
Текст книги "Чаадаев"
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 37 страниц)
2
Такое сложное сочетание чувств у Петра Яковлевича проявляется и в его взаимоотношениях с другой соседкой – Екатериной Дмитриевной Пановой (урожденной Улыбышевой), владевшей имением в нескольких верстах от Алексеевского, в селе Орево. В 1827 году она приехала сюда в очередной раз из Москвы вместе со своим мужем В. М. Пановым, впоследствии довольно известным агрономом и автором популярных брошюр по сельскому хозяйству. В годы своего пребывания в Петербурге Чаадаев мог знать ее брата Александра Улыбышева, тогда активно участвовавшего в жизни литературно-театрального общества «Зеленая лампа», члены которого разделяли конституционно-республиканские устремления «Союза благоденствия». На одном из заседаний «Зеленой лампы» Улыбышев прочитал свою публицистическую утопию «Сон», содержавшую программу демократических преобразований. Впоследствии, однако, социальные интересы сменились музыковедческими, и он написал монументальные труды о Моцарте и Бетховене. Сестра Екатерины Дмитриевны Елизавета также была небезызвестна, занималась поэзией и в 40-х годах выпустила ряд сборников на французском языке («Искры и пепел», «Мысли и заботы», «Шипы и лавры»), куда, кроме собственных оригинальных произведений, она включила свои переводы стихов русских писателей, в том числе и Пушкина. В предисловии к одному из сборников она отстаивала право писать на французском языке, возражая Сенковскому, выступившему с критической рецензией на ее предыдущую книгу.
А что же представляла собой сама Екатерина Дмитриевна? В пору знакомства с Петром Яковлевичем ей двадцать три года, вот уже пять лет как она вышла замуж, но детей не имела. M. H. Лонгинов, называвший ее «молодою, любезною женщиной», а их отношения «близкой приязнью», писал: «Они встретились нечаянно. Чаадаев увидел существо, томившееся пустотой окружавшей среды, бессознательно понимавшее, что жизнь его чем-то извращена, инстинктивно искавшее выхода из заколдованного круга душившей его среды. Чаадаев не мог не принять участия в этой женщине; он был увлечен непреодолимым желанием подать ей руку помощи, объяснить ей, чего именно ей недоставало, к чему она стремилась невольно, не определяя себе точно цели. Дом этой женщины был почти единственным привлекавшим его местом, и откровенные беседы с ней проливали в сердце Чаадаева ту отраду, которая неразлучна с обществом милой женщины, искренно предающейся чувству дружбы. Между ними завязалась переписка, к которой принадлежит известное письмо Чаадаева, напечатанное через семь лет и наделавшее ему столько хлопот».
И хотя в связи с «хлопотами» Петр Яковлевич станет объяснять московскому обер-полицмейстеру, что часто встречался с Пановой в Ореве, поскольку «в бездействии находил в этих свиданиях развлечение», он не мог не помнить и ласковой отрады женского общества, и непреодолимого желания помочь томившемуся пустотой существу, хотя ее неказистая, лишенная эстетической привлекательности усадьба и отталкивала его, подобно низким домам в Алексеевском. Да и в ее отношениях с мужем он наблюдал отсутствие дружеской близости и теплоты домашнего очага, что пробуждало в его сознании мысли, обобщенно выразившиеся в первом философическом письме: «В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев».
Екатерина Дмитриевна делится с Чаадаевым своим неустройством, жалуется на изнуряющее бессилие перед каждым новым днем, который она не знает чем наполнить, не говоря уже о целой жизни. И лишь поэтические картины сельской местности на закате дня и книги (среди них и философские, например сочинения Платона) уносят на короткое время ее из горькой действительности. Однако, признается Екатерина Дмитриевна, она не может отказаться от бесконечного шума новостей и удовольствий светского общества, что усиливает ее душевное напряжение. Вспоминая исповеди Пановой, Петр Яковлевич напишет: «Я уважаю, я люблю в вас более всего ваше чистосердечие, вашу искренность. Эти прелестные качества очаровали меня с первых минут нашего знакомства».
В отличие от «обыкновенной» Авдотьи Сергеевны Норовой Екатерина Дмитриевна Панова выделяется в глазах Чаадаева из толпы беспокойством духа и развитостью ума, умением находить «прелесть в познании и в величавых эмоциях созерцания». Надо только, думает он, наполнить эти свойства существенным содержанием, ибо молодая женщина не заглядывает в Евангелие, не ходит в церковь и вообще пребывает в полном религиозном неведении. Тогда и многие тяжелые для нее проблемы повернутся к ней другой стороной.
И Петр Яковлевич советует Екатерине Дмитриевне, говоря словами его первого философического письма, «облечься в одежду смирения, которая так к лицу вашему полу», что «скорее всего умиротворит ваш взволнованный дух и прольет тихую отраду в ваше существование». Свои наставления он продолжает и в Москве, где в 1828 году почти постоянно встречается с супругами Пановыми, одалживая даже, при собственных больших долгах, им деньги. Екатерина Дмитриевна испытывает безграничное уважение к Чаадаеву, характеру которого, по ее словам, свойственна «большая строгость». Она покорена его всецелой поглощенностью высокими мыслями. Ей представляется, что она прониклась «философией смирения» и понимает ее утешительные, хотя и необычные в свете существующей традиции, выводы. «Слыша ваши речи, я веровала, – напишет она ему через несколько месяцев, – мне казалось в эти минуты, что убеждение мое было совершенным и полным».
А Петр Яковлевич чувствует, что чрезмерная экзальтация, с какой вразумляемая им женщина отдается его внушениям, свидетельствует не только о верованиях и убеждениях. К тому же, кажется, и в московском обществе об их встречах поползли двусмысленные слухи, не беспокоящие ее, но весьма настораживающие проповедника. И он делится своими сомнениями с мужем Пановой, оценивающей такой жест как «жестокое, но справедливое наказание за то презрение, которое я всегда питала к мнению света». Еще большим наказанием является для нее постепенное удаление Чаадаева от их дома, хотя беседы с ней, по его собственному признанию, служили ему «утешением в дни крайней нужды».
А «нужда» действительно была крайняя. «Философия достоверностей», казалось бы, должна была завершить процесс внутреннего перерождения Чаадаева, внести в его душу покой и ясность цели. Однако для подобного воздействия ей не хватало, учитывая характер Петра Яковлевича и особенности возложенной им на себя «пророческой» миссии, материального воплощения и соответственно широкомасштабной публичности. «Побочные» обстоятельства, вытекавшие из попыток «обратить» встреченных на жизненном пути женщин, также не способствовали его духовному умиротворению.
Чтобы систематизировать свои воззрения на бумаге, он совершенно уединяется от общества, испытывая одновременно сильнейшие приступы притихшего было раздражения против всего окружающего. «Возвратясь из путешествия, – замечает встречавшийся с ним в Берне Д. Н. Свербеев, – Чаадаев поселился в Москве и вскоре, по причинам едва ли кому известным, подверг себя добровольному затворничеству, не видался ни с кем и, нечаянно встречаясь в ежедневных своих прогулках по городу с людьми, самыми ему близкими, явно от них убегал или надвигал себе на лоб шляпу, чтобы его не узнавали». Характерно также свидетельство С. П. Жихарева, относящееся, правда, к 1829 году, но в еще большей степени справедливое для 1828-го. Занятый утряской финансовой части отношений между Петром Яковлевичем и А. И. Тургеневым, он сообщал последнему: «Чаадаеву о деньгах ни за что говорить сам не решусь. Он уверял меня, что остался должен только 5 тысяч рублей, которые через год и заплатил мне, и после того ни ко мне не ходит, ни меня к себе не пускает; да лучше сказать ни к кому и никого. Сидит один взаперти, читая и толкуя по-своему Библию и отцов церкви…»
Едва ли не единственное исключение своевольный толкователь Библии и отцов церкви делает для докторов, рекомендующих ему почаще гулять и развлекаться. По словам М. И. Жихарева, не ужившись в деревне с «теткой-старухой», Петр Яковлевич проживал в древней столице «на разных квартирах, в которых проводил время, окруженный врачами, поминутно лечась, вступая с медиками в нескончаемые словопрения и видаясь только с очень немногими родственниками и братом». Новые припадки ипохондрии, реальные и мнимые заболевания заставляют его совмещать воплощение философского замысла с тщательным изучением медицинской литературы. Заглядывая во время прогулок в книжные магазины на Петровке, Чаадаев покупает множество специальных сочинений.
В заботах о здоровье и путях материализации своей мысли Петр Яковлевич, замечает его племянник, «предался некоторого рода отчаянию. Человек света и общества по преимуществу, сделался одиноким, угрюмым нелюдимом… Уже грозили помешательство и маразм…» Сам Чаадаев признается позднее графу С. Г. Строганову, что находился тогда во власти «тягостного чувства» и, как передает его слова графу Д. В. Давыдов, был близок к сумасшествию, «в припадках которого он посягал на собственную жизнь».
3
В таком состоянии Чаадаев получает послание, послужившее внешним формообразующим толчком для систематизации его философии. В очередной раз писала Панова, печалясь по поводу потери его благорасположения и делясь с ним своими затруднениями. Она уверяет Петра Яковлевича, что в пылкости ее религиозного чувства нет фальши и актерского стремления заслужить его дружбу. Оно казалось ей подлинным в его присутствии, но затем, в одиночестве, она вновь начинала сомневаться: «Совесть укоряла меня в склонности к католичеству, я говорила себе, что у меня нет личного убеждения и что я только повторяю себе, что вы не можете заблуждаться; действительно, это производило наибольшее впечатление на мою веру, и мотив этот был чисто человеческим. Поверьте, милостивый государь, моим уверениям, что все эти столь различные волнения, которые я не в силах была умерить, значительно повлияли на мое здоровье; я была в постоянном волнении и всегда недовольна собою, я должна была казаться вам весьма часто сумасбродной и экзальтированной…» Повергая на суд Петра Яковлевича свои объяснения и сомнения, Екатерина Дмитриевна просит его написать несколько слов, но не тешит себя радостной надеждой получить их.
Обдумывая ответное послание и набрасывая первые его строки, Чаадаев не может сдержать наплыва мыслей, в которых метаморфозы собственного сознания и душевное неустройство корреспондентки, различные общественно-исторические ситуации и мировые цели как бы перекликаются и просматриваются друг через друга. Все это подсказывает ему искомый жанр выражения накопившихся проблем, соответствующий не только духовному своеобразию адресата, но и характеру его философии, ее широкому предназначению. Теперь начальные строки переделываются, привлекается дополнительный материал, и личное письмо в процессе работы превращается в знаменитое первое философическое письмо.
Его беседы о религии, обращается Чаадаев к «даме», нигде не упоминая имени Пановой, не принесли ей желаемого мира и успокоения, а, напротив, усилили тоску и беспокойство потому, что она не до конца вышла из прежнего состояния и не вполне вверилась новым мыслям. Посему необходимо стараться безбоязненно и самоотверженно отдаваться сердечным движениям, пробуждаемым религиозным чувством. Чтобы сохранить и закрепить эти движения, рекомендует он, следует упражняться в покорном служении богу, то есть строго соблюдать все церковные обряды, внушенные высшим разумом и обладающие животворной силой. Надо также и в повседневности сохранять их дух.
Однако, предупреждает автор письма, осуществлению подобных намерений мешает «печальный порядок вещей», отсутствие в русской действительности «необходимой рамки жизни, в которой естественно размещаются все события дня» и которая нужна для нравственного здоровья, как чистый воздух для здоровья физического. Речь идет, разъясняет он, не о каких-то моральных принципах или философских истинах, а «просто о благоустроенной жизни, о тех привычках и навыках сознания, которые сообщают непринужденность уму и вносят правильность в душевную жизнь человека». Именно отсутствие благоприятных внешних условий для должного душевного режима, замечает автор, не позволяет «даме» взрастить брошенные им в ее сердце семена веры, претворить в реальность «величавые эмоции созерцания».
Без убеждений же и правил в повседневном обиходе, незаметно переходит он от личных проблем к социальным, не созревают семена добра и в русском обществе, где, по его мнению, нет развития элементарных идей долга, справедливости, права, порядка и никто не имеет «определенной сферы существования». Но ведь эти идеи и упорядоченность общественного бытия, вводит он элементы контраста, составляют атмосферу современного Запада, стали «физиологией европейского человека». Почему же, повышает Петр Яковлевич интонацию, мы не умеем жить разумно в эмпирической действительности? И почему то, что у других народов обратилось в инстинкт и привычку, нам «приходится вбивать в головы ударом молота»?
Для ответа на подобные вопросы Чаадаев обращается, постепенно расширяя и углубляя сравнительную характеристику России и Европы, к истории, являющейся, по его словам, «ключом к пониманию народов». Идеи, связанные с таинственным смыслом исторического процесса, с ролью отдельных стран, в частности России, в судьбах всего человечества, занимают центральное место в его мыслительной деятельности и составляют главный стержень первого философического письма, для лучшего уяснения своеобразия выводов которого важны высказывания из других философических писем, а также из более поздней переписки. Он выражал на особый лад общую тягу эпохи к историзму, по-своему преломившуюся, как известно, в творческом опыте Пушкина, к философскому осознанию протекших и грядущих веков. «Современное направление человеческого духа, – писал Чаадаев, – побуждает его облекать все виды познания в историческую форму… Можно сказать, что ум чувствует себя теперь привычно лишь в сфере истории, что он старается ежеминутно опереться на прошлое и лишь настолько дорожит вновь возникающими в нем силами, насколько способен уразуметь их сквозь призму своих воспоминаний, понимания пройденного пути, значения тех факторов, которые руководили его движением в веках». Словно дополняя эти слова, Герцен в начале 40-х годов замечал: «История поглотила внимание всего человечества и тем сильнее развивается жадное пытание прошедшего, чем яснее видят, что былое пророчествует, что, устремляя взгляд назад, мы, как Янус, смотрим вперед».
Пытая прошедшее и стремясь угадать пророчества былого, Чаадаев не находил ответов на волновавшие его вопросы в «обиходной», по его выражению, истории. Под обиходной историей он понимал эмпирический, описательный подход к различным социальным явлениям, в котором нет нравственной ориентации и надлежащего смыслового исхода для человеческой деятельности. По его мнению, такая история, в которой со своей совершенно свободной волей действует «только человек и ничего более», видит в беспрестанно накапливаемых событиях и фактах лишь «беспричинное и бессмысленное движение», бесконечные повторения в «жалкой комедии мира».
Подлинная, философски осмысленная «во всем ее рациональном идеализме» история, по мысли Чаадаева, должна «признать в ходе вещей план, намерение и разум», должна постигнуть человека как нравственное существо, изначально многими нитями связанное с «абсолютным разумом», «верховной идеей», «богом», «а отнюдь не существо обособленное и личное, ограниченное в данном моменте, то есть насекомое-поденка, в один и тот же день появляющееся на свет и умирающее, связанное с совокупностью всего одним только законом рождения и тления».
Следует сказать несколько слов о религиозном аспекте философических писем Чаадаева, который, по словам Чернышевского, был «человек глубоко религиозный и все свои мысли подводил под точку зрения назидательного благочестия». Чаадаев называл себя христианским философом, что, по мнению советских исследователей, является точной самооценкой. «Верная оценка Чаадаева, – замечает М. Григорьян, – пожалуй, дана самим же Чаадаевым: он «христианский философ». Такого же мнения придерживается и З. Смирнова: «Чаадаев действительно был христианским философом». Игнорирование христианского начала ведет к существенному искажению своеобразия всего творчества Чаадаева, о чем напоминает Л. Филиппов: «До сих пор нет-нет да и встретится еще такое мнение: мировоззрение того или иного писателя, общественного деятеля, мыслителя, связанного в своем творчестве с религиозной традицией, содержательно до тех пор, пока оно не касается религии. Однако опыт исторической науки показывает (а изучение взглядов Чаадаева лишний раз подтверждает), что без исследования всего комплекса идей данного мыслителя, в том числе и религиозных», невозможен подлинно научный подход к явлениям культуры.
Следует подчеркнуть нетрадиционность «христианской философии» Чаадаева. В ней не говорится ничего ни о греховности человека, ни о спасении его души, ни о церковных таинствах, ни о чем-либо подобном. Чаадаев делал умозрительную «вытяжку» из библейского материала и представлял христианство как универсальную силу, способствующую, с одной стороны, становлению исторического процесса и санкционирующую, с другой стороны, его благое завершение.
По мнению Петра Яковлевича, в обозримом течении времен такая сила наиболее выпукло проявилась в католичестве, где «развилась и формулировалась социальная идея христианства», определившая ту сферу, «в которой живут европейцы и в которой одной под влиянием религии человеческий род может исполнить свое конечное предназначение», то есть установление земного рая. Таким образом, религиозно-философское и социально-прогрессистское начала, эти два главных ответвления «одной мысли», созревшей у Чаадаева в деревенском одиночестве, сливаются сейчас под его пером в органическое целое, в действительно подлинную «одну мысль» именно через католичество, где им как раз подчеркнуто двуединство религиозно-социального принципа.
В католичестве Чаадаева и привлекало прежде всего соединение религии с политикой, наукой, общественными преобразованиями, другими словами – «вдвинутость» в историю. Герцен отметил в своем «Дневнике»: «В нем (Чаадаеве. – Б. Т.) как-то благородно воплотилась разумная сторона католицизма. Он в ней нашел примирение и ответ, и притом не путем мистики и пиетизма, а социально-политическим воззрением». Плеханов, словно перекликаясь с Герценом, замечал по этому поводу, что «общественный интерес выступает на передний план даже в религиозных рассуждениях Чаадаева». По мнению последнего, «Святой Дух был всегда Духом века», что прочно усвоила римская церковь, возложив на себя «обязанность непрестанно приспособляться к духу времен». Говоря в письме к Пушкину о скором пришествии человека, который должен принести «истину времени», Чаадаев подчеркивал связь католичества с временной насущностью и вместе с тем с перспективностью исторических нужд: «Быть может, на первых порах это будет нечто, подобное той политической религии, которую в настоящее время проповедует Сен-Симон в Париже, или тому католицизму нового рода, который несколько смелых священников пытаются поставить на место прежнего, освященного временем. Почему бы и не так? Не все ли равно, так или иначе будет пущено в ход движение, имеющее завершить судьбы рода человеческого?»
Политико-исторический аспект чаадаевского толкования католицизма тесно связан с активным общественно-преобразовательным началом в римской церкви. Он характеризовал католицизм как «религию вещей», а не как «религию форм». «Начало католичества, – убеждает он А. И. Тургенева, – есть начало деятельное, начало социальное прежде всего». Католичество, по мнению Чаадаева, «восприняло Царство Божие не только как идею, но еще и как факт», и в нем, писал он, все способствует поступательному движению к лучшему будущему.
Способствует этому, как считал он, и теократическая мощь католической церкви, позволяющая ей соперничать с государством и силой внедрять в социальную жизнь «высокие евангельские учения» для искомого единства и благоденствия христианского общества. Его не смущало (хотя он не одобрял насилия в современных революциях), что для достижения поставленных целей были использованы противоположные им средства – религиозные войны, костры инквизиции и т. п.: «Мы можем только завидовать доле народов, создавших себе в борьбе мнений, в кровавых битвах за дело истины целый мир идей, которых мы даже представить себе не можем…»
Образованию этого мира идей, той сферы, в которой живут европейцы и которая включает в себя духовные и материальные достижения Европы, стало возможным, по мысли Чаадаева, лишь благодаря активному развитию социально-политических сторон западного христианства. «Все политические революции были там, в сущности, духовными революциями: люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние…» Историческое призвание католической церкви, писал он в послании к княгине С. С. Мещерской, состояло в том, чтобы «дать миру христианскую цивилизацию, для чего ей необходимо было сложиться в мощи и силе… если бы она укрылась в преувеличенном спиритуализме или узком аскетизме, если бы она не вышла из святилища, она тем самым обрекла бы себя на бесплодие».
Современные европейские успехи в области культуры, науки, права, материального благополучия являлись, по мнению Чаадаева, прямыми и косвенными плодами католицизма как «политической религии», оценивались им как «высота человеческого духа», как своеобразные залоги будущего совершенного строя на земле, его, так оказать, промежуточная стадия. Несмотря на признаваемые им несовершенства западного мира, Чаадаев все-таки склонен был считать, что «царство Божие до известной степени осуществлено в нем, ибо он содержит в себе начало бесконечного развития и обладает в зародышах и элементах всем, что необходимо для его окончательного водворения на земле».
Каковы же конкретно эти зародыши и элементы? Во-первых, разумная, как ее называл Чаадаев, жизнь в эмпирической действительности: бытовой комфорт и благоустроенность, цивильные привычки и правила и т. п. Во-вторых, высокий уровень просвещения и культуры западных народов, которые «постоянно творили, выдумывали, изобретали». Для их творчества и изобретательства характерны «власть идей, могучих убеждений и великих верований», с помощью которых мудрецы и мыслители духовно вели народные массы к более совершенной жизни, а одновременно и «логическая последовательность», «дух метода». В сокровищнице народов Европы находится много поучительных открытий. В-третьих, наличие отлаженных юридических отношений и развитого правосознания. Поэтому-то атмосферу Запада, «физиологию европейского человека» и составляют «идеи долга, справедливости, права, порядка».
Толкование Чаадаевым христианства как исторически прогрессирующего социального развития, отождествление им «дела Христа» с окончательным становлением «земного царства» послужили ему основой для резкой критики современного положения России и ее истории.
На родине он не находил ни «рамки» и «навыков» повседневного бытия, ни «элементов» и «зародышей» социального прогресса и видел основание этого «печального порядка вещей» в особенностях ее прошлого: «Сначала дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, – такова печальная история нашей юности». Вместо энергичной деятельности и бурной игры духовных сил, когда в молодости западных стран закладывались обычаи, героические предания, искусства, науки и т. д., – тусклое и мрачное существование, злодеяния и рабство. «Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании… ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы всем о прошлом, который воссоздавал бы его перед вами живо и картинно».
Фундаментальную причину такого положения России Чаадаев видел в том, что, обособившись от католического Запада в период церковной схизмы, «мы ошиблись насчет настоящего духа религии» – не восприняли «чисто историческую сторону», социально-преобразовательное начало как внутреннее свойство христианства и потому «не собрали всех ее плодов», то есть плодов науки, культуры, цивилизации, благоустроенной жизни. «В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу», «мы живем в тесных пределах настоящего, без прошедшего и будущего», ибо стоим «в стороне от общего движения, где развилась и формулировалась социальная идея христианства».
Когда под энергичным воздействием этой идеи складывалась «храмина современной цивилизаций», русский народ обратился за нравственным уставом к византийскому православию, которое легло в основу его воспитания и было воспринято в догматической чистоте и полноте. «Народ простодушный и добрый, – замечал Чаадаев в письме к графу Сиркуру, одному из основных его корреспондентов во Франции, – чьи первые шаги на социальном поприще были отмечены знаменитым отречением в пользу чужого народа, этот народ принял высокие евангельские учения в их первоначальной форме, то есть раньше, чем в силу развития христианского общества они приобрели социальный характер, задаток которого был им присущ с самого начала…» По мысли Чаадаева, первоначальная чистота «высоких евангельских учений» при неразвитости задатков социального характера чрезвычайно усилила в русской нации аскетический элемент, оставляя в тени начала общественно-культурного строительства западного типа.
Общественно-исторической «выдвинутости» православной церкви из построения «земного царства» соответствует и слабость ее теократической мощи, отсутствие светски-правительственного господства: «духовная власть далеко не пользовалась в нашем обществе всей полнотой своих естественных прав».
Для того чтобы выйти из этого существования, достичь европейских успехов и участвовать в мировом прогрессе, Чаадаев считал необходимым России не просто слепо и поверхностно усвоить западные формы, но, впитав в кровь и плоть социальную идею католицизма, от начала повторить все этапы европейской истории.
Подражательное же заимствование, как он полагал, ведет лишь к перениманию обманчивой внешности, бесполезной роскоши и ложных идей. Например, когда «великий человек» (речь идет о Петре I) возжелал просветить нас и «кинул нам плащ цивилизации», мы подняли его, но «не дотронулись до просвещения».
Таков был путь размышлений, который приводил Чаадаева к решительному выводу в первом философическом письме о вторичности и незначительности судьбы России, о необходимости органической переделки ее самобытной жизни по образцу европейско-католических традиций и достижений. Важно подчеркнуть, что большинство современников и представители многих последующих поколений судили о всей системе мыслей Чаадаева только по опубликованному в 1836 году в журнале «Телескоп» первому философическому письму, составляющему лишь, так сказать, прикладную и «подвижную» часть этой системы, способную выполнять роль как вступления, так и заключения. Пушкин, прочитав в рукописи отдельно от других два философических письма, писал Петру Яковлевичу: «Мне кажется, что начало слишком связано с предшествовавшими беседами, с мыслями, ранее развитыми, очень ценными и несомненными для вас, но о которых читатель не осведомлен». Осведомленность читателя в особенностях творчества Чаадаева зависит не столько от знакомства с нашумевшим «телескопским» письмом и тем более с отзвуками на него, сколько от внимания к внутренней логике всех философических писем, а также других его произведений в их неразрывном единстве. Именно эта логика служит настоящей точкой отсчета для сравнения всех последующих поворотов в его воззрениях.








