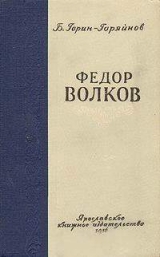
Текст книги "Федор Волков"
Автор книги: Борис Горин-Горяйнов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
Драма во французском изложении
Федор страдал всего более из-за невозможности увидеться наедине с Таней. Зная ее порывистую, неуравновешенную и глубоко чувствующую натуру, он вправе был ожидать самой неожиданной развязки. Чтобы предотвратить возможные осложнения, необходимо было увидеться и договориться с Таней.
Федор в сумерках целыми часами бродил возле дома Майковых, выжидая, не появится ли мадам Любесталь, а быть может и сама Таня.
Однако все ожидания были тщетны. Дом Майковых, казалось, вымер. Изредка через ворота приходили и уходили дворовые. Федор тщетно ломал голову, каким бы путем подать Тане весточку или знак, что ему необходимо с ней встретиться. И ничего не мог придумать. Вмешивать в дело дворовых людей Майкова было и рискованно, и претило открытому характеру Федора. Кое-где в окнах зажигались огоньки, изредка мелькали чьи-то тени, – быть может, ее. Но на крыльце никто ни разу не показывался.
Пробродив без толку час и два, Федор медленно уходил, поминутно оглядываясь и на что-то надеясь.
Дома – раздумье и бессонная ночь. Все равно ложиться бесполезно, – до света не уснешь. Брал фонарь, шел на постройку. Лазал с опасностью для ног по развороченному провиантскому складу. Прикидывал, что уже сделано и сколько еще потребно сделать. Такие осмотры были неутешительны и бесцельны, но они помогали на время забыться. Федор и днем, когда работали плотники и каменщики, забегал туда поминутно, точно надеясь на какое-то чудо, способное подвинуть стойку. Никаких признаков чуда не замечалось. Все шло так, как и должно было идти при случайном поступлении средств и при ограниченном числе рабочих. Да и этих нередко нечем было оплатить во-время.
Иногда ночью, во время бессоницы, Федору вдруг казалось, что он напал на верную мысль, каким путем облегчить и ускорить работу в той или иной части театра. Он поспешно вскакивал, наскоро одевался и с фонарем бежал на постройку. Такие мысли обычно оказывались обманчивыми.
Проходили дни теплые, радостные. Не веселили они только сердце Федора, не чувствовал он в этом году благотворного действия весны.
Как-то под вечер Федор сидел один за столом у себя во флигеле, бесцельно и бессмысленно глядя на чистый лист бумаги. Смеркалось. Незаметно юным телом овладела какая-то расслабленность.
Встряхнув волосами, Федор пришел в себя. Совсем темно. Надо вздуть огонь.
«Неужели я вздремнул? И то. Все эти ночи не сплю, выбился из сна вчистую».
За дверью кто-то скребется или шарит ручку двери.
– Кто там?
Не отвечают. Федор подошел и широко распахнул дверь. Из темноты выступила чья-то закутанная фигура.
– Мадам Любесталь!..
– Эти я, mon cher ami… Здесь такой темь… Я боялься провалить куда в подземель. Ви один, мосье?..
– Да, да, мадам, входите. Ну, что у вас? Случилось что? Что же вы молчите, мадам? Как Татьяна Михайловна? Да говорите же!
Француженка тяжело опустилась на стул.
– О, mon Dieu!.. О, mon cher ami!..[39]39
Ах, боже мой, боже мой!.. Ах, мой дорогой друг!
[Закрыть]. О, мой маленьки птичка!..
– Да будет вам охать, мадам! Скажите хоть два слова, да нужные. Ведь все ваши оханья муке подобны! – раздраженно воскликнул Федор Григорьевич.
– Терпень, мосье! Немножки терпень!.. И немножки это… galanterie[40]40
Галантность.
[Закрыть]… вежлив… Ви имейт говориль с французски дам, – она перешла на свой всегдашний, слегка обиженный тон. – Я випольняй мой миссий честни!
Француженка порылась в бесчисленных складках своего корсажа, извлекла из его глубин мелко сложенную бумажку, торжественно положила ее перед Федором на стол.
Федор прочитал неясные карандашные строки:
«Я перенесла ужасную бурю. Она едва не смела меня совсем. Хочу вас видеть. Подробности от м-м Л. Т.»
Мадам Любесталь, со множеством лирических отступлений и риторических украшений, на две трети по-французски, передала подробности разыгравшейся у Майковых драмы.
Федор понял только следующее.
Тотчас после его ухода в тот злополучный вечер мадам Любесталь вбежала в кабинет Ивана Степановича на раздавшиеся там ужасные крики.
«Разъяренный, как тигр», мосье Майков неистовствовал, мечась по комнате. Он сорвал с себя парик, потрясал им в воздухе и призывал все громы небесные на свою непокорную племянницу.
– Ви подумай, мосье: гром небесни на этот маленьки птичка! – возмущенно восклицала мадам Любесталь, вытирая платочком свои глаза.
Майков бушевал долго, «отводиль душ», по выражению мадам. Танечка, с виду спокойная, только мертвенно-бледная, «как мраморная Ифигения», стояла, прислонившись к креслам и, казалось, выжидала, когда утихнет бешенство дяди. Наконец, «разъяренный тигр» прекратил свои рыкания и повалился обнаженной лысой головой на стол. Тогда заговорила «тихая, бедная овечка». Она сказала, что ее благодарность к нему безгранична; она понимает, что он заменил ей отца, но она не может оставаться тепличным цветком, будет делать то, что велит ее сердце…
Последние слова были заглушены новым взрывом бешенства «разъяренного тигра» и двумя истериками «обескровленных им двух несчастных жертв». Под страшные истерические вопли старых дев, «захлебывавшихся слезами на большом диване», Иван Степанович «громовым голосом» крикнул слуг, которым приказал схватить «негодяи мадемуазель, связать ее и бросить в темниц». Проще – запереть в темный чулан под лестницей.
Тогда Таня, – «о, ужас! ужас!» – схватила со стола «остри стилет» – разрезной нож – «и вонзаль его прямо себе в беленьки грудки».
– О, мосье! О, мой добри бог! Я не видель свет! – с трагическим пафосом вскрикивала француженка. – Но добри француски бог подвинуль меня совсем близко к этот несчастий птичка… Я успель схватиль за стилет и отклонил страшни оружи в сторонки. Voilá, monsieur[41]41
Вот, сударь.
[Закрыть], – француженка показала свою забинтованную руку. – Пораниль отшинь опасни…
– А Таня, Таня? Что с Татьяной Михайловной? – допытывался Федор, отстраняя руку, которую француженка разбинтовывала, чтобы показать рану.
– Бедни птичка опустиль на кресло. Я сам вигоняль слюг… Сам зажималь ее ранки в платок, – маленьки ранки поверх, – сам обливаль из графин двух мадемуазель… И сам ругаль последни слёв ужасни мосье.
В общем, все обошлось благополучно. Ранения Тани и мадам Любесталь перевязали накрепко. Иван Степанович похныкал и снова надел свой парик. Старые девы обсушились и поправили свои завивки.
Таня страдает «не от ранки на грудь, а от рани на сердце», – пояснила мадам.
Француженка еще долго болтала, то и дело возвращаясь к различным подробностям этой семейной драмы.
Дальше выяснилось, что старый мосье очень расстроен, никого не желает видеть и завтра уезжает в свое поместье, за сорок верст. Ему готовят дормез[42]42
Удобная дорожная карета, в которой путешествующие могут спать.
[Закрыть].
Самое существенное, как это и должно было быть, мадам приберегла к самому концу.
Таня желает видеть «мосье Волькоф». Просит завтра зайти, как всегда, под вечер, к ним в дом смело и открыто, независимо от того, уедет в имение дядя или нет. Она будет ждать непременно.
Федор Григорьевич обещался быть.
Эпилог к драме по-русски
Благодаря забавной передаче мадам Любесталь, эта в общем, конечно, тяжелая и неприятная история с Таней начала представляться Федору несколько в комическом виде. Вспоминая патетические речи мадам, ее уморительную мимику и ее геройское участие в предотвращении драмы, Федор несколько раз улыбнулся.
«Итак, старик уезжает проветриться, – думал Федор неотвязно все об одном и том же, уже лежа в постели и тщетно пытаясь заснуть. – Ведомо ему о приглашении моем или нет? Ежели нет, то сие неприятно. Выйдет как бы по-воровски… Али по-детски задиристо. Последнее – в характере Тани!..
Уедет Майков – помощи обещанной не даст… И лучше. Не хочу я помощи никакой от господ подобных. Удушением нравственным пахнет сие. А задержки новые с театром? Вывертываться надлежит как ни на есть, но осторожнее. Силами своими. Рублев бы два ста пока… Глядишь – и управимся в главном. Из дела взять остатние? Похерить участие свое в волковских заводах начисто? Мать дюже распалится…»
С этими невеселыми мыслями Федор наконец заснул. Было уже совсем светло.
Проснулся Федор поздновато, часу в девятом. Заглянул в комнату брат Гаврило:
– Не вставал еще? Али недужится? Там тебя в конторе рабочие дожидаются.
Федор вскочил. Со стройки?
– Надо быть, нет. Чужие. Ситниковских я видел как бы. Анучины тож.
«Что им до меня?» – думал Федор, наскоро одеваясь.
В конторе собралось человек с десяток рабочих. Некоторых Федор знал лично, других видел на комедиях в сарае. Вот эти двое – с полотняной фабрики Ситниковых; эти надо быть, позументщики от Анучина.
При его появлении, кто сидел, встали.
– Доброго здоровья, братцы, – поздоровался Федор.
– Здравствуй, Федор Григорьич, – ответили ребята.
– Вы ко мне? Долго ждете? Вот чудаки! Чего же ране не послали?
– Да нет, мы токмо что ввалимши, – раздались голоса.
– По какому делу-то? И по-праздничному так? – рассмеялся Федор. – В кумовья, что ли, звать? Али в отцы посаженные?
– Во-во! В отцы и есть! – весело подхватил разбитной, вихрастый и курносый парень Ефим Тяжов, ярый участник канатчиковских забав. – В комедианты пришли наниматься всей ватагой…
Рабочие дружно загалдели;
– Выходит, как бы и так… Вроде что…
– Больно много вас, робя. Помещать некуда. И прокормить такую ораву не в силах буду.
– Сами прокормимся, – смеялся Тяжов. – Опосля комедии по клетям, да по огородам.
Опять все посмеялись:
– На огородах-то еще, кроме прошлогоднего хрена, ничего нет.
– Ну ладно, робя! Неча тары-растабары да лясы точить. Выкладывай дело. Говори ты, Анфим, – прервал галдеж суровый Глеб Клюшкин.
– Вот како дело-то, Федор Григорьич, – начал, слегка стесняясь и почесывая в затылке, ситниковский Анфим. – Робята, вот, дюже затею вашу одобряют. И во дворе котора, и котора строится. Око нам сподручно, в кабак чтобы пореже бегать, ну и прочее. Вот робята и решили… Дела-то твои не шибко идут, ведомо нам, в рассуждении, значит, капиталов… А дело того, поспешения требует…
– Давай начистоту! Будя сусло рассусоливать! – раздались голоса.
– Загалдело воронье! Нет рассуждения, чтобы по-обстоятельному, – огрызнулся Анфим.
– Правильно, Анфим, вали дале! – поддержали другие.
– Так вот, – продолжал Анфим, теребя в руках шапку, – робята, значит, всей артелью… собрамши малу толику… как ты задарма нас пущаешь… Ну и все. Заручку оказать тебе желают. Давай-ко, Митряй!
Митряй поднял с полу в углу увесистый мешок и положил его на стол перед Федором. Мешок глухо звякнул.
– Что тут у вас, братцы? – начал догадываться Федор.
– На расходы собрамши тебе. Уж не обессудь, скоко в силах. Вроде как наш пай. Всю зиму по мастерским собирали. Кто скоко может, значит, посильно… Все! – закончил Анфим, отодвигаясь в сторонку.
Выступил Митряй Анкудинов, с пуговичной, хорошо грамотный парень, бывший, очевидно, у артели казначеем. Развернул серую мятую бумажку, разгладил ее, положил поверх мешка.
– Два ста и полета с гривной тута… Вот. Все замечено, с кого и скоко. Покеда, може, обернешься, а там – сызнова робят можно обежать…
Федор до глубины души был растроган искренностью и сердечностью приношения.
– Ребята, ребята! – сказал он, покачивая головой. – У самих ведь последнее!
– Последняя у попа жена, да и та обчая, – ввернул Ефим Тяжов.
Все захохотали.
– Ну, спасибо, братцы, – сказал взволнованный Федор. – Кабы знали вы, как вовремя потрафили!.. Лучше и нельзя.
– В точку, значит? – засмеялись рабочие.
– Уж так-то в точку! Баре наобещали, да на попятную. А свое что было, мы с Серовым просадили вчистую.
– Ну, Серов, чай, не все, – сказал кто-то.
– Кто его ведает? Сказывал, больше не в силах.
– Поддержим! Не робей, воробей! – подбодрял Ефим.
– Растроган я, друзья, – говорил Федор. – Чую, немало трудов стоило вам оное.
– Труды – что! Лаптей много истрепали за зиму, бегаючи, – не унимался веселый Ефим. – Когда мекаешь комедии-то в дело двинуть, Григорьич?
– Дворовую – в воскресенье зачнем. Милости прошу всех. Гостями дорогими будете. И ребят других тащите, всем добрые места будут, не в пример прочим. А ту, что строится, – надо быть, не раньше осени. По-теплому она будет.
– Важно! В зиму-то оно и пристань нам. А то по нарам валиться – бока болят, в кабак бежать – сугробов дюже много. Да на пуговицы анафема-целовальник и не отпущает, – балагурил Ефим.
– Да, вот чего, Григорьич, – вспомнил Анфим. – Наказ от робят: задарма чтоб не пущать. Пеню положь каку малую. На оборотку чтоб было. Чистоган, значит. И с сарая також.
– Нет, братцы, в сарае пущай уж как было остается. А с театром – посмотрим. Задачку вы мне задали, ребята. Ценна ваша помощь и благовременна. Токо как я с вами рассчитываться буду? В кой срок вернуть смогу?..
– Каки расчеты! – загалдели голоса. – И с кем расчет вести? Поди, упомни всех, кто давал! Айда, робя! Не праздник, чай. Хозяева, поди, скулят и то…
– Прощенья просим, Григорьич. Бывай здоров.
– Помните, ребята, сие пай ваш в дело. Хозяева вы теперь равные, – говорил Федор, прощаясь с каждым за руку.
– Пай, пай, ладно! Пошли, робя!..
Федор проводил гостей до ворот. Он был сверх меры доволен нежданной помощью и горд сознанием, что его дело, оказывается, далеко не безразлично для тех, кому каждый грош достается потом и кровью. Сознание понятой полезности дела воодушевляло его.
Когда Федор Григорьевич подходил к дому Майковых, уж совсем смеркалось. От огромного запущенного сада пахло сыростью и распускающимися почками. Без конца перекликались какие-то две неизвестные Федору птички, и все одними и теми же словами: «Тилинь-тинь-тинь-тинь!.. Тилинь-тинь-тинь-тинь!..» Федор невольно замедлил шаги и долго слушал их переговоры. В переводе на человеческий язык получалось что-то вроде: «Поди-ка ко мне… Поди ты сюда…» – и так без конца.
Широкие ворота господского дома были открыты настежь. Во дворе, у самых ворот, конюх или кучер лениво, одной рукой, подгребал граблями натрушенное сено. Бесконечно тянул одно и то же:
«Ла-а-асты… Эх, да ла-стычка…
На-а-апро… Эх, на прота-алинке…»
Свободною от работы рукою певец зажимал левое ухо – для звучности. Увлеченный своей музыкой, он не слышал оклика Федора Григорьевича. Пришлось повторить дважды.
– Ты, что ли Егор?
– Ась?
– Ты, Егор?
– Егор весь вышел, а я за него, – неторопливо ответил незнакомый голос.
– Как барин?
– Барин-то? А барин, как барин. Ништо ему… Не наше горе…
«Ла-а-асты… Эх, да ла-астычка…»
Федор махнул рукой и направился к крыльцу. В доме ни одного огонька. Постучал раз, и два. Не открывают. Постучал сильнее и продолжительнее. Где-то хлопнула дверь. Послышались шаги. Федор покашлял.
– Кто тамо-тка?
– Я… Волков.
Долго отодвигали тяжелый засов. Дверь открылась. Старый слуга, которого в доме все звали Кирюшкой, поднял с пола зажженный фонарь.
– Здравия желаю, Федор Григорьевич.
– Здравствуй, Кирюша. Барин дома?
– Никак нет. Барин изволят быть уехадши. А барышни?
– Не изволят принимать. Недужны дюже…
– Как? Все три?
– Никак нет. Токмо две персоны…
Наверху лестницы со звоном распахнулась стеклянная дверь. На площадку стремглав выскочила растрепанная, возбужденная мадам Любесталь с медным шандалом в руках.
– О, mon Dieu! Mon cher ami!.. Quel horreur![43]43
Ах, боже мой! Мой дорогой друг! Какой ужас!..
[Закрыть]
– Что случилось, мадам? – в тревоге закричал Федор, взбегая на верхнюю площадку лестницы.
– О! Я биль под арест! Ви подумай, мосье! Я, французски гражданка, биль под арест! Чулян! Под лестниц! Под страж!.. О!.. О!.. Я, его подруг жизни!..
Она хватала за руки Федора, обливая и себя и его растопленным салом с шандала.
– Успокойтесь, мадам… Говорите толком, что случилось?
Мадам Любесталь с треском, как барабанную дробь, просыпала целый поток французских проклятий.
Она была в каком-то бесформенном капоте, в клочья изодранном на груди. Ни парика, ни пудры. Жидкие седые косички беспорядочно торчали во все стороны. Глаза метали искры. Губы работали с поразительной быстротой, ни на мгновение не останавливаясь и разбрасывая брызги во все стороны.
Поставив шандал на балюстраду лестницы, она что-то представляла в лицах, ни на секунду не ослабляя потока слов.
Выждав момент, когда француженка захлебнулась, наконец, словами и закашлялась, Федор сказал:
– Мадам, поймите, что я ничего не понял. Вы говорили на языке мне не знакомом. Вся ваша прекрасная декламация пропала даром. Не будете ли вы добры повторить все это сначала, но по-русски?
Мадам Любесталь, повидимому, начинала приходить в себя. Она подбирала свои косички, терла лоб, хмурила брови, как бы с трудом собирая растерянные мысли. Наконец, сказала почти спокойно:
– Они уехаль.
– Кто? Куда?
– Стари тигр и Танья. Моску.
– Иван Степанович и Татьяна Михайловна? В Москву?
– Оу да, мосье. Я же все сказаль…
– Когда? Когда сие случилось?
– Когда? Когда биль еше темно. Прежде два слюг виносиль маленьки птичка в дормез. Потом посадиль туда эти ужасни тигр. Et c'est tout…[44]44
И это все.
[Закрыть] О, мосье! Птичка биль как неживой. Ми ничего не предвидиль… Я питаль вирвать птичка из когти тигр, а он… О quelle horreur! – Тигр наказаль слюг посадиль меня темниц, под лестниц, и там держаль до вечер. Меня! Французски гражданка и свой подруг жизни!.. О, mon Dieu, mon Dieu!.. Я желаль положить руки на себя, мосье.
Федор молча повернулся и начал медленно спускаться с лестницы. Вслед ему неслись неистовые вопли мадам:
– Мосье!.. Мосье!.. И ви меня покидаль! О, каки ужасни людь!..
Федор больше ее не слушал. Он молча, не оборачиваясь, спустился с крыльца и медленно пошел прежней дорогой вдоль сада. Две неугомонные птички все еще перекликались:
«Поди-ка ко мне… Поди ты сюда…»
В дальнюю дорогу
Подходило к концу второе лето существования комедии в кожевенном сарае. Из новинок за все лето была показана только одна маленькая комедия Сумарокова «Трисотиниус». Да по настоянию о. Иринарха показали «Трагикомедию о Владимире», ранее отправленную в соборном доме. Новых пьес не было. Зато все старые были вытвержены на зубок; каждый знал и свои и чужие роли. Играли, не пропуская ни одного праздника. Трагедии «Хорев», «Синав и Трувор», «Артистона», «Гамлет» – сменяли одна другую. Не забывали и комедий: шли «Бедный Юрген» и «Всяк Еремей».
«Титово милосердие» было совсем готово, и перевод и партитура. Шло усиленное разучивание музыки сборным, очень своеобразным оркестром, а также – довольно несложных номеров пения некоторыми участниками.
Опера приберегалась к открытию «большого театра», Изменился значительно состав смотрителей, по сравнению с прошлогодним.
Городская знать почти перестала посещать сарай. Зато от своей публики положительно не было отбоя, сколько бы раз ни повторялась одна и та же «комедия». Ни о Татьяне Михайловне, ни о самом Майкове не было никаких известий. Они как в воду канули.
Заходила несколько раз мадам Любесталь. Она была попрежнему настроена очень воинственно, угрожала «тигру» всеми карами неба и собственными когтями, но решительно ничего не могла сообщить о Тане.
Федор вначале остро и мучительно переживал разлуку с Татьяной Михайловной. Безотчетно, как в полусне, делал, что полагается: разговаривал с людьми, глядел на стройку, пил, ел, играл. Но мысли его были от всего этого далеки, он весь как бы погрузился в такое недавнее, теперь безвозвратно отлетевшее прошлое.
Совсем неожиданно для себя, в одно раннее солнечное утро вскочил с постели, полный какой-то бунтующей энергии. Сам удивился давно не испытываемому приливу сил. Лихорадочно оделся и сразу же с головой окунулся в бесчисленные дневные хлопоты. Так и пошло день за днем.
«Точно в освежающую воду прыгнул», – удивлялся Федор; и он больше всего боялся, как бы этот приток сил не иссякнул так же неожиданно, как и появился. Но поток не иссякал, и Федора это радовало. Как он ни гнал прочь «ненужные» мысли, они иногда побеждали его волю, подминали под себя, заставляли возвращаться к прошлому. Однако это прошлое, еще недавно такое острое, сладкое и вместе мучительное, понемногу тускнело, заволакивалось не совсем неприятной дымкой легкой грусти, налетом какого-то призрачного, слегка будоражащего тумана. Временами туман как бы сдувало ветром, и тогда попрежнему становилось мучительно и больно. Но такие моменты обострения проходили быстро, и снова все заволакивалось грустно-призрачным туманом.
Ежечасная сутолока напряженной и любимой работы все меньше оставляла времени на длительные размышления по поводу случившегося.
К сентябрю зимний театр в основном был готов. Получилось совсем приличное и внушительное здание, хотя и довольно невзрачное с виду. Не хватало средств побелить его или окрасить должным образом.
Внутри помещение вышло и совсем хорошо – в два яруса, с удобной и вместительной галлереей – как и подобает в настоящем театре. Сплошные сиденья для смотрителей шли, повышаясь, длинными рядами. По сторонам были отгороженные боковые места. Кроме того, впереди – четыре особо выгороженные «лоджии» для начальства, согласно условию.
Имелось достаточное количество печей, но пока не было средств купить дров.
Зал был чисто выбелен, и даже местами расписан «блафонами»[45]45
«Блафоны» – искажение слова «плафоны», расписные потолки.
[Закрыть].
Федора Григорьевича радовал вид сцены – высокой и просторной, с закрытыми помещениями для комедиантов по сторонам и с пристройкой для хранения театрального имущества сзади.
Сейчас в театре шла полным ходом внутренняя отделка, покраска и местами обшивка тесовыми панелями.
Вся архитектурная часть работы была выполнена по планам самого Волкова.
Изготовлялись кустарным способом, заново, декорации для всех постановок. Декорации из сарая по новому помещению не годились. Их решили употребить на вспомогательные поделки. В изготовлении декораций, кроме Ивана Иконникова, совсем забросившего свою богомазную работу, и самого Федора, принимали деятельное участие решительно все охочие комедианты. Каждому находилось дело по плечу: кто подмазывал, кто подклеивал, кто подколачивал, кто грунтовал.
Федор Григорьевич составлял примерные рисунки, делал чертежи, сам расписывал «блафоны». Сильно пристрастился к этому делу способный на все Ваня Нарыков. От усердия и горячности он постоянно ходил перемазанный красками.
Дед Вани, дьякон Дмитрий, буквально купался с утра до ночи в горшках с красками. Свое длинное поповское полукафтанье, с честью прослужившее ему около полувека, он заменил более коротким и не менее бесформенным, выговоренным им за какую-то услугу о. Иринарху из тряпья оружейной палаты. Дьякон наименовал свое новое одеяние «плафором», но едва ли оно могло иметь точное наименование на человеческом языке, в силу фантастичности своего покроя. Во всяком случае, отставной дьякон со своим «духовным» видом развязался, даже расплел и расчесал свою косичку, – «обмирщился», как он заявлял всем и каждому.
Благодаря своему преображению, дьякон получил от поповской братии презрительную кличку «стрюцкой». Однако и сам не оставался в долгу. «Костерил», по его собственному выражению, длиннополых халдеев на каждом углу и по всякому поводу.
Кружевницы сестры Ананьины, Ольга и Марья, в семье охочих комедиантов считались своими людьми. Смелой и хорошенькой Манечке только что исполнилось семнадцать лет. Ольга была на два года старше. Они содержали себя и старуху мать вязаньем кружев, считались хорошими мастерицами. Отец умер давно, поэтому девицы с детства привыкли чувствовать себя сами «головами» и за свои поступки были ответственны только перед собой. Обе были достаточно грамотны. Старшая даже слыла начетчицей и сама обучала соседских ребят «грамоте с указкой».
Будучи «дролями»[46]46
Предметами сердечного влечения, «симпатиями».
[Закрыть] Гриши Волкова и Якова Шумского, сестры все время вертелись в среде комедиантов и кончили тем, что начали сами проситься в актерки.
Федор Волков, потерпев неудачу с двумя Танями – Поповой и Майковской, – медлил с принятием их услуг.
В середине сентября вернулся Иван Степанович Майков, – один, без Татьяны Михайловны.
Он, как ни в чем не бывало, явился на последнее представление «Артистоны». Сидя в первом ряду, много хлопал Федору, игравшему Дария. Кричал: «Фора!»
В перерыве забежал во флигель, где одевались комедианты, поздоровался с каждым за руку, всех расхвалил. Восторгался царственностью Федора Григорьевича в одеянии Дария, обнимал его за талию. Несколько раз произнес почему-то по-французски: «Charmant, charmant!..»[47]47
Очаровательно, очаровательно.
[Закрыть] – очевидно, пытаясь выразить этим высший род похвалы.
Федору все это было чрезвычайно неприятно. Он деликатно уклонялся от восторженных похвал «балаболки», как он мысленно называл помещика. Не разговаривал с ним ни о чем, не задал ни одного вопроса.
Иван Степанович поинтересовался, как с постройкой, не требуется ли денег. Федор ответил, что постройка в общем закончена, а со средствами он как-нибудь обернется.
– А! – изрек, кивнув головой, Майков. – Добро. Сие весьма приятно слышать. В случае крайности, дорогой мой друг Федор Григорьевич, вам, полагаю, небезызвестен порог моего скромного жилища. Не стесняйтесь, милости прошу, адресуйтесь запросто, во вся дни и часы. Как сие говорится между добрыми друзьями: «еже могу – помогу».
Федор поблагодарил за расположение. Повторил, что едва ли что понадобится, – все, почитай, закончено.
– Когда же оный долгожданный храм муз открыть надеетесь? – поинтересовался Майков.
– Месяца через два, полагаю, – нехотя отвечал Волков.
– Долгонько, долгонько. Смотрители ваши ждать соскучатся. Я первый.
Уходя, уже с порога, как будто только что вспомнив, Майков фальшиво сказал:
– Да!.. Эка память!.. Ведь вам кланяться приказано. Нижайший и почтительнейший привет издалека, любезный вы мой друг Федор Григорьевич. Совсем из головы вон у старого.
Федор поблагодарил едва заметным наклонением головы. Он еле сдержал себя, чтобы не выбросить наглого помещика за порог. В душе с угрожающей внезапностью забушевали все пережитые весною бури, утихомиренные с таким трудом.
Он еле доиграл спектакль, путаясь в словах, делая не то, что полагается, сжимая до боли кулаки и зубы от обиды и негодования.
Придя домой, Волков не в силах был дольше владеть собой. Заперся у себя в комнате, упал головой на стол и разразился глухими, бесслезными и почти беззвучными рыданиями, – такими мучительно-невыносимыми, выматывающими всю душу, овладевающими в минуты оскорбительных переживаний сильными и чистыми натурами.
Это были не злоба и не ненависть к кому-то в отдельности, а безграничное негодование против людской низости вообще, против пошлости, тупости и лицемерия, против непреоборимого влияния косных, темных и злобных сил на все, что стремится выйти из-под их власти.
Едва ли не мучительнее всего для Федора было сознание присутствия личных мотивов в его безграничном негодовании. Эта мысль доводила его до бешенства, увеличивала разлад с самим собою до невыносимых страданий.
Волков несколько дней не выходил из своей комнаты. Сидел запершись, ссылаясь на недомогание. За эти несколько дней он многое передумал и перечувствовал.
«Хочешь выйти победителем из жизни – личное исключить», – постепенно оформилась в голове спасительная мысль.
Федор понемногу начал успокаиваться. Он принял решение все перенести ради своей излюбленной мечты. Поставил себе задачу – преодолеть все препятствия, побороть всякие влияния темных сил, как бы они ни были упорны, выйти победителем из борьбы.
Представления в новом большом театре открылись только 26 декабря, тою же «Артистоной».
У входа в театр было выставлено тщательно расписанное, красочное «Уведомление к смотрителям». Приглашались посещать театр «всякого звания смотрители», с посильною платой, «кто како возможет, от двух денежек до двух алтын за персону»[48]48
От копейки до шести.
[Закрыть].
Театр в день открытия был переполнен сверх меры, хотя и вмещал около тысячи человек. Почти всегда бывал полон и в менее торжественные дни. Играли все праздничные дни, на святках иной раз даже по два раза – в полдень и в пять часов вечера. Мясоедом пробовали устраивать представления на буднях, – смотрителей не набиралось достаточно.
7 января 1751 года был большой день. Впервые было представлено «Милосердие цезаря Титуса, или Милость и снисходительство, опера в трех переменах, с прологом, сочинение г. Метастасио, в российском переложении Федора Волкова с компанией, с музыкою, сочиненною и подобранною оным же Волковым».
Тита играл Федор Волков, Вителлию – И. Дмитревский (такова была театральная фамилия Вани Нарыкова), Сервилию – А. Попов, Секстуса – Я. Шумский, Анниуса – Гаврило Волков, Публиуса – Григорий Волков.
Участвовало всего до пятидесяти человек с певцами и музыкантами. При одном из повторений пьесы на роль Сервилии была подготовлена Ольга Ананьина, названная в объявлении Егоровым 1-м.
При ее первом появлении на сцену откуда-то с галдареи послышались смех и крики:
– Глянь-ко, братцы! Баба! Ей-пра, баба!..
В дальнейшем, исподволь, Федор начал вводить на женские роли то Ольгу, то Марью Ананьиных. Смотрители понемногу привыкали.
Сестры, в особенности младшая, Марья, оказались очень смелыми и понятливыми ученицами.
При воеводе образовался самочинный «градский совет по смотрению за делом комедиантским», В него входили, в числе других, Майков и о. Иринарх.
«Совет» в дела театра не вмешивался, но «имел смотрение» за выбором пьес для представления. Изредка навязывал Федору Волкову ту или иную «комедию».
Таким образом, в течение года существования большого театра были поставлены «Комедия об Эсфири» и «Комедия об Юдифи, или Артаксерксово действо».
Почтенный семинарский хорег, при выпуске из академии Ивана Нарыкова и Алексея Попова, «влепил»-таки им в аттестат «по жирному колу с картошкой» за поведение и повиновение. Подобными же знаками внимания удостоили их и некоторые другие «профессора», – из солидарности с о. Иринархом.
Из привезенных Иваном Волковым из Питера пьес были представлены две трагедии Михаилы Ломоносова: летом – «Тамира и Селим» и совсем в конце года – «Демофонт».
Сыграна была также комедия Сумарокова «Чудовищи».
Театр в Ярославле постепенно становился потребностью широких слоев населения. Очень незначительная плата за вход не могла являться серьезным препятствием. Кроме того, Федор Волков, по просьбе своих приятелей-рабочих, широко использовал систему кредитования «до получки». В виду низкой платы за смотрение, театр постоянно приносил некоторый убыток, особенно в зимнее время, когда требовалось большое количество дров, чтобы натопить такое огромное помещение. Много средств съедали свечи. Время от времени особо преданные театру смотрители устраивали доброхотные сборы и таким образом покрывали убытки.
Всем было известно, что заводские дела Волковых идут очень плохо, а купец Серов отстранился от комедийного баловства.
Федор Григорьевич упорно не желал пользоваться поддержкой Майкова и его компании, хотя Иван Степанович неоднократно и предлагал театру свою помощь.
В первый день нового, 1752 года торжественно отпраздновали годовщину существования первого постоянного общественного театра в Ярославле. Возобновлен был так полюбившийся Федору Волкову первенец российской словесности и российского театра – «Хорев».








