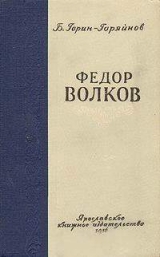
Текст книги "Федор Волков"
Автор книги: Борис Горин-Горяйнов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
«Русский для представления трагедий и комедий театр»
Ближайшие два года были бедны театральными событиями, но богаты учением и событиями внутренней жизни маленького комедиантского мирка.
Сумароков одно время вынужден был почти совсем забросить своих питомцев. Навещая изредка Головкинский дом, виновато оправдывался:
– Простите, друзья. Увяз по уши в самой густой музыкальной каше, которую сам и заварил. Когда расхлебаю – наверстаем.
Первая русская опера «Цефал и Прокрис», наконец, была готова. Ее надлежало исполнить исключительно силами придворных певчих, без участия итальянцев. Задача казалась почти непосильной, и как Сумароков, так и Арайя изнемогали, пытаясь ее разрешить.
Чем ближе подходил день представления, тем сильнее нервничал автор первой русской оперы.
– И почему она – русская? Почему, спрашиваю, она русская? – обращался Сумароков к Волкову, помогавшему ему в постановке оперы. – В ней русского только и есть, что имя сочинителя Сумарокова. Ах, как ты был прав, Федя! Из своей шкуры не вылезешь. Арайя, как назло, переитальянил себя. Получилась какая-то итальянщина в квадрате.
– Дело не в том, Александр Петрович, – успокаивал его Волков. – Дело в русских певцах. А, я замечаю, они поют далеко не в подражание итальянцам. Посему и опера имеет для нас, русских, особое значение.
– Приходится утешаться хоть этим. Ничего не поделаешь! Первый блин…
«Первый блин», вопреки пословице, оказался с пылу горячим, пропеченным на совесть и поданным блестяще.
Спектакль положительно ошеломил придворных слушателей. Никто не мог себе представить, чтобы на русском языке, силами исключительно русских певцов, можно было создать и исполнить столь законченное, поистине мастерское произведение. На итальянский характер музыки никто не обратил внимания. Восторгались блестящими голосами и уменьем русских певцов.
Совершенно исключительный успех, какой редко выпадал и на долю итальянских знаменитостей, имели исполнители партий: Цефала – Гаврила Марцинкевич и Прокрис – Елизавета Белоградская. Немного им уступали в отношении успеха Степан Евстафьев, Степан Рашевский, Николай Ключарев и Иван Татищев.
Всем исполнителям высочайше была объявлена отменная похвала и приказано было пошить им подарок – «новое платье из хорошей материи».
Автор музыки Арайя получил соболью шубу и пятьсот рублей золотом.
Истинный виновник появления первой русской оперы и ее автор Сумароков также удостоился высочайшей похвалы. Кроме того, ему было обещано поспешить с отпуском средств на его любимое детище – русский театр.
В ответ на такую «милость» самолюбивый и вспыльчивый «российский Расин» побледнел от злости. Не удержался от какой-то весьма тонкой и замысловатой колкости, которая, впрочем, не была понята. Вслед за этим он сказался больным и на неделю заперся у себя в комнате, мечась из угла в угол.
Источив вконец все резервы, перебрав сотни раз весь свой ругательный лексикон и найдя успокоение только в полном изнеможении, он дал себе клятву не давать покоя «этим канальям» ни днем, ни ночью, мстя за свой «позор» ежечасными напоминаниями о необходимости держать высочайшее слово.
И, действительно, почти в течение целого года Александр Петрович твердо выполнял свою клятву, при малейшем случае напоминая о горькой участи бедного пасынка – русского театра. Императрица начала бегать «от этого помешанного». Сумароков злорадно посмеивался и корчил насмешливо-скорбные мины. Заметив его игру, Екатерина приласкала его, подарила от себя богатую табакерку и обещала непременно добиться успеха «в русском театральном вопросе».
Сумароков, не сомневаясь в том, что она сдержит данное слово, отпел заживо «глупую матушку» и окончательно перекочевал в лагерь великой княгини.
Не раз, в минуты откровенности, он говорил Волкову, вращая белками:
– Федя, коли я когда вновь ввяжусь в музыку – трахни меня по башке чем-нибудь тяжелым. Разрешаю. Им – золото, а сам – в голову долото? Ладно! Не из жадности говорю, а по справедливости. Пусть Арайи да Марайи пекутся об оперной словесности. А у меня таланта осталось только на погребальную песнь кое-кому…
В маленьком комедиантском кружке жизнь шла так, как она идет всюду, где имеются люди с неспокойными головами и пустым карманом.
«Головкинские» и «корпусные» видались каждый день. Учились, работали, ссорились и мирились, сплетничали и влюблялись.
Сестры Ананьины между делом плели кружева: Александр Петрович щеголял в манишке и манжетах их работы. Братья Поповы взапуски писали стихи. Дмитревский и Федор Волков мастерили комическую оперу под названием «Танюша, или Счастливая встреча». Дмитревский сочинял текст, Волков – музыку. Написанное носили к Олсуфьевой. Елена Павловна проигрывала музыку на клавикордах и вполголоса напевала женские партии. Федор делал то же с мужскими.
Опера была уже почти готова. И, кажется, получилось не совсем плохо.
Весной 1756 года «на Красной горке» сыграли сразу две свадьбы. Марья Ананьина вышла, наконец, замуж за Григория Волкова, а ее сестра Ольга – за Якова Шумского. Оба эти романа получили завязку еще в прядильном сарае Канатчиковых. Александр Петрович в обоих случаях выступил в качестве посаженного отца. Оборудовал в Головкинском доме две первые «семейные» квартирки. Через великую княгиню выхлопотал небольшое денежное пособие новобрачным – на обзаведение.
Грипочка Мусина-Пушкина подросла, ей уже исполнилось шестнадцать лет. Жила она сейчас в одной комнате с пожилой Зориной, относившейся к ней с материнской нежностью.
Грипочка была общей любимицей, а в особенности баловницей Александра Петровича. Он видел в ней создание рук своих и предсказывал «молодой особе» блестящую артистическую будущность.
Одно только огорчало и подчас выводило из себя вспыльчивого Сумарокова: это – необычная в такие юные лета самостоятельность и независимость суждений Грипочки в области театра.
– Это все Марья-коза ей в уши напела! – сердился Александр Петрович, пытаясь свалить вину на бывшую сожительницу Грипочки Марью Ананьину. – Сама упрямка, и девчонку с панталыку сбила. В Москве она такой не была.
Сумароков мечтал найти в Грипочке актрису высокого трагического пошиба и усиленно прививал ей приемы напыщенной французской декламации. Грипочка находила такую манеру смешной и «стыдной». Исподтишка трунила над картавым пением своего учителя. С покорным видом жертвы принимала его указания, но в конце концов все делала по-своему – «как душа подскажет». Когда Сумароков выходил из себя от «бестолковости и непокорности этой противной девчонки», Грипочка кротко и нежно успокаивала его:
– Миленький дяденька Сашенька! Я же знаю, что я противная и бестолковая, только зачем мне напоминать об этом постоянно? Я сделаю все, все, как вы желаете, дорогой и бесценный дяденька Сашенька, все до самой последней крупинки. Только позвольте мне все это сделать по-своему. А то получится стыдно.
Сумароков в ожесточении трепал свой парик, обращался ко всем:
– А? Как вам это понравится, государи мои? Сия птичка пропоет точь-в-точь как я приказываю, только по-своему! Дичь! Ерунда и чепуха, помноженные на белиберду.
– Ведь каждая птичка поет по-своему, дяденька Сашенька, – ластилась к нему Грипочка.
– Паки дичь! Скворцы способны петь за всех.
– И за всех весьма плохо. А лучше за одну синичку, да только по-своему. И для синички это будет хорошо.
– Каркай хоть вороной, – безнадежно махал рукой Сумароков.
– Вот этого-то я и не умею, а вы заставляете. – простодушно защищалась девочка.
Остальные преподаватели «оратории» и декламации – свирепый Мелиссино, добродушный Свистунов и безжизненный Остервальд, – за недостатком твердо установленных правил, каждый по-своему «потворствовали» воспитанникам. Странно, что в декламации по-французски, в трагедиях Вольтера или Расина, та же Грипочка, как и некоторые другие, почти вполне удовлетворяла строгим требованиям Александра Петровича.
– Превосходно! Отлично! Порядочно! – восклицал Сумароков, обращаясь к своей любимице. – Видишь, птичка, выходит, можешь же ты петь по-иному!
– Это потому, дяденька Сашенька, что у меня сейчас во рту язык другой, – рассудительно объясняла Грипочка. – Он поет себе и поет сам, без моей помощи.
– То есть, как это без твоей помощи?
– А так, как заводной ящичек с музыкой. Тили-лили-лиля, лиля-лили-тили. И все одно и то же. Так я могу петь сколько вам угодно, не хуже ящичка. А как подменишь язык на русский, так уж это и не выходит.
– Почему не выходит?
– Потому, что тогда я уже не ящичек, а живая птичка. Как вы этого не понимаете? К пению по-русски присоединяется что-то вот отсюда, из-под ложечки, – и пение спотыкается. А когда спотыкается часто, оно уже и не пение, а чтение.
Подумав, Сумароков обращался ко всем, говоря:
– А? Государи мои? А она ведь хитрая, эта каналья с подмененными язычками!
Обучавшаяся в корпусе четверка – Федор и Григорий Волковы, Ваня Дмитревский и Алеша Попов – обязаны были ежедневно уделять часа два общим репетиционным занятиям в Головкинском доме.
Ваня Дмитревский, несмотря на протекшие четыре года, остался все тем же мальчиком, похожим на девочку.
С момента появления Грипочки Мусиной в Головкинском доме Ваня решил, что нашел в четырнадцатилетней девочке подходящего товарища. Она в свою очередь потянулась к этому взрослому мальчику, и между ними быстро установилось полное согласие. За эти два года не было ни одного дня, когда бы они не свиделись, хоть на несколько минут. Если, – что бывало очень редко, – им не удавалось свидеться дольше суток, они уж почитали себя вконец несчастными.
Никому из окружающих и в голову не приходило считать эту детскую привязанность за начало романа. Сумароков часто посмеивался над их неразлучностью.
– Ну, вы, куклы! Что вы, привязаны, что ли, друг к другу, что вас нельзя увидеть порознь?
Вскоре после того, как были отпразднованы свадьбы сестер Ананьиных, Грипочка и Ваня сидели однажды, в саду Головкинского дома, возле летней эстрады, дожидаясь репетиции.
– Как живут ваши новобрачные? – спросил Ваня.
– У, как хорошо! – закрыла глаза Грипочка. И добавила, нагнувшись к Ване: – И ты не поверишь, все время целуются. Ужасно неприлично, – как на театре…
Грипочка сидела, болтая ногами, которые не доставали до земли.
– Перестань болтать ногами, ты уже не маленькая, – сказал Дмитревский.
Грипочка перестала. Потом сказала:
– А почему Александр Петрович постоянно болтает ногами? Ведь он же не маленький.
– Александр Петрович навсегда останется ребенком.
– Я за это его и люблю, – сказала Грипочка. Потом неожиданно, не меняя тона, спросила: – А когда мы поженимся?
– Кто с кем? – поднял голову Дмитревский.
– Ну, понятно, мы с тобой. Не с Александром Петровичем же, – он уже женат.
Ваня подумал.
– Как выучусь, так и поженимся.
– А вот Гриша Волков не хотел ждать, пока выучится. Впрочем, можем немножко и обождать. Но только немножко; учись скорее.
– Я буду спешить.
Через несколько дней Грипочка села писать письме своей сестре Татьяне Михайловне. Писала по-русски, часто задумываясь над правописанием и перечеркивая написанное:
«Милая наша сестрица Татьяна Михайловна и дорогой наш братец Александр Николаевич.
Поздравьте меня – я обручена и прошу вашего родительского благословения. А жених мой – известный вам комедиант Ваня Дмитревский. Он хоша и ярославец, но и среди ярославских попадаются также люди хорошие. Когда его выучат совсем и выключат из корпуса, будет наша свадьба. А вас, милая наша сестрица Татьяна Михайловна, и вас, дорогой наш братец Александр Николаевич, или хоша бы только вас, сестрица, просим приехать к нам в Санкт-Петербург, чтобы благословить нас родительским благословением. Можно и без Александра Николаевича, как с другой стороны берется благословить известный вам Александр Петрович Сумароков, который очень хороший. У нас здесь все женются и выходют замуж. Марья Ананьина вышла замуж за Волкова, за Григорья Григорьевича, а Ананьина тетя Оля за дядю Шумского Якова. Мы их поздравляли, и они теперь живут хорошо в семейных комнатах, того же и вам желают.
Вот и все. Целую вас 100 000 раз. А еще Александр Петрович приказывает, чтобы вы, сестрица, с Александром Николаевичем братцем переходили на наш театр. У нас некому играть сильные роли трагические, а меня Александр Петрович все ругает, что я петь по-французскому не умею и в трагики не гожусь. Целую второй раз 100 000 раз и остаюсь с почтением и решпектом.
Агриппина Михайловна Мусина-Пушкина, впоследствии Дмитревская, придворного российского театра актиорка. Дано в Санкт-Петербурге июлия в день. С подлинным верно»
Писала долго и с затруднениями. Перечитывала и подумала, что по-русски такие письма писать неприлично. Очень быстро и без ошибок перевела по-французски, задумавшись только один раз над именем Ваня: не знала как его передать на французский диалект. Поставила: petit Jean.
На русский театр как-то неожиданно посыпались милости. В июне от императрицы через Шувалова было отпущено десять тысяч рублей на перестройку и украшение Головкинского дома. Через несколько дней великая княгиня из собственных сумм добавила еще пять тысяч.
Александр Петрович решил, что это не к добру, однако лихорадочно принялся за перестройку вконец обветшалого дома. 30 августа был выдан высочайший указ об учреждении «Русского для представления трагедий и комедий театра» на Васильевском острову в доме Головкина.
Указ до сената путешествовал ровно месяц, а до Сумарокова дошел только через два месяца, когда расширенный театр вчерне был уже совсем готов. Дирекция театра поручалась бригадиру А. П. Сумарокову, главное заведывание – гофмаршалу барону Сиверсу.
Вот оно – недоброе, что глухо чувствовало сердце Сумарокова! Если в Петербурге и был человек, которого Александр Петрович от всей души презирал и ненавидел, так этим человеком был именно Сиверс.
Первым побуждением Сумарокова было отказаться и от директорства и от театра. Вторым – объявление беспощадной войны немцу. Сумароков твердо решил или победить, или лечь костьми.
С жаром принялся он за организацию труппы. Из кадетского корпуса были затребованы все обучавшиеся там комедианты и певчие.
Федор и Григорий Волковы, Дмитревский и Алексей Попов были торжественно водворены на жительство в Головкинском доме, в наскоро сооруженной пристройке для комедиантов.
Началось испытание певчих, которых Сумароков не знал. Из восьми человек оказались пригодными только двое, которые и были зачислены в труппу. Остальные были отчислены обратно в корпус, где их не приняли.
На помещенное в «Ведомостях» объявление – «к особам, желающим выступать в русских спектаклях» – не откликнулся никто.
Все же основной состав оказался достаточным, и начали готовиться к открытию театра.
27 ноября 1756 года состоялось первое представление комической оперы Дмитревского «Танюша, или Счастливая встреча», с музыкой Федора Волкова. Участвовала вся труппа. В этом спектакле впервые выступили на сцене женщины-актрисы в качестве постоянных, профессиональных комедианток.
Незамысловатая комическая опера, написанная просто и без претензий, понравилась всем своей новизной и непосредственностью.
Сумароков не без основания остановился на этой пьесе. Во-первых, он имел намерение подтолкнуть авторов, желающих писать для театра, а, во-вторых, не хотел выступать со своей пьесой, чтобы избежать упреков в самовольном хозяйничаньи на театре.
Русский театр начал работать регулярно. Однако Сумароков был недоволен, часто раздражался и временами доходил до полного исступления. Чтобы не наделать непоправимых бед как лично для себя, так и для окружающих, он большую и самую щекотливую часть организационной работы свалил на Федора Волкова.
Оба они, и Сумароков и Волков, обманулись в своих чаяниях относительно характера русского театра. Они мечтали о театре общественном, публичном, доступном для всех слоев населения. На деле же, стараниями гофмаршала Сиверса, получился тот же закрытый придворный театр, куда зрители допускались лишь по чинам и бесплатно. К тому же, они посещали неуютный театр крайне неохотно.
Ввиду этого спектакли вновь начали назначаться по разным местам: в новом деревянном Зимнем дворце у Полицейского моста, куда двор переехал еще в 1755 году, вследствие капитального ремонта старого Зимнего дворца на Неве, в немецком театре на Морской, в деревянном театре на Царицыном лугу, а иногда и в других зданиях, совершенно не приспособленных для спектаклей.
Труппа мытарствовала и разрывалась на части, тщательная постановка пьес становилась немыслимой, даровые чиновные зрители вели себя во время представлений, в особенности когда отсутствовал двор, возмутительно. Сумароков, по своей горячности, закатывал грандиозные публичные скандалы в зале, называя всех огулом дикарями и варварами. Жалобы на «хамство» директора русского театра сыпались, дождем. Сивере хлопотал об его отстранении от должности, и сам Сумароков посылал Шувалову прошение за прошением о «чести быть отставленным от гофмаршальского застенка».
«Презираю там быти, где самый безграмотный подъячий, превратившись в клопа, ввернулся под одежду Мельпомены и грызет прекрасное тело ее», – образно писал Сумароков в своих прошениях.
Однако отставки не давали, порядков не изменяли, и мытарства русского театра продолжались попрежнему. А директор театра окончательно прослыл неисправимым скандалистом. Федор Волков успокаивал Сумарокова и взял на себя труд распутать узел «дипломатическим путем».
Он принялся за дело осторожно, исподволь и умело, действуя вполне правильно через великую княгиню, как лично от себя, так и с помощью Олсуфьевой.
Ответ на письмо Грипочки к Троепольской запоздал. Письмо было адресовано в Ригу, ответ получился из Москвы. Татьяна Михайловна писала:
«Милая и дорогая моя девочка.
Я очень рада твоему «обручению». Глубоко сочувствую твоему счастью и вполне одобряю твой выбор. Твой жених, насколько я его знаю, само совершенство, как совершенство и ты, моя дорогая девочка. А когда сталкиваются два совершенства, можно почти без ошибки заключить, что их союз будет тих, безмятежен и длителен. Только, милая моя девочка, я нахожу, что ты чуточку торопишься жить, так самую малость, годика на два. Я придерживаюсь мнения тех людей, которые находят, что надо сперва сделаться знаменитой актрисой, а уж потом выходить замуж, а не наоборот. К тому же, я уверена, что сделаться знаменитой актрисой тебе ничего не стоит, и займет это у тебя очень немного времени, так что тут об отсрочке, почитай, и толковать нечего. Я приеду проведать тебя очень скоро, как только ты войдешь в славу. Немедленно к тебе, крошка моя, приехать мы не можем. Прежде всего, немецких шпильманов Кернов больше не существует, а есть русские актеры Троепольские. Потом, эти Троепольские заключили условие служить в Москве, в русской труппе при Московском университете, который, как у вас там, конечно, ведомо, ныне здесь учреждается. Условие коротенькое, всего на два годика, и мы с тобой и не заметим, как они пролетят. А там мы, пожалуй, с удовольствием перейдем и в наш петербургский театр. Сообщи, девочка, обо всем этом добрейшему Александру Петровичу, Федору Григорьевичу и Елене Павловне. Впрочем, всем им я собираюсь написать подробно и сама. И уж начала оные письма, которые, кажется, будут бесконечными. Будь счастлива, моя крошка, приобретай скорее славу и жди нас с Александром Николаевичем. Чтобы не раздробляться на части, целую тебя сразу миллион раз, да столько же целует дядя Саша. Хотела бы, как высшего счастья, взглянуть на тебя, какая ты стала, будучи «большая», да, вот видишь, немножко придется подождать и помучиться.
Желаю тебе столько радостей, сколько ты сможешь снести, и говорю: до скорого свиданья.
Т. Троепольская».
Получив это послание от сестры, Грипочка перечитывала его без конца, покуда не выучила наизусть. Старалась осмыслить: много это – два года, или немного? Подсчитала по пальцам: с момента отправки ею письма с просьбой благословения прошло уже целых семь месяцев. Значит, надо скостить почти целый год. Выходит – остается ждать один только год с небольшим. Страшно обрадовалась. Побежала разыскивать Сумарокова, Волкова, Дмитревского, чтобы поделиться с ними своею радостью и прочитать им письмо.
Первого разыскала Ваню. Захлебываясь, прочитала ему послание.
– Вот видишь, видишь, – тараторила Грипочка, – мы и не заметили, как прошел уже, считай, год. Остается уже только один малюсенький годик; не увидим, как и он пролетит.
Ваня вздохнул:
– В этой сумасшедшей сутолоке не увидишь, как и вся жизнь пролетит. Собираемся, собираемся, глядь – уже и седые старики. И пошли к венцу согнувшись и с палочками. Пожалуй, и попы венчать не станут. Скажут: «Куда такое старье? Вас отпевать пора!»
– Какой ты глупый! – с сожалением возразила Грипочка. – Если мы через год и поседеем немножко, так ведь волосы же напудрить можно. И будет незаметно. А пока пойдем за уголок и поцелуемся тихонько. По случаю письма это можно, только Александру Петровичу не сказывай, а то опять проповеди читать будет.
Сумароков и Волков торжествовали. Благодаря хлопотам Волкова и Олсуфьевой у великой княгини, русской труппе в мае, пока двор находился в Петергофе, было разрешено на театре деревянного Зимнего дворца в виде пробы устроить представление «для народа – вольной комедии русской за деньги». Опыт оказался удачным. Собралось много народа разного звания. Лицо театра как-то сразу изменилось. Иначе играли комедианты, иначе вела себя публика, иначе распоряжался Сумароков.
Шла «Артистона» и в добавление к ней коротенькая комедия Сумарокова «Трисотиниус».
Федор, играя свою роль, подчас увлекался и забывался до того, что ему казалось, будто время повернулось вспять и он опять находится в Ярославле.
В зале бывало временами шумно, но не от безразличия к представлению, а именно в силу увлечения им. Сумарокову не пришлось сделать зрителям ни одного замечания, на которые он бывал так щедр по отношению к бесплатной чиновной публике. Только перед началом он разъяснил зрителям смысл подобных представлений для народа и указал, как надлежит держать себя, дабы не мешать другим. Публика приняла к сведению его советы.
После успеха «вольной комедии за деньги» на придворном театре попробовали устраивать такие же представления на своем Головкинском театре. Но публика посещала их плохо. Театр был и неудобен и удален от центра. Переправа через Неву в вечернее время почиталась немаловажным подвигом.
К июлю удалось для русских представлений отвоевать придворный театр у Летнего сада, где до сего времени играли лишь французская и итальянская труппы.
Это была немаловажная победа. Театр был удобен, хорошо посещался, особенно в летнее время, и дела российской труппы начали заметно поправляться.
Театр удалось удержать в своих руках как постоянный, допуская лишь иногда представления французов и итальянцев. Головкинский дом окончательно превратился в комедиантское общежитие.
Народный театр преуспевал. Преуспевали и актеры.
Из Грипочки Мусиной-Пушкиной выработалась прелестная актриса, простая и естественная. Она равно была любимицей публики и самой императрицы. Ваня Дмитревский постепенно утрачивал свои девичьи черты и превращался в красивого, щеголеватого молодого человека. Он исподволь занял на сцене положение, занимаемое раньше Федором Волковым, почти окончательно посвятившим себя организаторской деятельности.
Временами эта деятельность сильно его угнетала. Он не мог не чувствовать крушения наибольшей части своих юношеских мечтаний, но его радовало преуспеяние русского театра, и это заставляло мириться с личными неудачами.
Олсуфьева, проявлявшая к нему величайшую заботливость и старавшаяся всячески облегчить ему работу, исподволь подбивала Федора выйти на путь широкой политической деятельности. Но на все настояния Олсуфьевой в этом направлении он неизменно отвечал одно и то же:
– Полезным можно быть на любом поприще. Я комедиантом родился, комедиантом и помру. И не желаю для себя иного положения.
Воспоминания о дружбе с Троепольской, о ее чудесной открытой незлобивой душе, такой родственной и матерински-ласковой, посещали его ежедневно.
Они писали друг другу, хотя и не часто. Троепольские работали на Московском университетском театре, под управлением Хераскова, но дело у них не клеилось. Мешала тысяча причин и прежде всего – полное отсутствие средств. На театр не отпускалось никаких сумм, и Херасков выкраивал необходимые деньги бог весть откуда. Положение спасла куча энтузиастов, объединившихся вокруг Хераскова, и из их числа Троепольские были первыми.
Федор в настойчивости Татьяны Михайловны, в верности ее мечтам юности узнавал самого себя. Гордился ею и находил большое утешение в маленьких успехах своего тесно спаянного комедиантского кружка. По причине общности театрального дела, – как он себе его мыслил, – Федор не настаивал особенно на переходе Троепольских на петербургский театр.
В сентябре сыграли свадьбу Грипочки с Ваней Дмитревским. Ей исполнилось восемнадцать лет. Татьяна Михайловна, шутя, прислала свое «заочное благословение». Сумароков был посаженным отцом, императрицу записали, по ее желанию, посаженной матерью. На торжестве ее замещала тетка Зорина, облаченная в пунсовое «испанское» платье с треном, в котором она изображала на сцене королев.
Новобрачным отвели две смежные, самые лучшие комнаты в новой пристройке. Императрица распорядилась выдать молодым пособие в размере полного годового оклада и сыграть в их пользу платный спектакль на театре Летнего дворца по повышенным ценам.
На содержание труппы было прибавлено 3 000 рублей.
Грипочка Мусина-Пушкина превратилась в Агриппину Михайловну Дмитревскую, сохранив на сцене свою девическую фамилию.
Ваня Дмитревский и после женитьбы не превратился в Ивана Афанасьевича, а еще много лет в глазах всех знавших его продолжал оставаться прежним Ваней Дмитревским.








