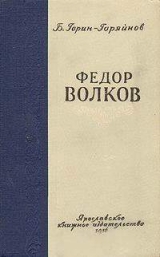
Текст книги "Федор Волков"
Автор книги: Борис Горин-Горяйнов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
Федор и Таня молча сели, близко друг от друга.
– Ой, какой я есть! Вечни забиваль! – порывисто вскочила француженка. – Pardon monsieur…[31]31
Простите, сударь.
[Закрыть]
В одно мгновенье исчезла из комнаты, шумно хлопнув дверью.
Оставшиеся вдвоем, Федор и Таня неловко молчали. Таня сидела, низко опустив голову. Федор покусывал губы и подыскивал, с чего бы начать. Все слова, как назло, потеряли свое значение.
Таня была бледна. Она медленно подняла на Волкова страдающие и вместе с тем виноватые глаза.
– Что вы скажете мне? – тихо, еле шевеля губами, произнесла она.
– Ничего, кроме отменно хорошего, – ответил Федор.
По неподвижному взору девушки нельзя было заключить, поняла ли она смысл его ответа. Глаза, как и тогда, медленно наполнились слезами.
– Как я страдала!.. – так же тихо, без всякого выражения, произнесла девушка.
Закрыла глаза. Из-под вздрагивающих ресниц сбегали одна за другой крупные слезы.
– Но ведь сейчас-то все осталось позади, Татьяна Михайловна, – любовно и нежно проговорил Федор.
Девушка, не открывая глаза, медленно покачала головой.
– Такое не может остаться позади. Оно – здесь, – Таня положила руку на грудь, – на всю жизнь здесь… Впереди предвижу то же…
– Но почему же? Почему, ежели все устроилось? – искренно недоумевал Федор.
Девушка открыла глаза и посмотрела на него долгим, испытующим взглядом.
– Почему? Вы хотите знать, почему? Потому, что сердца разные чувствуют по-разному. Не в нашей воле повелеть им чувствовать по-иному… И еще… препятствия почитаю непреодолимыми…
Федор не знал, что ответить.
Таня положила свою холодную, как лед, руку на его руку и сказала с мольбой:
– Утешьте меня… Уговорите… Я так страдаю… И не отгоняйте меня…
Ее душили слезы. Она делала заметные усилия, чтобы не разрыдаться громко.
Федор весь дрожал от бесконечной жалости к этому так незаслуженно и бесцельно страдающему ребенку. Ему хотелось приласкать ее, обнадежить, утешить, заключить в объятия, заставить забыть ненужные муки. Хотелось зажечь ее радостью жизни, окрылить надеждами на светлое будущее. Хотелось вселить в нее уверенность в его искренности, в его бесконечном обожании, в чувстве его к ней, быть может, не менее глубоком и надежном, но проявляющемся по-иному. Хотелось обратить ее внимание на порядочность, чистоту и честность его намерений.
Но слова приходили на ум все такие тусклые, жалкие и неубедительные.
– Татьяна Михайловна! Голубушка, милая моя, поймите… Все ваши муки – напрасны, страдания – бесцельны и никому не нужны. Ну, хотите, будем всегда вместе, неразлучно? Заботиться я о вас буду, утешать, ласкать, любить. Вместе, рука об руку будем служить дорогому для нас обоих и любимому делу. Радостно и хорошо потечет наша жизнь, заполненная добрыми человеческими интересами. Если вы найдете меня достойным этой чести, мы поженимся, – говорил Федор, сжимая и согревая ее руки.
Таня покачала головой.
– Все это не то, Федор Григорьевич… Слишком люблю я вас, чтобы быть женой вашей. Не для брака любовь моя. Несчастьем нашим совместным был бы брак наш, а счастьем – никогда! Чувствую я это и не могу побороть чувства оного. Что-то мешает и что-то есть различное в любовях наших. Ах, я не понимаю сама себя! Я ничего больше не понимаю… Не знаю даже, подлинно ли любовь это или другое что. Я только страдаю, мучусь, и сие мне хорошо ведомо. Скажите мне, что со мной происходит? Сгорает мое сердце бедное…
Татьяна Михайловна закрыла лицо руками, глухо всхлипывая. Чтобы не упасть, оперлась о плечо Федора. Вся содрогалась от заглушённых рыданий.
Федор совсем потерял самообладание. Он бессвязно уговаривал девушку, ласкал, гладил по волосам, целовал эти волосы. Прижимал ее к своей груди, как родного, тяжело больного ребенка. Вдруг начал находить в себе слова убедительные и нужные, согретые подлинным, горячим чувством, слова, о существовании которых он ранее и не подозревал в себе.
Таня медленно успокаивалась. Прижималась к Федору доверчиво и беспомощно.
После долгого, неподвижного молчания, почти совершенно успокоившись, подняла на Федора взгляд – благодарный, нежный, любящий. Слабо улыбнулась. Произнесла совсем просто:
– Как я страдала… все эти месяцы…
– Теперь конец страданиям! Все позади! Не надо ни о чем!.. Все позади!.. – горячо повторял Федор.
Таня с недоверием покачала головой.
Первая актриса российская
Представления шли все тем же порядком, только теперь уже на двух театрах. У Майковых иногда и по будним дням.
Федор не имел ни минуты свободного времени. Некогда было задуматься ни о чем постороннем, – например, о далеко не оформившихся отношениях с Таней. В них обоих совершился какой-то глубокий, благодетельный перелом. От каждого их взгляда, движения веяло обоюдной душевной удовлетворенностью, бесконечным обожанием.
Федор после утомительного и содержательного дня засыпал с мыслью о Тане, а утром просыпался с тою же мыслью, – бодрый и уверенный в себе, готовый начать новый, точно такой же трудовой день.
С утра до вечера – в конторе или в хлопотах по городу, вечером – на пробах, перед сном – литературные, живописные или музыкальные занятия. Праздничные дни полностью поглощались театром.
Заводские дела Волковых, благодаря упорству и настойчивости брата Алексея, ушедшего в них с головой, как будто начали несколько поправляться. Появилась надежда выиграть бесконечную тяжбу на право наследования отчиму. Последние поездки Алексея в Петербург и Москву дали возможность внести в заводскую организацию некоторые улучшения. Федор сдал брату все руководство делом, а сам работал хотя и много, но только по советам и указаниям Алексея.
Матрена Яковлевна повеселела, махнула рукой на «беспутство» Федора и все свои надежды и заботы перенесла на Алексея.
В течение святочной семинарской рекреации пришлось выплачивать неприятный долг о. Иринарху. Почтенный семинарский хорег решил возобновить свою полезную покаянную деятельность. «Покаяние грешного человека», при участии волковской компании, было учинено в соборном доме дважды, с успехом и искусством немыслимыми ранее.
При виде уверенной, осмысленной игры своих некогда неуклюжих питомцев почтенный пастырь только крякал от несказанного удовольствия. Свой восторг в моменты наивысшего подъема он выражал исключительно одними достохвальными наречиями, вроде:
– Зело!.. Похвально!.. Отменно!.. Душепомрачительно!..
Заметил при всех очень громко, но ни к кому не обращаясь в частности:
– Добре посеянные семена произрастают и процветают яко крин вешний…[32]32
Весенняя лилия (старославянск.).
[Закрыть]
Достопочтенный хорег в своей неизреченной простоте готов был приписать все успехи ребят своему мудрому руководительству.
Никто его в этом не разуверял.
Представления собственно волковской комедиантской компании теперь делились аккуратно между двумя домашними театрами – серовским и майковским. При частых перекочевках декоративно-обстановочная часть поневоле становилась все более условной.
У Майковых убранству сцены уделялось исключительное внимание, благодаря совместным усилиям Татьяны Михайловны, ее кузин и мадам Любесталь.
Сцена обычно выглядела уютно, строго и осмысленно, без всяких излишних нагромождений. Капитальные перемены декораций отсутствовали. Перенос места действия обычно подчеркивался какой-нибудь одной, много – двумя деталями: статуей, пальмой, ковром, большим распятием и т. п. Но эти детали всегда были уместны и строго обоснованны.
Смотрители на такие упрощения не были в претензии.
Таня в театре дяди переиграла весь имевшийся у компании запас готовых постановок, причем ее вводы почти не доставляли никаких излишних хлопот, – не только свои роли, но и чужие она обычно знала наизусть. Она сыграла Оснельду, Ильмену, Офелию, готовила Артистону, из трагедии этого названия, которая должна была пойти в скором времени.
Поигрывали исподволь и Агния с Аглаей не особенно ответственные рольки. Делали свое дело с охотой, но тускло и связанно. Мадам Любесталь требовала для себя постановки такой пьесы, где бы для нее была сильно-трагическая роль на французском языке.
– По-русски я немножко не чисто могит говориль, – предупреждала она Федора Григорьевича.
Федор только со времени совместных выступлений с Таней начал понимать, какая великая сила заключается в естественном, не подчиненном никаким условностям, содружестве и слиянии в одно целое всех товарищей по сцене.
Когда он исполнял свои сцены с Таней, ему казалось, что они двое являются одним нерасторжимо-слитным существом, что каждый из них немыслим без другого. Удивлялся, как он раньше мог мириться, например, с Офелией – Ваней или Оснельдой – Гришей, а главное, как мог загораться неподдельными чувствами до самозабвения.
С Таней для него в театр вошла какая-то новая жизнь, жизнь самодовлеющей правды.
У Тани была своя собственная своеобразная манера читки стихов, очень певучая, гармонически-звонкая в особо сильных местах, при несколько размеренных, округленных и весьма картинных жестах.
Мадам Любесталь очень одобряла этот «французский стиль», так нравившийся ей в молодости. При всем своем увлечении Андриенной Лекуврёр, мадам в искусстве «déclamation»[33]33
Декларации.
[Закрыть] или «l'action»[34]34
Игры.
[Закрыть] находила великую артистку не на высоте задачи, слишком упрощенной – «vulgaire»[35]35
Вульгарной.
[Закрыть]. Идеалом ее в этом отношении являлась Дюкло.
– Ах, Дюкло! Мадемуазель Дюкло! – восклицала старая француженка. – Эти… эти… по-русски нет слов!..
Неудивительно, если взгляды мадам Любесталь на сценическое искусство в какой-то степени привились и Тане. Но только в какой-то степени. Таня то и дело прорывала всякие преграды и отдавалась течению вольного чувства.
Постепенно все представления в доме Серова начали также проходить при непременном участии Тани и даже ее кузин.
Смотрители их спектаклей, состоявшие по большей части из почтенных лиц города, начали поговаривать об учреждении постоянного, настоящего театра.
Федор Григорьевич в первое время не особенно горячо поддерживал эту мысль. Опасался потерять Таню. Без нее он больше не мыслил свое пребывание на сцене.
Когда он поделился своими опасениями с Татьяной Михайловной, она решительно сказала:
– Что бы ни воспоследовало, вопреки всему, я буду с тобою неразлучно… Возврата нет.
Играя на домашних сценах, несмотря на неизменно зажигавшее его присутствие Тани, Федор все же по временам чувствовал легкую неудовлетворенность, какое-то насильственное укорачивание своей внутренней сущности. Похоже было на то, что будто кто-то незримый аккуратно подрезывает ему крылья, мешая свободному полету.
Хоть и не сразу, Федор нашел причину этой неудовлетворенности. Она вытекала из лицезрения все одного и того же ограниченного круга смотрителей. Широкой натуре Федора недоставало толпы, массы, смотрителей всех сословий. Не напудренной и разодетой кучки сдержанных театральных ценителей, а подлинной толпы с ее непосредственной горячностью и откровенностью чувств, с ее бескорыстной привязанностью, которая не может быть расценена ни на какую монету.
Придя к этому выводу, Волков начал поощрять и подталкивать возможность учреждения постоянного, для всех доступного театра.
При встречах с воеводой, бывавшим по своей малоподвижности довольно редким гостем на их представлениях, Федор не упускал случая развивать эту мысль перед всесильным хозяином города.
Внутренно такой же громоздкий и тяжелый, как и наружно, Михайло Андреич бормотал о желательности оного, но ссылался всякий раз на отсутствие средств на постройку.
– Средства потребны немалые, – отдувался он. – Понеже того… уж коли строить, то того… надлежит возвести хоромину превеликую… могущую служить того… прибежищем музам також и в зимнее время… А музы – особы зябкие… печи потребны, то да се… А в казне у нас – шиш…
Упирал все время на общественность начинания. – Мое дело – сторона… Почтенных мужей города, охочих смотрителей за бока берите… На доброхотные даяния оных уповайте… К им и относитесь впредь…
Как-то под вечер Яков Шумский явился к Федору и предложил ему совершить вместе прогулку невеликую.
Федор молча оделся, ни о чем не спрашивая.
Прошлись немного по набережной, толкуя о том, о сем. Шумский свернул в поперечную улицу, пустую и захолустную. Остановился перед большим каменным, нежилым и разрушающимся зданием, – бывшими провиантскими складами. Что там хранилось, неизвестно было, только о провианте запасном давно уже никто не слыхивал.
– Добрая махина, – показал Яков рукою по направлению складов. – Наипаче бесполезная. Разрушается.
– А что там внутри, ведомо тебе?
– Не ведомо, но угадано быть может без ошибки. Мерзость и запустение. Ежели и есть что догнивающее, – догнить оное и на воле может.
– Кому принадлежит сие? – заинтересовался Федор, смекнув в чем дело.
– Государству российскому.
Обошли здание вокруг, увязая в снегу выше колен. Проникли за разрушенную огородку во двор. Заглядывали в зияющие щели полусгнивших дверей.
– Какой театр может быть приуготован, Яков, – загорелся Федор.
– То-то!! – отвечал Шумский. – Требуй здание сие для народа у господина воеводы нашего, також разрушающегося.
На представлении «Синава» у Ивана Степановича присутствовавший там воевода забыл про свою одышку, расчувствовался до увлажнения очей. Притянул Федора к своей необъятной туше, пытался расцеловать, назвал российским Росциусом[36]36
Росций – знаменитый древнеримский актер.
[Закрыть].
Федор нашел момент благоприятным для наступления на воеводу. Он уже давно поделился своими замыслами с Майковым и Серовым. Те советовали выждать, когда на неподвижного воеводу найдет «подвижный стих»…. Очевидно, этот стих нашел. Федор спросил о пустующем здании.
– Како здание, дай бог памяти? – соображал отец города.
– А то, большое, втуне разрушающееся, объяснял Федор.
– Да их много таких. О коем речь?
Федор описал со всею обстоятельностью. Воевода посопел, заотдувался. Промолвил:
– Пригодно буде – можно ослобонить. Поделки иждивением обчим. Без нас. Казна воеводская тоща. Да где, чай! Обветшало зело…
Федор поблагодарил за разрешение и сказал, что с остальным сами как-нибудь справятся.
Не дожидаясь весны, приступили к расчистке складов и выяснению потребных переделок и расходов. Волков и вся его компания были вне себя от свалившейся им удачи.
Заслуживает быть отмеченным, что воевода через несколько дней раскаялся в чуть было не совершенном им благодеянии. Ему пришла в голову неплохая мысль, а ну, провиантская часть улучшится в ближайшие лета? Где хранить тогда дюже добрые запасы? Когда он очень озабоченно заявил об этом Ивану Степановичу, тот прямо взбеленился. Ругался с воеводой непристойно. Назвал его тюфяком, колпаком, кулем рогожным и еще многими поносными и обидными прозвищами.
– Мартын с балалайкой ты, а не воевода-радетель! – кричал помещик. – Эка! Провианты у него обретутся, у сумы переметной! А пошто оные до седня не обретошася? Нако-ся! Эконом сыскался, крыса монастырская! Алибо дождик, алибо снег, алибо будет, алибо нет. А со складом покончено. Обчеству оный подарен есть. Мертвецов с погоста не волокут – дюже дух чижол. Да мы уже и капиталы немалые на подготовку истратили. Плати протори, байбак! Владей своим дерьмом.
– Да из чего платить-то? – испугался воевода. – Где у меня капиталы? И чего ты ругаешься? Слова молвить нельзя… Я сказал: быть возможно…
– То-то, быть возможно. А нам всем ведомо, что сие невозможно, чтобы у тебя запасы казенные завелись. Ну, ладно. Помиримся. Лоджию[37]37
Ложу.
[Закрыть] тебе соорудим, твою собственную. Седалище особое, дабы выдержать возмогло персону твою непомерную. Сидеть будешь в оной лоджи один и пугать всех видом своим грозным, – улещал Иван Степанович воеводу.
Воевода сдался.
Весенние бури
Наступала весна 1750 года. Солнышко день ото дня пригревало все теплее и ласковее. Прошел уже и Алексей – человек божий – с гор вода. По ярославским буеракам звонко журчали мутные, грязные потоки.
Волга посерела и начала пухнуть.
У попов наступал пасхальный сенокос.
Почтенный семинарский хорег о. Иринарх положительно разрывался на части. Он метался от предстояния алтарю к комедийной хоромине: от храма бога живого к храму девы Мельпомены.
Это служение двум богам сразу производило временами изрядную путаницу в кудлатой голове о. Иринарха.
Облачаясь в священнические ризы, он думал о том, како надлежит облачить жрецов Перуновых – Жеривола и Кудояра. Слушая гнусаво-косноязычное чтение своего дьячка Онуфрия, старался запомнить его козелкование, дабы потом заставить тако честь монологи Беса Хулы в «Трагикомедии о Владимире, словенских стран князе»[38]38
Сочинение Феофана Прокоповича, писателя и государственного деятеля, помощника Петра Великого в деле насаждения в России просвещения (1681–1736).
[Закрыть], которая уже с месяц как разучивалась семинаристами для выпускного представления.
К великому прискорбию хорега все шло не так, как ему было потребно.
Семинаристы Нарыков Иван и Попов Алексей заканчивали в этом году курс семинарского обучения. К отправлению «Владимира» они не проявляли ни рачения, ни тщания, ни прилежания прежних лет. На пробы являлись с опозданием, прощения не просили, замечания выслушивали не тем местом, как если бы оные их и не касались. Сладкогласные вирши жевали яко ленивые волы солому с крыши, крутили головами, фыркали, как если бы им не по носу пришелся табак. Издевались над велеречием достопочтенного сочинителя. К горячему воодушевлению своего хорега относились с прохладою превеликою. Дерзость свою простирали до того, что чуть ли не каждое указание своего учителя оспаривали с усмешкой, стыдно глумились над его «правилами» во всеуслышание. Прямо бес вселился в непокорных!
«Годи, я вам влеплю аттестацию, – со злобою думал о. Иринарх. – И другие-прочие влепить також не замедлят. Уж как пить дать, а рясы-то вам, наглецам, не видать…»
Растлевающее влияние волковского сарая было налицо. Погибли добрые семена, посеянные любящею рукою о. Иринарха. Досада разбирала почтенного хорега, напрягавшего ум в изыскании каверз, могущих круто насолить его соперникам по хорегии.
«Без помощи Волкова также не обойтиться, – соображал архимандрит. – Покеда ласкою, а там и таскою… Ужо!.. За глумы – глумы, за смешок – оплеуха, за щелчок – десять. Седмерицею ли воздам глупцам, о Господи? Не седмерицею, а семьюжды-десять седмерицею. Помогите мне отправить «Владимира», а там – сочтемся весной на бревнах…».
В кожевенном сарае шла своя дружная и лихорадочная спешка. Все подновлялось, приводилось в порядок. Пока будет готов новый театр, придется довольствоваться старым сараем, вступавшим во второе лето своего существования на потребу словесности российской.
Несмотря на все усилия, к лету новый театр едва ли удастся закончить, а смотрители уже осаждают, требуя скорейшего зачала.
Федор Волков без устали метался от сарая к театру, от театра к конторе, от конторы к «пайщикам», выискивая средства, где только можно.
Плохо обстояло дело с новыми пьесами. Их не было и негде было добыть.
Брат Иван, отправившийся по торговым делам в Питер, получил строжайший наказ привезти все елико возможное. Федор снабдил Ивана просительными письмами к господину Сумарокову, «також и ко многим протчим персонам, к театру отношение имеющим».
Открытие серовского сарая должно было последовать немедленно после пасхи, в ближайший праздничный день, как только явится возможность смотрителям прилично добраться до театра по проложенным через грязный двор мосточкам.
Пока предполагалось ограничиться старыми постановками, благо смотрители готовы были смотреть и старое.
Попутно Федор Григорьевич работал над оперой итальянца Метастазио «Титово милосердие», переводя ее, совместно с Ваней Нарыковым, на российский язык. Где-то, говорят, уже имеется русский переклад, да как его добыть? Быть может, брат Иван из Питера доставит…
Работа над «Милосердием» – кропотливая и нудная. Проходит она почти вслепую, больше по догадкам. Итальянский язык знает один только Федор, и то явно недостаточно. Приходится руководствоваться больше по знаниями в латыни, которая всем небезызвестна. Итальянский текст перекладывается по малости, по словечку, по догадкам и домыслам, через пень-колоду.
Однако опера Федору Волкову нравится. В ней он рассчитывает применить свои музыкальные познания и способности. Пишет партитуру церковными нотными знаками. Подбирает и подгоняет музыку по народным мотивам. Придумывает свою. Составляет, слаживает, совокупляет оркестр из инструментов, никогда и не снившихся заправским музыкантам. Развел целую «ораторию». Обучает охочих ребят орудовать на этих инструментах.
Увлекает мысль, что все делается самими, «из головы», без помощи каких-либо руководств и подсказок.
Дело идет туго, но все же подвигается по малости Ведь и время движется по малости, однако ворочает какими делами!
На пасхе было два представления. На домашнем театре Серова – «Артистона», и она же в доме Майкова. Оба раза при участии Татьяны Михайловны.
Кроме того, у Майковых была прослушана дополненная «Федра» на французском диалекте. Татьяна Михайловна вызвалась переложить трагедию Расина на российский язык. Федор Григорьевич горячо одобрил предложение.
Доморощенные пииты Алеша Попов и Ваня Нарыков мечтали уже положить еще не существующий перевод на российские стихи, по примеру господина Сумарокова.
С участием Татьяны Михайловны в летних представлениях вопрос стоит открытым. И неприятно открытым. Довольно, казалось бы, мягкий и покладистый во всем Иван Степанович уперся на том, что де невместно его племяннице, и вообще барышням хорошего круга, комедиантствовать в каком-то кожевенном сарае. Неприлично показываться накрашенными перед чумазыми, невежественными мастеровыми и прочим подлым людом.
Исподволь, но неукоснительно проводимые о. Иринархом подзуживания Майкова делали свое дело. Иван Степанович заметно изменял свои взгляды на служение театру. Он все чаще отваживался развивать перед Таней и Федором, обыкновенно порознь, резоны вроде того, что де благородный домашний театр – одно, а обчественный сарай – нечто совсем другое; что, мол, на девиц, рискнувших подвергнуть себя публичному обозрению на показ разного сброда, оный сброд начинает смотреть как на доступных непотребных девок.
Пусть на просвещенный взгляд это представляется совсем иначе, так ведь он и не имеет никаких возражений противу выступлений перед людьми почтенными и благородными. Сие он доказал со всею широтою своих воззрений европейских, позволив своим дочерям и племяннице упражняться на благородном театре целую зиму. Что же касаемо до снисхождения до черни, до панибратства с нею, то воля ваша, а оное несовместно ни с положением девиц приличных, ни с высоким достоинством дворянским.
Последнее объяснение на эту тему происходило в кабинете Ивана Степановича, в присутствии Тани и Федора. Волков до глубины души был возмущен и разгневан рацеями помещика. Внутренно дал себе слово не переступать более порога этого дома и вообще направить свою театральную деятельность по иному пути, какими бы последствиями это ни угрожало.
Во время этого неприятного объяснения и со стороны Федора и со стороны помещика было сказано много резких и лишних слов.
Татьяна Михайловна сидела бледная, с неподвижным, каменным лицом, почти не произнося ни слова. Только судорожно сжимаемые пальцы да вздрагивающие ресницы полузакрытых глаз выдавали ее сильное внутреннее волнение. Федор Григорьевич с трудом подавлял в себе неодолимое желание нанести хозяину тяжелое оскорбление. Наконец-то этот барин, который умел так мягко стлать, показал свое подлинное лицо! Оно и к лучшему. Федор начал прощаться. Молча поклонился помещику. Татьяне Михайловне сказал:
– Простите, я должен покинуть этот дом. По причине… занятости моей.
Таня подняла на него глаза, полные тоскливой мольбы. Не то протянула Федору руку на прощанье, не то пыталась ухватиться за него.
Федор не счел себя вправе уйти, не ободрив девушку хоть чем-нибудь. Он обеими руками схватил ее руку, крепко стиснул ее. Произнес как можно выразительнее:
– До скорого свидания, Татьяна Михайловна.
В ответ послышался какой-то неопределенный звук, похожий на неясно произнесенное слово или на стон.








