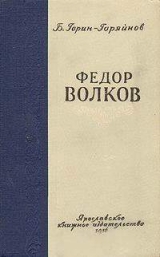
Текст книги "Федор Волков"
Автор книги: Борис Горин-Горяйнов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
«Забава»
«Забавой» именовалась исконная стародавняя веселая потеха ярославцев, «зачала» которой никто не помнил. К зиме она несколько замирала и сокращалась, с наступлением лета вновь разгоралась и развертывалась вовсю.
Известно было, что подобные ж «забавы» справлялись и во многих иных городах.
Летом выбирали какой-нибудь поместительный сарай, ставили наскоро разборные подмостки. Для смотрителей натаскивали скамей, пустых ящиков и бочонков, пеньков и досок – и «тиятер» был готов. Зимой орудовали без всяких подмостков, в комнатах, в избах; на рождественских праздниках – где-нибудь на дворе, на расчищенном снегу.
Приготовления были крайне несложны, смотрители всему верили на слово.
В прядильном сарае Канатчиковых такой самодельный театр существовал уже лет пять подряд. Сарай был очень удобен – длинный, широкий, с воротами в одном узком конце прямо на улицу. В противоположном конце – большое прядильное колесо; перед ним и ставились подмостки. Что бы ни разыгрывалось на подмостках, колесо неизменно служило основной декорацией.
Одним боком сарай выходил на широкий двор. С этой стороны имелось несколько дверей. Во время кручения веревок двери открывались «для света».
«Смотрельная палата» имела несколько необычный вид. Всюду – из-под крыши, со стропил и со стен – свешивались гирлянды паутины, конопли и кудели, густо усеянные костричиной. Местами эта поросль была настолько густа, что казалось, будто сарай за древностию лет обрастает длинными седыми космами.
На стенах красовались подвешенные круги новых веревок. Они были похожи на корабельные спасательные круги. Да и весь «театр» чем-то напоминал обомшелый изнутри старый корабль. Вдоль стен на земле высились бочкообразные свертки толстых канатов. Они также служили сиденьем для смотрителей. Углы и проходы были завалены грудами кострики. В ней всегда с наслаждением копошилась детвора, поднимая изрядную пыль.
Земляной пол, обычно скрывавшийся под густым слоем клочков кудели и кострики, сейчас, по случаю открытия, чисто выметен. В глухом углу сарая, у прядильного колеса, на низеньких козелках и бочатах настланы в два слоя новые тесины. Вокруг все густо обсажено свежими пахучими березками.
Сарай очень низок. Комедианты на подмостках едва не касаются головами стропил. Но на это никто не обращает внимания. Театр всем кажется очень удобным и нарядным.
Все двери в сарае настежь. Смотрители не скучают в ожидании комедиантщиков. Уж за несколько улиц слышна протяжная многоголосая песня:
«То не горькая кукушечка в роще куковала,
Тосковала, разливалась душа-девица
По милом дружке, по неверныим…»
Увидав подошедшую ватагу комедиантщиков, смотрители оборвали песню. Послышались недовольные, задиристые выкрики:
– Зачинать пора! Али не выспамшись? Зазнались робята, с барами якшаются…
Шумский с разбега вскочил на помост, залихватски свистнул:
«Эй, купцы богатые,
Молодцы тароватые,
Девицы красные,
Глазки подведенные да ясные,
Тальи поясочками схвачены.
Щечки кирпичом насандарачены».
Девицы завизжали, захихикали, начали кидать в «обидчика» щепочками. Парни загоготали… Шумский быстро и ловко подбирал давно знакомые присловья, вспоминая раньше заученное, фантазировал сразу «из головы», не умолкал ни на секунду, чтобы дать возможность комедиантам подготовиться:
«Коль собрались – ждите череду,
Не молотите языками лебеду,
Не верещите, что сорока,
Из оного не выйдет прока.
Всему свой черед.
И солнышко ино работает, а ино и отдых берет».
Смотрители запальчиво закричали:
– Солнышко-то работает эва с какой рани! А вы, баре, до полуден в пуховиках нежитесь. Царство небесное проспите! Али к попам в пономари подрядились свечные огарки жевать?
Шумский решил разделаться с неугомонной публикой по-свойски:
«Вы вот что, ребята,
Комедианты люди вежливые,
Сговорчивые и очестливые,
Коли с ними по добру да по хорошу.
Не ндравится – пожалте за дверь, на порошу.
Известно, вы привычны так:
Обронил пятак, собрал четвертак
И ну кричать: расхватали!
Как вы к нам, так и мы к вам.
Брат за брата, голова уплата.
Не ндравятся наши порядки —
С нас взятки гладки:
Взял боженьку за ноженьку
Да и об колоду,
Али бо за хвост да в воду».
Смотрители захохотали, захлопали в ладоши, закричали в восторге:
– Ловко чешет, дуй его горой! Не язык – бритва! Чай, на ремень правит, сам брадобрей! Вали, Шумской!
«Минутку терпенья,
Будет вам представленье.
Вот токо перекручу онучки,
Да подожду вон той далекой тучки.
Что она несет, дождик али снег,
Али и вовсе ничего нет?
Разведаю, тогда вам доложу,
А покеда посижу да погожу»,
Шумский умолк и с серьезным видом расселся на помосте. Смотрители хихикали, ждали, что будет дальше. Шумский долго любовался на свои сапоги, потом снял один и начал рассматривать в него публику, как в подзорную трубу: сапог был без подошвы. Смотрители хохотали от души, особенно девицы.
Публика собралась самая разношерстная. Старики и молодежь. Девицы в ярких сарафанах, румяные, ядреные, с косами до колен, со стеклярусными поднизями на головах. Некоторые одеты по-модному, в юбках «на фижбиках»[13]13
Фижмы.
[Закрыть], рукава пуфами. Парни в широченных синих китайчатых рубахах, с огромными красными ластовицами, вшитыми подмышки. Некоторые в щегольских поддевках синего сукна, реже – в немецких кафтанах и камзолах. Чуйки, сибирки, епанечки, шляпы гречушниками. Босоногая детвора в длинных ярких рубахах, иные без штанов, – этих больше всего. Жеманные мещанки в киках[14]14
Праздничный головной убор замужних женщин.
[Закрыть], во вдовьих темных нарядах, – скромные неулыбы, губки сердечками. Старушки в черных платочках, в синих до мотканных «монашеских» сарафанах. Компания купчиков с женами в пышных шелковых платьях, с кашемировыми шалями на плечах, в атласных алых повойниках.
Ждать приходилось долговато, – очевидно, комедианты где-то за сараем устраивали примерную пробу. Бойкая черноглазая девица не выдержала, на весь театр засетовала протяжно и жалобно:
– Вот так весь денек, милые, и сидите, да на колесо глядите.
Смотрители дружно захохотали.
– Эй, дядя Яша, отрада наша, – крикнула та же девица Шумскому, – коли же будет «Лодка?»
Шумский, надевший дырявый сапог, не задумываясь ответил:
«Будет, прекрасная молодка,
Будет и стружок и лодка.
Уж давно смолят,
А вам ждать велят».
– Идут, идут! – заорали ребятишки.
Из-за сарая вышла ватага добрых молодцов в красных рубахах, в шапках с перьями, с перевязями через плечо. На перевязях болтались деревянные сабли. На одном молодце были навешаны какие-то диковинные медали величиной в ладонь.
Молодцы вальяжно взошли на помост, вытянули из-за березок низенькие лавочки, расставили их поперек помоста, уселись по-трое, лицом в одну сторону. На «носу» в молодецкой «позиции» стал сторожевой. Прикрыл глаза рукой, начал всматриваться вдаль. Атаман – видный и осанистый Ермил Канатчиков – поместился посредине, задумчиво подперев голову рукой. На «корме» гусляры взяли с перебором. «Разбойники» согласно, в такт, начали работать «веслами». Запевала – Кузьма Канатчиков – залился с высокой звонкой ноты.
Хор разбойников дружно подхватил:
«Как с Яика-реки да к Волге-матушке…
Туча черная да надвигалася…»
Гусли зазвенели громче, пальцы забегали быстрее, жалобно зарокотали струны. Кузьма поднажал, с дрожью в голосе:
«Как на Волге-реке, по надбережью…»
Хор гаркнул:
«Вольна-вольница да собиралася!»
Кузьма все наддавал, молодецки встряхивая кудрями:
«Туча черная с громом-молоньей
Вихрем-бурею да разразилася…»
Смотрители не выдержали безучастного сиденья, дружно подхватили вместе с разбойниками:
«Волга-матушка да по крутым бережкам
Грозным посвистом огласилася…»
Действительно, сразу несколько человек – и разбойников и смотрителей – ловко и в лад начали присвистывать.
Кузьма с широким жестом обратился к брату-атаману, спрашивая:
«Ох ты, гой еси, атаман лихой,
Удалой Степан Тимофеевич,
Ты за что про что закручинился,
Хмуришь тучею грозны оченьки?»
«Подголоски» из разбойников спрашивали вразбивку:
«Али красною душой-девицей
Сердце молодца полонилося?
Аль тебе, атаман, воля вольная
Буйством-удалью принаскучила?»
Атаман приготовился ответить один, но с ним вместе подхватили все смотрители дружным хором:
«Нет, невместно мне с бабой нежиться,
Не наскучила вольна волюшка,
А болит душа за почестный люд,
Что спокон веков мукой мается».
Песня кончилась. Начиналось действие. Сторожевой – человек с медалями – сделал шаг к атаману и отчетливо доложил:
Сторожевой.
Атаман честной, Степан Тимофеевич,
Не вели казнить, вели слово вымолвить.
Атаман.
Говори, мой верный есаул Черный-Ус.
Есаул.
За сизыми тучами, за бережными кручами,
Виден город сооружен, частоколом окружен,
С церковными макушками, с бойницами и пушками.
Атаман.
Что сие есть за город, молодцы?
(Разбойники хором)
Город есть Синбирской,
Воеводой в ем злодей мирской.
Атаман (вставая).
Эй, вольная вольница, кабацкая голь!
Атаманов приказ слушать изволь:
Острите сабли, заряжайте пищали,
Чтобы стены синбирски под топорами трещали.
Знаю я того злодея-воеводу,
Много чинит лиха простому народу.
Все разбойники.
Воеводу в воду!
Хор.
Как под городом Синбирском
Говорил наш атаман:
«Гей, дружина удалая,
Рассыпайся по горам».
Представление длилось еще изрядно долго. После Симбирска следовали: Самара, «малый городок» Хвалынской, Вольской, и так вплоть до Астрахани. Несколько однообразный «разговор» обильно перемежался известными всем песнями, от самых грустных до веселых плясовых. В пении обязательное участие принимали все смотрители. После взятия «славной Астрахани» представление «Лодки» закончилось залихватской общей пляской с посвистом, под стрекотню десятка неизвестно откуда появившихся балалаек.
Дальше следовало еще много диковинных вещей.
Шумский, укрепив на помосте особую заслонку, показывал из-за нее «кукольную кумедию». Появление длинноносого Петрушки, с его пронзительным, скрипучим голосом, было встречено всеобщим восторгом, радостными криками и плесканьем в ладоши. Все куклы были собственноручно сделаны Шумским и раскрашены Иконниковым.
Шумский мастерски «калякал по-петрушечьи», – с пищиком особого устройства во рту. Петрушка предварительно спел песню про «Муху-горюху и комаря-звонаря». Потом поздоровался с честным собранием, «проздравил» с праздником.
Красным девушкам послал воздушные поцелуи. Пообещал, погодя, их «пожать, помять, попудрить мучкой, погладить ручкой, подрумянить небритой бородой и подарить подарок дорогой».
Девицы визжали, закрывали лица растопыренными пальцами, чтобы все же видеть, что делает Петр Иваныч. Петрушка подробно рассказал, где он был и что видел со времени последнего свидания с честным собранием.
Оказывается, он побывал «в городе Парыже, лечился от грыжи; был в городе Италии, где все девицы без талии и так далее, – без бедер и грудей, и совсем не похожи на людей, ходят как коровы и все отменно здоровы». Теперь он очутился «в городе Ярославле, во всей красе и славе». Жаловался, что «по случаю Троицы в животе чтой-то не строится», какие-то «в животе колючки позывают на частые отлучки». Рассчитывал «в знакомой кумпании на добрый прием, а наипаче с красной девицей вдвоем».
Смотрители хохотали, визжали, хлопали. Задавали Петру Иванычу шутливые вопросы, на которые он отвечал непременно «складно».
Ребятишки из зала перекликались такими же «петрушечьими» голосами.
Потом появилась новая персона – худой и длинный «лекарь-пекарь и аптекарь». Пекарь щупал у Петрушки «пульсу» на носу, заставлял его «дыхать, пыхать, кашлять, чихать и всяки звуки издавать». Колотил его, что было мочи, «между лопаток, в поясницу и так до пяток».
Лекарь нашел у Петра Иваныча «злую немочь сухотку-чахотку, а паче к кабацким питиям охотку». Назначил очень сложное лечение: настой из красного перца, чтобы оттягало от сердца; внутрь – белену и молочай, к затылку – Иванов-чай; на горло – пластырь вонючий, шею обмотать онучей; по пуду кулаги в каждый лапоть и чтобы «покеда девчонок не лапать»; натощак, поемши, принимать по посудине «целебного зелья-варева, которо на адском огне варено». Следовало перечисление входящих в состав лекарства веществ. Тут были и поташ-корень, и собачья голень, и настой на какой-то «одной вещи простой», и щучье вымя, и «мазь которая не имеет имя». Все это с прибавкой жира-инжира, накипи со щей, тараканьих мощей, ревеня и травы чур-меня, чаю-шалфею, лампадного елею, мази-камфоры, а после всего – провалиться в тартарары.
За сим последовала честная и добросовестная выплата лекарю гонорария за совет. Петрушка «слазил в сундучок и добыл оттуда добрый дрючок». Расплата длилась очень долго. Петрушка припоминал каждую специю и усердно отсчитывал лекарю по загривку.
Публика была в восторге, просила прибавить, напоминала, за что Петр Иваныч позабыл заплатить.
После лекаря явился подъячий-взяточник, потом винный откупщик, наконец хожалый, чтобы забрать буяна в сибирку.
Все они получили свое, не исключая и хожалого. Под конец Петрушка спел песню о том, «как на свете надо жить, чтобы брюхо отростить».
Смотрители не желали отпускать своего Петра Иваныча, требовали повторений. Предлагали деньги, упрашивали. Вылез из-за прикрытия Шумский, со вздохом объявил:
– Петр Иваныч занемог, лежит без задних ног, ждет помощи от бога и подкрепляется винцом немного.
Далее было объявлено о прибытии «столичного стихотворца», который прочтет «очень грустный стих из своей головы». Смотрители насторожились.
Вальяжно вышел разодетый по-модному Алеша Попов, – в ярком кафтане, в белом пудреном парике, в шляпе с позументом. Раскланиваясь с публикой, стащил вместе со шляпой и парик. Потом снова нахлобучил парик на голову.
– Да это Ленька Попов! – закричали ребятишки.
Алеша отыскал глазами Машеньку Ананьину, ту самую бойкую девицу, которой надоело ждать начала. Уставился на нее в упор и начал читать сочиненные им стихи.
Откуда-то сбоку послышалось рокотание гуслей. Это Федор Волков наскоро подобрал музыку для алешина сочинения.
«Ах и что со мною с добрым молодцем сталося?
Ах и куда моя сила буйная девалася?
Мне печаль, тоска-кручинушка связала плечушки,
Стал я, молодец лихой, смирней овечушки.
По-над речкою стоит домишко в два окошечка,
Там сидит моя зазноба, будто кошечка.
Прохожу ли мимо – сердце трепыхается,
А она, жестокая, над мною надсмехается.
В жар-озноб меня кидает, моя любушка.
Сжалься, смилуйся над мальчоночком, голубушка!
Улыбнись мне, рассмейся из окошечка..
Нет! Сидит Ягою-бабой моя кошечка.
И чего я, парень, так горю и маюся?
Пойду брошусь с кручи в Волгу… – искупаюся».
Слушали внимательно. Привставали с мест, чтобы рассмотреть, к кому это он так упорно обращается.
– Утопнешь! – кричали мальчишки.
Не смутившаяся нимало Машенька, не переставая лущить семячки, громко сказала:
– Эка беда! Одним кутейником меньше будет.
Публика захохотала. Алеша ушел за сарай, совсем обескураженный.
Дальше играли на гуслях, сначала Федор и Гриша Волковы вдвоем, потом один Федор.
Играл он хорошо и долго – смотрители не отпускали.
Под конец спел песню, сочиненную им самим, сам играя на гуслях. Песня была грустная и начиналась словами:
«Станем, братцы, петь старую песню,
Как живал люд честной в старину…»
Голос у Федора был сочный и гибкий, глубоко западающий в душу. И гусляром он был отличным, умелым и музыкальным: гусли под его быстрыми пальцами только что не разговаривали. В отношении к нему у смотрителей проглядывало какое-то особое почтение, без того панибратства, с каким они относились к его веселым товарищам.
Солнышко уже было низко, вот-вот сядет. В сарае становилось темновато.
Вышел Ермил Канатчиков, поблагодарил почтенных смотрителей за посещение скромной «забавы», просил пожаловать в будущее воскресенье.
– На нонешний день будя! – закончил он.
– Маловато! – торговались смотрители.
– Хорошенького помаленьку, – скромно заявил Ермил. – Да и темновато становится.
– Нам не кружево плесть, и в темноте услышим, – уговаривали смотрители.
В это время у ворот с улицы послышалась громкая брань. Кто-то грозил оттузить кого-то палкой. Все повернулись к воротам.
Оттуда, расталкивая народ и ругаясь во весь голос, пробирался человек в диковинном «заморском» наряде, – в каких-то разноцветных широких плащах, одетых один поверх другого, в огромном парике из сивого конского волоса и с чудовищно большими «гляделками» на носу. За ним, мелко семеня ножками, шла хорошенькая девушка, тоже одетая по-заграничному, в коротенькой юбочке. Шествие замыкал понурый человечек в широченном белом балахоне с красными пуговицами величиной в кулак, в остроконечном колпаке, но в лаптях с онучами. Лицо сплошь вымазано мукой. «Девушка» подозрительно легко вскочила на помост, мужчины с шутовскими ужимками полезли за ней.
Начиналась «интерлюдия» на заморский манер.
– Куда ты завел нас с дочкой, обжора, плут, ленивец? – кричал старик, пытаясь достать набеленного человека палкой. – В какое царство-государство? В какие дебри-пустыни?
– Какие ж дебри-пустыни, Панталон Иваныч? Глянь-ка, скоко народу сидит, – указал Арлекин в лаптях.
Следовало разглядывание публики, догадки, что за люди такие есть.
– Може людоеды? – спрашивал Панталон.
– Може и гужееды, – соглашался Арлекин.
– Може чухонцы?
– Може и пошехонцы, – по-своему перевирал тот.
– А може они нас скушают? – трусил старик.
– Може и скушают, а покеда смирно слушают.
– Уговори их, мой добрый, верный слуга, Арлекинушка.
– Да они нашинского разговору не понимают.
– Как же нам быть? Как отседа уйтить?
– Чтобы уйтить от таски, потребно затеять пляски, – советовал слуга.
– Так зачинай скореича, Арлекинушка!
– Да я их разозлю токо своими лаптями. Пусть спляшет ваша дочка Кулембинушка. У ней ножки потонче и каблучки позвонче.
К этому все и сводилось. Слова придумывались тут же, со множеством местных шуток и прибауток. Болтали очень долго, перебирали всех по косточкам. В конце концов начались пляски под хор балалаек, появившихся со всех сторон.
«Кулембина» – Гриша Волков – прошлась русскую. У Арлекина – Чулкова танцовали одни лапти. Панталон – Иконников изобразил «минавету»[15]15
Менуэт.
[Закрыть] на заморскую стать, передразнивая барские танцы. Арлекин сплясал трепака. Под конец все трое, включая и «Кулембину», лихо, с подвизгиваниями, пошли вприсядку.
Смотрители хлопали в такт, присвистывали, прикрикивали, подбодряли плясунов, сами семенили ногами. Сестры-кружевницы Ананьины, Ольга с Марьей, не выдержали, полезли на подмостки. Попросили сыграть русскую. Прошлись пазами вдвоем. Потом Машенька плясала в паре с Гришей Волковым. Ольга искала кого-то глазами. Увидев Шумского, мигнула ему.
– Иди, напоследок!..
Шумский не заставил себя упрашивать. Когда первая пара утомилась, Шумский с Ольгой пошли показывать, как надо плясать со всякими кренделями и выкрутасами.
– Вот они куплементы-то заморские, видали? – выкрикивал Шумский, выделывая самые невероятные коленца. – Сам дошел, без папаши, без мамаши! Это тот самый минавет, на коем я подметки проел! Эх, ма!.. «Ходи девка, веселе, будешь первой на селе…»
В «зале» только и было слышно: «Ух! Ух! Ух! Ух!»
– Наддай, дядя Яша!..
Дядя Яша наддавал, не жалея сапог, подзадаривал Ольгу:
Раскомаривай, Матрена,
Ты и сдобна и ядрена!
Ух, ты!..
– Шевели, шевели веселей лапоточками!.. «Любит Маша дядю Яшу, дядя Яша любит кашу». Отдирай лычки, примерзли!
Плясали доупаду, пока не выбились из сил. Смотрители давно уже повскакали с мест, толпой сгрудились у подмостков, плясали сами. Музыка оборвалась.
– Шабашка! – крикнул Ермил Канатчиков. – Окончательный конец. Мостки переломали!
Стемнело.
Пока комедианты приводили себя в порядок, смотрители, не желая расходиться, затянули хоровую песню. Канатчиковы запирали сарай и просили смотрителей «честью» очистить «театру». Молодежь с песней направилась в сторону Волги.
«Покаяние грешного человека»
На другой день часов в семь утра Федор отправился в соборный дом, где его ждал о. Иринарх. Рабочие и семинаристы приводили зал в порядок, украшали его свежесрезанными березками.
На сцене устраняли последние недоделки. По совету Федора, как помост, так и площадки проскениума были застланы толстыми серыми половиками.
Федор заставил проверить механизмы облаков, велел смазать маслом блоки и подвижную тележку. Без конца сам проверял их ход. Завесили обильные щели и просветы в «першпективах» и боковых рамах. Несмотря на день и достаточно яркое освещение, Федор потребовал собрать как можно больше фонарей, заправить в них толстые восковые свечи и расставить фонари потаенно во всех темноватых углах сцены. Адское жерло распорядился огородить низенькими красноватыми каменьями, сделанными из мешков, набитых опилками. Жерло стало невидимым для смотрителей. Иконников в последний раз прошелся по всему своею кистью. Федор добился того, чтобы большая туча не висела неподвижно посредине сцены, а двигалась очень медленно, незаметно для глаза, слева направо и скрывалась бы из поля зрения как раз в тот момент, когда надлежало спуститься на ее место светлому облаку. Приставил к этой механике особых надзирателей, отвечающих за правильное действие механизмов.
О. Нила с его органом огородили «утесами», отставленными за излишком со сцены.
Все сценическое сооружение, в итоге многих усилий и ухищрений, получило достаточно цельный и необычный вид, приобрело рельефность. Попробовали несколько затенить окна в зале березками – сценический вид значительно выиграл.
Федор был очень доволен своей работой; он уже увлекся ею, как художник. О. Иринарх, позабыв о самолюбии, только всплескивал руками и восклицал:
– Коль торжественно и искусно! Наипаче же устрашающе! Ну, друже Федор Григорьевич, по гроб не забуду услуги.
Начали собираться участники представления. Федор обособил их в заднем, смежном со сценою помещении, строго запретив показываться раньше времени посторонним. Приказал заблаговременно одеться в костюмы. Всех осмотрел. Подрезал картонные крылья у ангелов, укоротил хвосты чертячьих персон. Отменил употребление угля для раскраски бесовских харь, заменив уголь мазью, тут же собственноручно изготовленной из жженой пробки, сала и квасной гущи. Черти получились с темными ликами и стали похожи на эфиопов.
Ваня Нарыков, пришедший в «театр» одновременно с Федором, ходил за ним по пятам. Восторгался «Гамлетом», читал затвержденный уже наизусть монолог:
«Что делать мне теперь? Не знаю, что зачать.
Легко ль Офелию навеки потерять?»
Федор посоветовал ему выкинуть пока из головы «Гамлета» и протвердить покаянные вирши.
– Да я их как «отче наш» затвердил, – сказал Ваня.
– И все же протверживай полегоньку до самого начала представления. Ни на миг не упускай из вида, что тебе ныне надлежит быть грешником кающимся, а отнюдь не принцем датским. В тожестве твоем с изображаемою персоною – основа искусства твоего, – добавил Волков, шутливо потрепав бахрому Ваниных «грехов».
Так как занавеса не было, удалили из зала всех праздношатающихся и зал заперли на крючок до момента впуска смотрителей. Федор занялся органом о. Нила. Он разобрал почти дотла хриплую машину, к великому ужасу о. Иринарха. Затем принялся проверять каждую трубу в отдельности. Это была копотливая и трудная работа. Часа через два времени орган был вновь собран. Федор сел сам его испробовать. Получилось нечто несоизмеримо благопристойное. О. Иринарх захлебывался от восторга.
– Непостижимо есть! Инакие, а наипаче вельми мусикийные гласы! Давидовы таланты в тебе, друже Федор Григорьевич.
Посадили за орган о. Нила. «Мусикийные» гласы поблекли.
– Паки попортилась махина? – испугался архимандрит.
– Не в махине дело, отче. Запасемся терпением, – сказал Федор.
Принялся за трепещущего о. Нила. Бился долго и безуспешно. Орган отказывался повиноваться.
– Как быть? Как быть? – сокрушенно вздыхал о. Иринарх.
Федор отвел его под руку в сторонку, сказал:
– Боюсь, с музыкою ничего не получится…
– Погибоша, аки обре! – схватился за волосы архимандрит. – Испоганили «Покаяние»!..
– Намечается выход некий, да не знаю как… – начал Федор. – Не обиделся бы отец Нил…
– И пошто ему обижаться? – недоумевал о. Иринарх.
– Замену ежели ему произвести в моем лице? – неуверенно сказал Федор.
– Друже! – обрадовался хорег. – Да он благословит тя во вся дни живота своего. Убогой старец трепещет осрамиться перед лицем преосвященного. Он уже плакал многократы по углам темным.
Дело уладилось. О. Нил возблагодарил бога за избавление от напасти, перекрестился. Федор принял на себя «мусикийную» часть.
Время приближалось к полудню. Федор проверил всех исполнителей. Каждого в отдельности осмотрел со всех сторон, – где подправил, где подрезал, где подмазал. Долго внушал всем правила благопристойного, подобающего случаю поведения во время действа.
По коридорам и обширным покоям соборного дома плыл сдержанный, все нарастающий гул. Собирались смотрители. О. Иринарх, в клобуке по всей форме, дежурил у входа, ожидая прибытия архиерея и иных почетных гостей.
Архиерей прибыл в комедийную хоромину, приветствуемый колокольным трезвоном «во все». Немного раньше прибыл помещик Майков с двумя дочерьми и племянницей. Это были единственные женщины, не убоявшиеся «Покаяния грешника».
О. Иринарх с Майковым встретили главу церкви, подойдя под благословение. Под руки, в сопровождении целого синклита духовных, повели владыку в хоромину. О. Иринарх широко распахнул обе половинки двери. Преосвященный Евлогий, поддерживаемый под руки уже двумя иеромонахами, остановился, благословил святительным крестом комедийную хоромину. Пытался разглядеть сооружение «скенэ». Ничего не увидел.
– Показывай чудеса-то свои, архимандрит. Где они?..
О. Иринарх предупредительно побежал вперед, указывая дорогу. За ним двинулся владыка со своими нянями. Это был ветхий архиерейчик, весельчак и балагур, почти выживший из ума.
Он долго стоял у самого помоста. Разглядывал из-под руки «першпективы», хихикал, заглядывал в лица провожавшим, чмокал губами, наконец произнес высоким фальцетом:
– А? Каково? Вельми изукрашенно… Зело благолепно… По какому чину-то, архимандрит?
– По эллинскому, преосвященный владыко.
– Ах, да, да… По эллинскому… Сие невозбранно… И сами мы, почитай, что эллины наполовинку… Архимандрит! Ты великий искусник. Поглядим, чем порадуешь далее.
О. Иринарх смиренно склонил голову. Владыку усадили на приготовленное седалище.
За скалами уже были зажжены все фонари. Сцена действительно выглядела картинно, торжественно и вместе с тем дико. Царившая вокруг благолепная тишина еще более усугубляла впечатление.
– И тучка, – умилялся архиерей, – плывет, никак, по малости… Архимандрит, почем за локоть тучи брал? Хватит расплатиться-то нам? – развеселился архиерей.
Тишину нарушал только он один. Каждый входящий в зал на минуту застывал на пороге, взглядывал на помост, как на алтарь, по привычке крестился и на цыпочках пробирался к ближайшему свободному месту.
Один дьякон Дмитрий, видимо, не чувствовал общего благолепного настроения. Он вылез из-за скалы, где был сокрыт орган, и направился к архиерею:
– Благослови, владыко…
– А! Дьякон! Трубокур! Ты еще жив? – весело говорил архиерей, благословляя своего бывшего однокашника.
– Покеда бог грехам терпит, владыко.
– Поглядеть явился, старый? Попечаловаться о грехах своих? Много у тебя их!..
– Поделиться могу с кем, владыко… А здесь аз грешный не для ради раскаяния. Понеже есмь в должности, по мусикийной части. Тружусь по малости во славу господа.
– Вот на! – удивился архиерей. – Егда же тя умудрил господь на сие?
– С измладости талан имею, владыко, – скромно заметил дьякон. – Чай, помните в бурсе костромской, вы Иосифа Прекрасного справляли, а я любострастную жену Пентефрия? Еще подрались мы в те поры, и ваше преосвященство весь вечер нюнить изволили…
– Да, да, да, – закивал клобуком, вздыхая, архиерей. – Млады мы тогда были, дьяче. Шибко привержены к комедийным и иным утехам. Токмо помнится, ты наипаче к нечистым тяготение имел? А?
– Истинно глаголите, владыко. С нечистыми дружен был, в рассуждении кумедии…
– Да, да, да… А ноне, значит, по мусикийной части? Так, так, так… Трудно, небось?
– А ничуть, владыко. Трудность невелика, знай меха накачивай.
Окружающие засмеялись, засмеялся и архиерей.
– Ну, благослови тебя бог, старче. Гряди ко исполнению должности своей.
Заштатный дьякон, с сознанием своего превосходства, гордо окинул всех взглядом и неторопливо полез к себе за скалу.
Прибыл толстый, большой и громоздкий ярославский воевода Бобрищев-Пушкин, а с ним целый штат приближенных.
Неожиданно раздались торжественные звуки органа. Этого как будто никто не ожидал. Все вздрогнули, притихли, затаили дыхание. Где-то далеко послышались перекликающиеся трубы. «Комедия о покаянии грешного человека» началась. Представление шло без перерыва при благоговейном, несколько трусливом молчании смотрителей.
Многие старцы плакали. Прослезился неоднократно и преосвященный. Он несколько раз в течение действа привставал со своего седалища, пугаясь воя нечистых.
Дьякон просверлил пальцем дырочку в холщевой скале и в свободное от мехов время наблюдал за смотрителями, так как самого действа ему все равно было не видно.
Когда архиерей трусил нечистых, дьякон злорадно бормотал:
– Ага! Спужался, греховодник старый! Пожди, вот ужо они тебя…
Представление длилось не менее двух часов. Кончилось оно чинно, исподволь, без сутолоки и недоразумений. Просто сцена опустела, музыка замерла, свет притемнился. Как будто ничего и не было.
Все сидели в молчании и не хотели верить, что все уже кончилось. Не хотелось уходить. А може еще что будет?
О. Иринарх, пошептавшись с архиереем, обратился к смотрителям:
– Конец, и богу слава. Плескать в ладоши разрешается.
Комедийная хоромина задрожала от дружных хлопков. Многие, вероятно, проделывали это впервые в жизни.
– Идите с миром, православные, – выпроваживал архимандрит смотрителей, – боле не будет ничего, до другого раза.
Смотрители начали выходить из хоромины. Звонари с соборной колокольни, увидав высыпавшую толпу, решили, что сейчас появится преосвященный, и радостно затрезвонили во все. Однако архиерей и не думал трогаться с места. Собравшаяся вокруг него и воеводы группа местной знати обсуждала событие.
– Ай-ай-ай!.. Колико жалостно и колико назидательно… – говорил преосвященный, сокрушенно покачивая головой. – Весьма достохвально, отец архимандрит… Прими благословение мое…
О. Иринарх, счастливый, облобызал руку пастыря.
– Полезное дело и того… дело полезное… и того… весьма полезное, – с трудом преодолевая одышку, пыхтел толстый воевода.
– Нарочито искусно слажено все действо, без погрешения противу правил декламаторских, – хвалил и помещик Майков.
О. Иринарх признался, что успеху комедии содействовали не одни питомцы академии, а также и некое число «вольных робят» или бывших питомцев, как, например, купеческий сын Федор Волков и другие.








