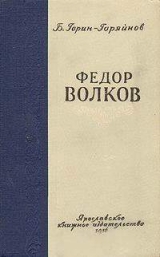
Текст книги "Федор Волков"
Автор книги: Борис Горин-Горяйнов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
С противоположного берега, из загородного дома Семена Кирилловича Нарышкина, доносилась совсем необычайная музыка – резкая, скачкообразная, но вместе с тем гармонически-приятная. Федор не в первый раз слышал этот единственный в мире знаменитый оркестр роговой музыки богатого вельможи. Всякая музыка действовала на Федора умиротворяюще, а эта особенно.
Звуки временами доносились так громко и отчетливо, что казалось, будто музыканты притаились где-то тут, за ближайшим пригорком.
Федор задумался о силе влияния на него всяких внешних явлений, в особенности звуковых. Попытался раскрыть причину своей впечатлительности. Долго думал и ни к чему не пришел. Однако заметно успокоился. Поднялся, раздумывая, идти ли к Олсуфьевой или лучше вернуться к себе домой.
Закат горел необычайно яркими оранжевыми и фиолетовыми красками. Легкие облачка, казалось, нарочно были разграфлены широкими мазками чьей-то кисти, мазками, расходившимися от горизонта к зениту. Дальше облака приобретали густо-лиловый оттенок.
Федор долго любовался медленно меняющейся игрою красок. Почти совсем успокоился. Решил пойти к Олсуфьевой.
В зале, куда его провела горничная, горели два канделябра. Федору прежде всего бросился в глаза большой мольберт с вертикально стоящим холстом. Его с видимым усилием отодвигал к стене какой-то пожилой мужчина с широким, открытым и упрямым лицом. Елена Павловна в светлом платье, с накинутым на плечи лиловым шелковым покрывалом, быстро поднялась навстречу Федору.
– Благодарю. Сегодня вы не заставили себя долго ждать. Очень рада. А мы тут немного увлеклись и не заметили, как время прошло. Бригадира еще нет, – он всегда к шапочному разбору. Вы знакомы? Нет?
Она небрежно кинула лиловое покрывало на стул и направилась к человеку с мольбертом.
– Господин Веласкес, бросьте вы этот мольберт, без вас уберут. Идите сюда, я вас познакомлю с интересным человеком.
Она потянула за руку слегка упиравшегося художника.
– Это – Федор Григорьевич Волков. Артист, музыкант, художник и прочая, и прочая. Одним словом, ярославец. А это – наш милый, добрый, славный, хороший – ну, и так далее – Иванушка. Иванушка Аргунов. О нем вы не могли не слышать. Знакомьтесь и будьте друзьями. Иванушка-то – наш домашний старый друг, родной человек, а вот вас, господин ярославец, никак не удается приручить.
Федор пожал руку новому знакомому и направился к мольберту.
– Что у вас здесь?
– Так, мазня, – махнул рукой художник.
– Иванушка, родной, не позволяйте вы ему совать свой нос в нашу тайну! – воскликнула Олсуфьева, загораживая мольберт. – Незаконченный портрет – то же, что и неоконченная трагедия. А судьба всего незаконченного очень плачевна.
– Нет, уж на сей раз позвольте, – сказал Федор, направляясь за канделябром и мягко отстраняя Елену Павловну.
– Пусть, – сказал художник.
Федор долго, с канделябром в руке, рассматривал большое полотно. На нем была изображена Елена Павловна с легким лиловым покрывалом на голове. Лицо, слегка улыбающееся, выписано чрезвычайно тщательно. Глаза блестят, как живые. Светлые блики в зрачках посажены чуть-чуть неправильно; получается впечатление, будто глаза немного косят.
Федор вспомнил, что ведь и натура иногда как будто слегка косит. Улыбнулся своей наблюдательности.
– Вот уж он и смеется, – сказала Елена Павловна.
– Пусть, – упрямо промолвил художник.
– Я не смеюсь, а улыбаюсь от благоговейного умиления, – проговорил Федор. – Вы здесь похожи на мадонну.
– Как скучно! – вырвалось у Елены Павловны. Художник тоже улыбнулся, молча потирая руки. Елена Павловна схватила Федора за руку и принялась тушить свечи в канделябре. Она вдруг рассердилась:
– Благоговейное умиление совсем не входило в мои расчеты. Ну, какая я мадонна? Наоборот! Иванушка, что же это такое получается? Первый же человек, который подглядел наш секрет, ни слова не говоря, бац: «Мадонна!» Больше не буду позировать.
– Мы вас заставим, – рассмеялся Аргунов. – Ведь так?
– Заставим, – рассмеялся и Федор.
Когда уже сидели в столовой, пришел Сумароков, сердитый-пресердитый. Мрачно спросил разрешения снять парик, швырнул его на подоконник.
– Что с вами, бригадир? Обидел кто? – спросила Олсуфьева.
– Разругался со всеми в пух и прах! Сумасшедший дом! В Москву ехать, а с кем и с чем? Неизвестно. Ох! Затрут они нас с тобой, Федя. Повезут одних итальянцев да французов. Иди завтра, договаривайся с Рамбуром, он заведует всем этим содомом. Кричи, требуй, настаивай! Я больше не могу! Я драться буду!
Федор обещал отправиться на утро к маёру Рамбуру и обо всем договориться.
Ужинали вчетвером. Аргунов рассказывал – и очень смешно – о своем детстве, когда он был дворовым мальчишкой у тетушки Елены Павловны. Как пачкал углем и мелом все заборы, как воровал у ключницы синьку и фуксин, и как раскрашивал ими телят и поросят.
– Сначала думали – домовой шалит, а как дознались – порка! – смеялся он.
Сумароков, дружески обнимая художника за плечи, сказал:
– Теперь не выпорют, друг Иванушка. Руки коротки.
– Да уж теперь было бы неприлично. Дюже я подрос.
– Хотя, чорт их побери, мы уж в такое время живем! У нас и академиков чуть не порют, – прокартавил Сумароков.
– Из оных я сама бы кое-кого выпорола, – вставила Елена Павловна. – Бог сорок грехов простил бы.
– Я знаю, на кого вы намекаете, – сказал прищуриваясь, Александр Петрович.
– Ну, и держите про себя.
Волков покрутил головой. Аргунов засмеялся:
– Мадонна с розгой! Сие – по-русски. Есть мадонны со щегленком, с виноградом, с пальмовой ветвью и прочее. А мы свою с розгой изобразим. Что нам стоит? Мы – чудаки и самоучки.
Болтали много и весело. Федор совсем позабыл о своей недавней хандре.
Когда уходили, Елена Павловна шепнула Волкову:
– А ведь «мадонна»-то – для вас. В знак памяти. Только попрошу Иванушку сделать ее погрешнее, чтобы похоже было.
– Мне ее и поместить будет некуда, у меня божницы нет, – отшутился Федор.
Елена Павловна только погрозила ему пальцем.
Когда Федор, распростившись со спутниками, подходил к Головкинскому дому, была полночь. На Петровской крепости играли куранты.
На столе Федора ожидало письмо из Ярославля. Брат Иван сообщал ярославские новости. Особенно подробно описывал «народные представления», которые братья Канатчиковы «с робятами» отправляют в «волковском» театре.
Федор вздохнул, перечитал письмо еще раз и, совсем успокоенный, лег спать.
Часть третья
МОСКВА
Кукуй-городок
Въезд царицы в Москву ознаменовался не совсем приятным событием. Еще далеко за заставой императорский поезд был встречен толпами голодного и оборванного люда. Здесь были рабочие московских суконных фабрик, выполнявших поставки на казну; рабочие из ближних и дальних городов, прибывшие в Москву искать суда и справедливости против своих хозяев-фабрикантов; беглые крестьяне, выгнанные из своих деревень голодом и притеснениями и наводнившие Москву в поисках куска хлеба; московские колодники, скованные попарно цепями, иссеченные кнутами и почти совсем раздетые, которые, несмотря на свой ужасающий вид, издавна пользовались привилегией бродить по Москве невозбранно, выклянчивая себе пропитание, в котором им отказывала казна. Ночью они являлись на ночлег и поверку во узилище, помещавшееся в самом Кремле, а днем могли шататься где им вздумается, лишь бы не просили у тюремщиков есть.
Рабочие многих московских фабрик не работали уже несколько недель, дожидаясь приезда царицы, чтобы подать ей челобитные. В этих челобитных указывались и причины, вынудившие их бросить работу: «работай не работай, а все одно с голоду подыхать приходится». Просили защиты от хозяев, «кои смотрят на них, аки на неживых, в пище и питье не нуждающихся, а требуют работы аки с живых, здоровых и сытых людей».
Эти толпы оборванных людей бежали за поездом царицы, протягивая свои челобитные. Форейторы стегали «людишек» длинными бичами, конвойные отгоняли нагайками и топтали конями. Поезд не остановился, и челобитные приняты не были. Императрица проследовала в Головинский дворец, куда за нею бежала часть толпы. Остальные рассеялись вдоль дороги, швыряя в проезжающих комьями снега и конским пометом.
В этот же день генерал-губернатор Москвы получил от императрицы строгий выговор за допущение неприличного сборища. Чины гарнизона, заведующие порядком в столице, получили от генерал-губернатора выговор еще более строгий. Некоторые поплатились гауптвахтой. Охрана была усилена. Этим дело и кончилось.
В дальнейшем жизнь двора потекла по обычному руслу, как она текла и в невской столице.
Немало трудов и усилий потребовалось, чтобы наладить заново театральный аппарат. Он был сверх меры громоздок, раздроблен, противоречив по интересам составляющих его частей, а главное, лишен единого разумного руководства.
Гофмаршальская часть служила лишь вывеской; все существенное организовывалось как-то само собой, помимо нее.
В Москве имелся только один-единственный придворный театр, именовавшийся «Новым оперным домом». Помещался он в немецкой слободе в Кукуй-городке, у реки Яузы, по соседству с Головинским дворцом.
Театр был построен около десяти лет тому назад, ко дню коронации Елизаветы Петровны, архитектором Растрелли. Сейчас он достаточно обветшал и уже давно дни и ночи приводился в благоприличное состояние.
Это было грандиозное деревянное сооружение, установленное на каменном фундаменте и вмещавшее несколько тысяч зрителей.
Первоначальная постройка, гармоничная, несмотря на огромные размеры, в строго античном стиле, с гигантскими деревянными колоннами, была испорчена позднейшими пристройками, служившими складами для декораций и уборными для артистов.
Внутри театр имел три строго обособленных «аппартамента» или яруса. Первый состоял из ряда лож и обширного сидячего партера. Он предназначался для благородной публики, не особенно близкой ко двору. Во втором ярусе помещались две ложи императрицы – средняя и боковая, сообщавшиеся между собою и представлявшие как бы одно целое, а также великокняжеская ложа и ложи придворной знати. Здесь же находился ряд салонов. Третий ярус имел отдельные входы и выходы и сплошь состоял из балконов и галерей. Он предоставлялся в распоряжение почтенных лиц города и знатного купечества. Сюда же при наличии свободных мест допускалась и иная публика, при непременном условии «абы оная одета была не гнусно» и, разумеется, за деньги.
Театр имел три подъезда: императорский, великокняжеский и средний – для прочей публики, с боковыми лестницами на третий ярус.
Внутреннее убранство было просто и не отличалось излишней роскошью, если не считать больших художественных плафонов, выполненных первоклассными итальянскими мастерами, да дорогой штофной обивки в ложах высоких особ. Все барьеры и скамьи были обиты по-казенному: красным сукном с желтой тесьмой.
Обширная, высокая и поместительная сцена, снабженная изумительными по совершенству машинными приспособлениями, позволяла устраивать спектакли, отличавшиеся сложностью и грандиозностью, с множеством моментальных перемен и превращений.
Необходимость отстоять место русской труппы в общем репертуаре и не дать оттеснить себя на задний план вынуждала Сумарокова и Волкова присутствовать на множестве совещаний как с участием гофмаршала, так и без него, в виде предварительного сговора представителей отдельных трупп. Главенствующее положение, естественно, отводилось итальянской опере, но при этом необходимо было оправдать существование и других видов увеселений.
В условиях невообразимого сумбура, с величайшими усилиями, все же, наконец, театральная жизнь Москвы кое-как наладилась. Итальянская опера и балет чередовались с французскими и русскими спектаклями.
Часто представления носили причудливо смешанный характер. Какая-нибудь французская комедия или драма прихотливо перемежалась целыми вставными балетами с участием итальянских и русских танцовщиков.
Последние все успешнее конкурировали со своими итальянскими собратьями, усвоив не только их технику и виртуозность, но и внося в танцы свой стиль, порывистость и страстность, далекие от принятой классической итальянской манеры. Все чаще имена европейских знаменитостей – Фоссано, Коломбо, Маркони, Джорджино Тордиас, Фабиани – чередовались с именами Авдотьи Тимофеевой, Аграфены Ивановой, Натальи Сергеевой, Афанасия Топоркова и других.
Нелепое и обидное впечатление производило обыкновение отбрасывать в печатных программах фамилии русских танцовщиков, оставляя только одни их имена, иногда в уменьшительной форме: Авдотья, Афанасий, Афоня, Афонюшка, Семушка, Семка. То же самое практиковалось нередко и по отношению к русским певцам. Но в условиях того времени большинству зрителей это даже не бросалось в глаза.
Во время одного смешанного балетного спектакля, когда русские танцовщики изо всех сил старались заткнуть за пояс итальянцев, Олсуфьева вошла в комедиантскую ложу, где среди прочих находились и Сумароков с Волковым. В руках она держала программу, отпечатанную на атласе.
– Господа, важные новости. На Олимпе кавардак. Не то поветрие мезальянсов, не то что-то еще похуже. Боги в смятении.
– В чем дело, дорогая? – с удивлением спросил Сумароков.
– Я же говорю – в кавардаке. Вот, извольте посмотреть. Елена Павловна передала Сумарокову программу.
Там значилось:
Богиня Венус – Синьора Фабиани.
Бог Марс – Синьор Джорджино Тордиас.
Пигмалион — Афоня.
Галатея оживленная – Авдотья.
Бог Плутос – Синьор Фоссано.
Богиня Прозерпина, супруга ево – Акулина.
– Афони и Акули завоевывают Олимп и уже вступили в родство с бессмертными! А вы чуете, чем это пахнет? – серьезно проговорила Олсуфьева.
Сумароков рассмеялся:
– Так это ж дело обычное. А вы разве впервой такое видите? Наши Авдотьи и Акулины никакие не синьоры и даже фамилий не имеют.
– Наше дело дать им эти фамилии, Алексаша. Простите, я хотела сказать – господин Сумароков.
– Так будьте же вы их крестный матерью, Аленушка, – засмеялся Александр Петрович.
– Попробую.
Олсуфьева вышла из ложи. Комедианты видели, как она появилась в императорской ложе, где находилась и великая княгиня. Там впервые просматривали программу и хохотали. Повидимому, Елена Павловна, по обыкновению, острила и смешила всех.
На другой день вышло распоряжение печатать не только имена, но и фамилии русских танцовщиков, однако без буквы «Г» впереди, что могло повести к излишнему зазнайству. У кого не было фамилий, надлежало именовать по отчеству: Аграфена Ивановна и т. д.
– Реформа! Замечательнейшая реформа царствования, каких не бывало со времен приснопамятного Петра I, – смеялась Олсуфьева. – Горжусь! И моя капля – чего только, не знаю – есть в этой бочке дегтя. Надо проситься, чтобы меня назначили сенатором этого холщевого царства. Все-таки почетнее, чем нюхать целыми днями крепкие духи моей повелительницы…
– Вы – бедовая особа, – сказал, в шутку беря ее за ухо, Сумароков.
– И не особа и не бедовая, а просто незаметная козявка. А уши прошу мне не оттягивать. И без меня достаточно вокруг представителей известной породы.
Между тем, Семены, Кузьмы и Акулины, не без скандалов и отчаянных потасовок с синьорами и синьоритами, отвоевывали свое место на переменчивом театральном Олимпе, вызывая подчас бурю восторгов среди своих поклонников в зрительном зале. Немалая часть зрителей частенько отдавала предпочтение Авдотьям и Кузьмам перед громкими именами европейских знаменитостей. И не в силу одного лишь пристрастия к русским скромным именам.
В числе почитательниц русских талантов оказалась и экономная великая княгиня. Она уже давно прикинула, что русским талантам, по природе бессеребренникам, можно платить гроши, не в пример колоссальным аппетитам господ иностранцев.
Последние тоже понимали это. Но их право на участие в дележе государственного золотого руна было узаконено обычаем. Поэтому они с чисто южной горячностью оттирали от театра непрошенных конкурентов. Теперь, когда артисты всех трупп были вынуждены делить одну и ту же сцену, ежедневно сталкиваясь, обоюдная нервозность усилилась.
Размешенные на жительство в двух больших домах по соседству с театром и перемешанные весьма причудливо, артисты обеих трупп не имели положительно ни одного часа, который избавлял бы их хоть на время от ненавистного лицезрения друг друга. В актерских общежитиях, разноязычных и разнохарактерных, не было конца ссорам и сварам.
Не только гофмаршальская часть, но и личная канцелярия императрицы заваливались ворохами мелочных и придирчивых жалоб.
Скромнее других держалась юная русская труппа. Она ни на кого не жаловалась и не вызывала ни с чьей стороны жалоб.
Императрица всецело ставила это в заслугу Сумарокову, хотя он-то более всех других и способен был доводить любой пустяк до наивысшего кипения страстей.
В действительности сдерживающим началом являлся Федор Волков. Екатерина знала это и потому при всяком случае старалась выделять умного и тактичного ярославского комедианта.
Русская труппа занималась с утра до вечера, перекраивая весь свой репертуар, замещая женские роли актрисами, все же недостаточными в числе. Для занятий приспособили один из пустующих залов соседнего Лефортовского дворца. Там было не особенно уютно, но все же работа шла без помехи.
Большие успехи делали сестры Ананьины, в особенности Мария. Ценным приобретением оказалась Авдотья Михайлова. Не портила дела и пожилая Зорина, игравшая роли всяких нянь и наперсниц. Но ощущалась настоятельная потребность в сильной актрисе на трагические роли, а ее-то и не было возможности достать.
Между Волковым и Олсуфьевой произошла легкая размолвка.
Прошло с неделю или более. Елена Павловна за кулисами не показывалась. Фелон только однажды заметил ее мельком в ложе императрицы во время французского спектакля. Французы давали сумароковского «Синава», переведенного по желанию царицы на французский язык.
Сумарокову весьма польстила такая честь. Он сидел в директорской ложе, довольный и сияющий. Затащил туда и Волкова. Однако пьеса шла плохо, и это всем бросалось в глаза. По сцене ходили какие-то маркизы, наряженные в древнерусские костюмы. Актер, игравший волковскую роль – Синава, из кожи лез, чтобы быть похожим на Волкова.
Сумароков посмеивался:
– Подгадили французы. Своего Расина они много лучше играют. А Синав-то, Синав! Ты замечаешь, Федя, ведь он во всем тебе подражает. Точная копия!
– Неужели я так же плох бываю, Александр Петрович? – ужаснулся Волков.
– Что ты, дружок! Да он потому и плох, что тебе подражает. Играл бы по-своему – было бы куда лучше. Я доволен. Ты не можешь себе вообразить, Федя, как я горжусь вами всеми, талантами самородными. Пусть и «сама» сличит. Полагаю, и от ее глаз не укроется.
По окончании спектакля стали тащить Волкова к себе ужинать. Федор отговорился поздним временем и усталостью, хотя было еще почти светло. В нем опять нарастало такое знакомое будоражащее ощущение.
Федор в последнее время приятельски сошелся с двумя симпатичными ему лицами: с художником Перезинотти и с маёром Рамбуром, заведывавшим техническою частью всех трупп.
Рамбур как-то зазвал Федора к себе обедать.
За первым приглашением последовало приглашена приходить обедать ежедневно. Федор, стесняясь, отнекивался.
– Языки чесать будем вволю, – соблазнял его француз. – Неразумно как-то одному со стульями разглагольствовать.
– Собеседников вы себе всегда найдете, Степан Степанович. Только пожелайте.
– Да я с вами желаю, а не с кем-либо.
– Неловко это как бы получится, нахлебничать-то…
– Приловчимся.
Волков начал частенько наведываться к Рамбуру. Ежедневно видя старика за выполнением многочисленных и сложных обязанностей его по театру, Федор удивился его хладнокровию, распорядительности, вездесущности и совершенно исключительной памяти. Как-то не удержался и сказал ему:
– Степан Степанович, вам бы армиями командовать впору. Фельдмаршалом быть.
– А пошто? – удивился француз. – Мало без меня кровопускателей? Не люблю я членовредительства. Когда танцорка какая на неровном полу щиколотку себе свернет – и то я епитимью на себя наложить готов за повреждение балетной косточки. А там – сплошная мясорубка. Ну его, фельдмаршальство всякое! Я театральный провиантмейстер – и довольно с меня. Вы думаете, не пробовали меня в чины разные производить? Пробовали! Только, благодарение богу, я удачно отмалчивался. Ну, и оставили в покое, по трусости моей как бы. Маёра чин вот навязали-таки. Так ведь это маёр не всамделишный, а только театральный. Вот как у вас в трагедиях полководцы да герои разные бывают, которые ножа кухонного в руках никогда не держали. Вы думаете, сие плохо? Отменно хорошо. Кабы моя власть, я бы все войны театральными сделал. Махай, робя, картонными мечами! Ура! И шумно, и вреда никому никакого.
– Без войн, Степан Степанович, нельзя.
– Без театральных, то есть?
– Нет, без настоящих.
– Ну без энтих можно. Не тронь никого – и к тебе никто не полезет. Без театральных баталий – без тех нельзя. Скучно. Публика шум обожает.
Старик любил поболтать, особенно на театрально-военные темы, но только с человеком толковым и понимающим. Федора Волкова он сразу отличил и прямо-таки влюбился в него.
Иногда за столом у Рамбура присутствовал еще кто-нибудь. Чаще других – Перезинотти и Валериани. Француз был старым холостяком и жил одиноко.
Валериани обладал желчным и раздражительным характером. Рамбур его не особенно жаловал, в глаза и за глаза называл занозой.
– Около сего синьора занозиться можно, осторожнее! – предупреждал он Волкова и Перезинотти.
О последнем говаривал:
– Кабы все люди были как Перезинотти, на свете не было бы никаких передряг.
Перезинотти был восторженным мечтателем, человеком влюбленным в свое искусство и ничего кроме него не признающим. Он положительно бредил красками. Мыслил какими-то цветными пятнами. Человеческие характеры в его представлении окрашивались в определенные тона. В его речи часто попадались такие выражения, как «голубая душа», «лиловая грусть», «лазоревая дама», «фиолетовый человек», «серенькое дарование».
Сознался однажды, что с именем Рамбура у него связано этакое яркожелтое пятно.
– Масляное? – спросил француз.
– Нет, синьор, много, много ярче, – сказал итальянец, полузакрыв глаза. – Вот синьор Валериани – весь оранжевый, а Федор Григорьевич – пурпурный.
– Чем же кажетесь вы сами себе, синьор?
– Я сам? Чем-то неопределенным… Со многими оттенками… где перемешаны многие цвета…
– Как на краскотере? – усмехнулся Рамбур.
– Не совсем так, – мечтательно ответил итальянец, не уловив иронии в словах француза. – Правильнее бы сравнить с неяркой палитрой…
– С палитрой, на которую сели? – подсказал француз.
– Пожалуй, – подумав, согласился Перезинотти. – Вы правы, синьор, с палитрой, на которую осторожно сели. Края пятен становятся тогда слегка расплывчатыми.
– Может быть, скорее похоже на отпечаток места, которым сели? – добродушно пошутил Рамбур.
– Отпечаток дает более тусклые тона. А это – гораздо ярче, – закрыв глаза, сказал художник, вызывая в памяти сочетание цветов, которое он собою представлял.
Рамбур вздохнул и сказал сердечно, как бы извиняясь за свои насмешки:
– Чудесный вы человек, синьор художник! Редкий человек! Как бы вы сами себе ни представлялись, в моих глазах вы состоите из одних нежных и ласкающих красок.
– О нет, Степан Степанович! – воскликнул Перезинотти. – Много замечал блеклых, даже грязноватых тонов.
– Не верьте, это обман зрения, – твердо проговорил Рамбур.
Волков с улыбкой посмотрел на детски-восторженного итальянца.








