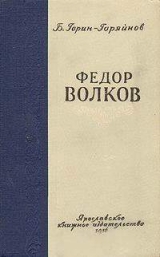
Текст книги "Федор Волков"
Автор книги: Борис Горин-Горяйнов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)
Часть четвертая
«ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ МИНЕРВА»
Снова Ярославль
Комедианты ехали по мирному большому тракту, но казалось, будто они едут по недавно разоренной неприятелем области. По сторонам дороги вправо и влево виднелись какие-то обгорелые развалины, запорошенные снегом. Местами – селения целиком сметены с лица земли. Там, где были не тронуты, людей все же почти не было видно. Край казался вымершим. Раза два-три навстречу попадались небольшие воинские части. В одном месте, в виду почтовой станции, пришлось загнать кибитку в снег и остановиться. По дороге возвращался в Москву целый кирасирский полк с пушками.
На станции сменных лошадей не оказалось, и пришлось ждать. Просидели там двое суток. Едва не умерли с голода: ничего нельзя было достать.
Смотритель станции, какой-то отставной военный, ни на какие вопросы не отвечал. На все настойчивые требования дать лошадей отвечал одно и то же:
– Нету лошадей. Ждите.
– Ну, а насчет еды?
– О еде – с бабой.
Этим и кончалась беседа.
Беременная баба, с испуганными выкатившимися глазами, только вздыхала.
– Тетенька, как же поесть-то? – приставали к ней комедианты.
– Охо-хо… кормильцы… Хлебушко есть… Шти опять же… Окромя ничего… Охо-хо…
– Да что у вас, война, что ли?
– Охо-хо… Ничего не знаю, кормильцы… Токмо крестьяне разбежамши… Нигде как есть ничевошеньки…
– Давай хоть щей.
Щи оказались из темных капустных листьев. Хлеб с примесью чего-то зеленого, – как каменный, не укусить.
Повздыхали комедианты. Поели кое-чего своего, оставшегося от Москвы.
Возле сарая ребята разговорились с молодым ямщиком.
– Как тебя звать-то, друг? – спросил Алеша Волков.
– А чай, Клим.
– Так ты вот что, Климушка: объясни толком, что у вас тут творится? Война, что ли?
– А и есть война, – засмеялся Клим.
– С кем воюете-то?
– А промеж себя, с барами.
– Так, понятно… А кто же деревни-то пожег? Они или вы?
– А те и энти, и третьи – солдаты. Кто прытче, тот и крой.
– По какому же это случаю-то?
– А так. Баре на мужиков насядут – в кнуты их. Мужик кнута не любит – сичас усадьбы палить. Баре за воинской силой шлют. А воинска сила не разбират: пали всех подряд. Усмирение прозывается. Ну, и разбежамши все по лесам.
– И давно этакое у вас творится? – спросил Федор Волков.
– А, почитай, с Покрова. Да тут вся округа полыхает. Мы-то мало дело запоздамши. Нас к Рождеству только палить начали.
– Ты ближний, Климушка? – полюбопытствовал Семен.
– Не, я дальний. Вологодской. Только здесь в ямщиках околачиваюсь. У нас-то совсем житья нет, хошь в могилу ложись.
– Неужели где может быть еще трудней здешнего? – спросил Федор.
– А то нет? Здесь что, благодать!
– Из Москвы всего этого не видно, – покрутил головой Алеша.
– Не видно? – отозвался Клим. – А с Ивана Великого?
– И с Ивана Великого не видно, – засмеялся Алеша.
– Вона! – удивился Клим. – А сказывают, будто с Ивана Великого всю Расею видать.
– Видать, да не с той стороны, дружище, – усмехнулся Семен.
– А! Значит, к нам не достает? То-то солдаты часто запаздывают. Придут, а уж ни бар, ни крестьян. Все разбежамши.
С Климом еще не раз беседовали. Постепенно поняли многое. Весь край был охвачен крестьянскими волнениями.
Волновались крестьяне монастырские и архиерейские. Мало того, что их изнуряли кабальной работой, а еще требовали внесения ежегодного оброка в монастырскую казну. Оброк достать было неоткуда. Оброчники разбегались. Их ловили воинские команды, которые жгли покинутые селения. Крестьяне в отместку «рушили» монастыри.
Старообрядческие общины были в более худшем положении. Этих, помимо двойного оброка, душили взятками, кому только было не лень, за одно лишь право молиться по-своему. Доведенные до крайности, раскольники не находили иного выхода, как собираться в «богомерзкие скопища» и подвергать себя добровольному всесожжению. Тех из них, которые еще не успели сжечься, подозревали в омом зловредном намерении и наказывали особо, загодя, – дабы впредь неповадно было.
Не сладко жилось крестьянам, приписанным к фабрикантам и заводчикам. Этих изнуряли непосильной работой, не кормя. Даже участь монастырских крестьян казалась им более завидной, чем фабричная каторга. Как правило, к непосильной работе присоединялись еще непосильные истязания, на которые некуда было жаловаться. Челобитные даже такого рода, что-де «управители и приказчики притесняют их, бьют, а некоторых и до смерти убили», – оставлялись правительственными инстанциями без внимания, пока не разражался «бунт». Тогда посылали воинские команды «для усмирения и вразумления».
Волнения господских крестьян были еще более частым явлением, в некоторых местах даже обычным, повторяющимся из года в год.
Обо всем этом наши комедианты, конечно, знали понаслышке, но самолично не видели. Сейчас, медленно подвигаясь вперед по разоренной местности, многое увидали.
– Вот когда мы подлинно окунулись «в златой век российской Астреи», – зло иронизировали «придворные актеры».
– Слушай, Федор Григорьевич, – приставал к Волкову Демьян Голик, – ты когда увидишь «господина российского Расина», поделись с ним виденным. Авось, он в новую трагедию кое-что вставит. Как это, Алеша: «Кому прощать царя?»… – Ну-ка, чеши дальше…
Алеша продекламировал монолог из сумароковского «Гамлета»:
«Кому прощать царя? Народ в его руках.
Он бог, не человек в подверженных странах.
Когда кому даны порфира и корона.
Тому вся правда – власть, и нет ему закона…»
По мере приближения к Ярославлю пожарищ становилось все меньше. Наконец они и совсем исчезли. Жизнь шла как бы по-обычному, своим чередом. На дорогах и в придорожных деревнях стало многолюднее.
Правда, почти все хлевы, сараи, а частью и избы стояли раскрытыми – солому извели на корм скоту – но это была обычная российская картина.
Со странным чувством подъезжал Федор Волков к родному городу. Ярославль был тем затаенно-милым, к чему помимо воли стремились его мысли в эти два года. Откуда же это невыносимое тревожное беспокойство? Почему он не может отдаться той бесхитростной радости, которою радовались его спутники? Как будто возвращается он не тем, каким уехал.
Действительность убила все – и восторженные юношеские порывы, и ликующие надежды на светлое будущее, и жажду подвига, служения чему-то неясному, призрачному, несбыточному, что было создано его воображением. Того Федора Волкова, который горел радостью творчества на благо всем, более не существует. Эти «все» оказались тоже плодом его фантазии. Ведь «все» – это значит и те, мимо чьих разрушенных пожарами убогих лачуг они только что проезжали. Нужно ли им какое-то творчество? Нет. Им прежде всего нужно безопасное жилище, человеческий облик, хлеб, одежонка. Сначала нужно почувствовать себя человеком сытым и укрытым, а потом уже явится забота о большем – о грамоте, театре, творчестве…
Творчество… Искусство… Театр… Какие обманчивые, бессодержательные слова! Все они оказались далекими от того смысла, который еще не так давно вкладывал в них Федор Волков.
Для правящих верхов всякое искусство является лишь средством удовлетворения их тщеславия, служит к прославлению их деяний и укреплению власти, захваченной злыми и грязными путями. Причем же здесь «все»? В таком виде искусство не только не нужно этим «всем», оно им вредно.
«Театр – школа народная». Тот театр, который видел он, Федор Волков? Какая бессмыслица! Это – школа утонченной лести, школа каждения фимиама до одури земным владычицам и их альковным утешителям, школа воздаяния божеских почестей тем, кто в лучшем случае заслуживает лишь кнута палача. Все это – та же надоевшая с детских лет поповщина, только вытащенная из церковных потемок, разодетая в бархатные кафтаны, прикрашенная французской утонченностью и допущенная ко двору в качестве галантного прихлебателя.
Такой театр – угодливый куртизан, порой – фаворит с его продажными славословиями. Его назначение – золотить гниль, узаконивать преступления, возвеличивать жалкое и убогое ничтожество.
Нет, ни ему, Федору Волкову, ни тем, с кем он вырос и общался с детства, с таким «искусством» не по пути.
А возможно другое искусство, то, в которое он верил с детства, тень которого принял за живой и полнокровный образ? Конечно! Если возможна сама жизнь, то возможно и ее полное выражение в искусстве. Но когда наступит эта возможность? Не скоро. Во всяком случае, он, Федор Волков, этого не увидит. Это станет возможно лишь тогда, когда наступит рассвет и рассеется густая тьма, обволакивающая матушку Русь.
Федор, напрягая всю свою волю, отгонял от себя эти безрадостные мысли, но они, с назойливостью мошкары, осаждали его, требуя приоткрыть хоть маленький просвет в будущее. И он вновь и вновь принимался думать все об одном и том же.
– Ярославль виден! – радостно закричал Семен Куклин, наполовину высовываясь из повозки. – Ух! Родным духом запахло. Здравствуй, отчина! Здравствуй, Волга!
Ребята повскакали со своих мест, наперебой загалдели:
– И то! Сейчас весь объявится, как на ладони!
– Вон и пригорки знакомые! Наши. Нигде таких нет. Зараз узнать можно.
– А вот сарай, робя! Чей это сарай на отлете? – крикнул Алеша Волков.
– Сарай-то? Аль не узнал? – толкнул его шутливо под бока Демьян. – Чай, шинкаря Мохрова из слободки, папаши девок всех гулящих…
– А! – отозвались все в один голос.
– Импресар здешний…
– Во-во! Самый главный обер-гофмаршал!
– У него, чай, за это время свои реформы произошли…
– А то нет? Не без того. Фижбики[86]86
Фижмы.
[Закрыть], поди, новые девкам соорудил!
– Али старые упразднил, на античную стать!
– Нет на свете края лучше нашего Ярославля, – убежденно заявил Демьян. – И театра лучше нашего нет.
– Само собой, без лести. Богатее – есть, а лучше – нет, – поддакнули оба бывшие придворные актера.
– Как-то только Канатчиковы в нем изворачиваются?
– Иван писал – действуют вовсю, – сказал Алеша.
– Ну, вот и подмога им поспела. Вроде как итальянские кастраты, – рассмеялся Семен.
– А ништо! Дишкантом петь – пожалуй, не наше дело. А сыграть что не похабным образом – охулки на руку не положим, – хорохорился Демьян.
– А придворную жизнь разве начисто похерил, Демьяша? – подмигнул Алексей. – Жаль! Гофмаршала бы заслужил.
– К лешему под хвост все эти дворы! У меня свой двор, да еще с избой, в нем я и гофмаршал. Эхе-хе… Как-то там матка бедная оборачивается?.. Наверно, весь двор как есть крапивой зарос, не хуже питерского. И присесть негде будет. Двор расчищу – реформа, значит. Кожи опять дубить примусь. Вон они, руки-то, как у мамзели стали. У Канатчиковых героев играть почну. На доброй девоньке женюсь. Енженю из нее сделаю. Мы оба играем, а ребята в зале до одури хлопают. И никаких величеств. Будя! – резонерствовал Демьян.
– А я к тебе в фавориты подсыкнусь, – подмигнул Семен.
Демьян показал ему увесистый кулак:
– Вот он, фаворит. Видал? Как в «случае» по чьей шее придется, так и становой хребет напополам.
Федор в простых и грубых словах товарищей почувствовал вывод из всего передуманного им за время дороги.
Кибитка въехала в город.
Дома ожидали Волковых с нетерпением. Встретили как воскресших из мертвых. Иван был сильно расстроен ходом заводских дел. Между объятиями и поцелуями все время вздыхал и крутил головой. Хозяйка Татьяна Федоровна располнела, и раздобрела. В ней не без труда можно было узнать прежнюю девочку Танюшу Попову. Едва покончив с церемонией встречи, Иван повел братьев в отдельный покойчик. Начал без предисловий:
– Дела из рук вон плохи, братишки. Делиться надо.
– Нечего делиться, – сказал Федор. – Мы уже все обмозговали с Алешей. Он вовсе вернулся. Покончил со своим баловством. Сокращайте дело и орудуйте с ним вдвоем, насколько в силах. О нас троих не заботьтесь. Мы как бы выделены, ломти отрезанные. И из купечества нас исключай. Помаленьку и исподволь начинайте сызнова. Туго очень будет – поможем сообща. Нам с Григорием жалование назначено, полтораста рублей. И на Гаврилу надежда есть. Все лишнее – побоку.
На том и порешили с двух слов.
Перешли на театр. Оказалось, что ярославский «волковский» театр действует все время и без больших перерывов. Орудуют больше первоначальные «пайщики» сего предприятия. Заправляют всем Канатчиковы. Сильные трагедии ставить набегают. Дают чаще общепонятное. Сегодня большой день. Идет комедия с национальными русскими песнями и плясками: «Не родись ни хорош, ни пригож, а родись счастлив», сочинение какого-то Луки Яблонского. Не в дальнем времени давали героическое представление господина Баркова: «Геройства княжны Ольги Пожарской». Геройства, по правде сказать, было немного, больше тех же песен и плясок. Ничего, смотрителям это нравится. Пьесы обычно Ванюшка Нарыков из Питера присылает, на свой вкус. И откуда он их только выкапывает! Не забывают комедий и самого Федора Волкова: «Всяк Еремей» и «Суд Шемякин». Обидчивого воеводы Бобрищева-Пушкина давно уже нет, а новый воевода с удовольствием всем объясняет, что оные комедии сочинены в издевку над его пузатым предшественником.
Помещик Иван Степанович Майков с семейством давно уже проживает в своем дальнем имении. Даже зимой не заявляется в город. Поговаривают – больше из боязни стать посмешищем для всего честного народа, ибо его сварливая сожительница – француженка взяла привычку колотить его открыто и чем попало – чаще всего турецкой туфлей – по щекам.
Старенький архиерей развязался, наконец, со своими «козликами» и с год тому назад тихо «почил в бозе». Архимандрит о. Иринарх отозван митрополитом Арсением в его резиденцию – Ростов Великий. Слыхать, они ноне шибко ратуют за восстановление исконно-российских порядков, допрежь «антихриста и его ангелов» бывших. Так что среди частырей и их паствы идут смута и склока великие.
Вечером Федор присутствовал на представлении незатейливой комедии. Встречен он был ярославскими комедиантами с почетом и радостью, как родоначальник всего поколения комедиантского.
Семен Куклин и Демьян Голик не теряли даром времени. Одетые нижегородцами, они разыгрывали вдвоем комическую сцену в народном духе и «отдирали русского».
В словесном предуведомлении публике они были названы «придворными ее величества российскими комедиантами».
Около месяца времени пролетело для Федора как один день. Ежедневные разговоры с ребятами о театре, улаживание торговых дел, – все это не только не отягощало Федора, а, напротив, подбадривало и вливало в него новую энергию, об упадке которой в последнее время он так часто говорил.
Как-то сама собою начала намечаться линия его дальнейшего поведения в Петербурге.
Провожали придворного комедианта по весенней распутице чуть ли не всем городом.
В Питер Федор прибыл 21 марта и немедленно явился к корпусному начальству. Его поместили вместе с братом Григорием, который уже с месяц как начал ученье.
Пока комедианты учатся…
Для Федора началась жизнь тихая и незаметная, заполненная усидчивым трудом до последней минуты. Такая жизнь оказалась как раз по нем. Ни бестолковой сутолоки, ни раздражающих волнений. Работа, сосредоточенность, размышления. Время, проведенное в корпусе, он всегда вспоминал с теплым чувством признательности.
Неутолимая жажда знания, владевшая Федором с детства, здесь впервые получила некоторое удовлетворение.
Кроме предметов, предусмотренных программой корпуса, он занимался еще многим, не входившим в эту программу.
Приобрел клавикорды и скрипку на собственный счет. Усердно брал уроки музыки и композиции.
Возобновил занятия живописью. Сначала работал урывками, под руководством своего друга Перезинотти, потом, по совету Олсуфьевой, начал довольно аккуратно посещать мастерскую живописца Аргунова. Здесь Федор столкнулся с безродным юношей из придворных певчих Антоном Лосенко и положительно был поражен его совсем не ученическим талантом. Уменье владеть кистью, верность глаза и, главное, чувство правды и натуры у Лосенко, казалось, были прирожденными, – так легко он справлялся с труднейшими художественными этюдами. Новые знакомые очень быстро стали близкими друзьями.
Кроме живописи, Федор возобновил занятия лепкой и резьбой по дереву. Однако этим любимым и умиротворяющим упражнениям можно было уделять лишь редкие свободные часы.
Много времени отнимали языки. В корпусе основательно проходились немецкий, французский и итальянский.
Немецкий, чтобы не забегать вперед других, Волковым пришлось начать чуть ли не с азов, как полагалось по программе корпуса. На французский – самый необходимый – Федор налег с удвоенной энергией. Начал одновременно заниматься у двух преподавателей корпуса – Бунина и Фере. Аккуратно и с удовольствием занимался итальянским, так как этот язык ему особенно нравился. Практические уроки того и другого брал у Елены Павловны Олсуфьевой и частью у Перезинотти.
Елена Павловна вернулась из Москвы в мае, вместе с двором. Время, посвященное отдыху, Федор проводил вместе с нею, либо у них дома, либо в прогулках по островам.
Много времени уходило на репетиции французских пьес, которые служили в корпусе для упражнений и тренировки в французском языке. Начальство, обходя сторонкой некоторые другие предметы преподавания, особенно напирало на французский язык, ввиду строгого предписания свыше, чтобы кадеты, выпускаемые из корпуса, владели им как прирожденные французы.
Дежурной пьесой для подобных упражнений издавна служила «Заира» Вольтера. Эти упражнения были настолько часты, что Федор и Григорий Волковы, едва начавшие мараковать по-французски, вскоре уже знали целые сцены трагедии наизусть.
Ваня Дмитревский и Алеша Попов, поступившие в корпус на полтора года раньше, «отдергивали» «Заиру» на рысях и без передышки, как читают в церкви «часы».
Сумароков, оставшийся один без такого дельного помощника, каким был для него Волков, положительно изнемогал под бременем театральных тягот и неурядиц.
Лето прошло. Открытие постоянного русского театра откладывалось на неопределенный, судя по всему, очень далекий срок. Обещание отпустить средства на постройку особого театрального здания так и осталось обещанием.
Царица часто прихварывала, ей подчас бывало совсем не до театра.
Великая княгиня хлопотала об отпуске средств, но пока безуспешно. К тому же она была на последнем месяце беременности и во многое не могла уже вмешиваться лично.
Пока заботы Александра Петровича были направлены, главным образом, на подготовку «ученых» комедиантов да еще на приведение в годный вид пробного театра в Головкинском доме.
Учебную и тренировочную части в актерском общежитии Сумарокову удалось поставить не хуже, если не лучше занятий в корпусе. Озабочивала недостаточность наличного женского состава. Новых актрис не прибывало, наоборот, произошла даже некоторая «утечка».
В бытность двора в Москве, усилиями Шувалова было решено открыть там университет с театром при нем. Дело, несомненно, не ближнее, но Шувалов приступил к нему с жаром. По части налаживания театра его выбор остановился на опытной актрисе Авдотье Михайловой. Он потребовал, чтобы ее оставили в Москве.
Сумароков даже рассорился с влиятельным министром, но вынужден был уступить ему Михайлову.
– Ихний московский университет, а паче того театр, это издали едущая Улита, – сердился Сумароков. – А мы добрую актрису потеряли.
Сейчас у Сумарокова остались только четыре актрисы: Зорина, две Ананьиных и юная Грипочка Мусина-Пушкина.
Зато мужской состав обещал быть многочисленным и крепким. В Головкинском доме обучалось шесть человек комедиантов, в корпусе – четверо. Кроме того, в корпусе еще восемь человек певчих готовились в актеры.
Много энергии и изворотливости требовало изыскание средств на содержание и обмундирование питомцев Головинского дома, не причисленных ни к какому ведомству. С их нуждишками Сумароков обращался всюду, часто совсем не по адресу, и все же ухитрялся урвать кое-что то там, то здесь.
При удаче потирал руки и восхищался:
– Интенданты – хороший народ. Отвалили тысячу. А что мы интендантам? Кобыле лишний хвост. Не горюй, ребята! К зиме у всех будут теплые епанчи. А к весне, бог даст, платные представления наладим. Денежки – в свой карман!.. Троепольскую похитим… Заживем – люли-малина!..
При малейшей неудаче или задержке обещанного выходил из себя, ругал всех и вся неприличными словами. Часто повторял полюбившееся ему выражение:
– Опять жданками кормить начинают! Сему конца не будет.
Против выступлений с неготовыми актерами восставал всеми силами. Спектакли при дворе совсем прекратились. Все же к торжеству разрешения от бремени великой княгини готовили исподволь помпезный «Пролог» в 3-х действиях с хорами и балетом, заблаговременно сочиненный Сумароковым для такого важного случая.
Александр Петрович почему-то был убежден, что родится непременно девочка, и потому весь «Пролог» был обращен к особе женского пола. Подмигивая, он говорил своим близким друзьям и единомышленникам:
– Эти гусыни на большее не способны. Когда оное дело творится неразборчиво и походя, непременно жди девчонку. «Сама» обронила девчонку и в сем случае також будет. Вот увидите.
Родился мальчик. Его нарекли Павлом.
Сумароков назвал это жульничеством. Спешно принялся приспособлять «Пролог» к «несказанно радостному дару неба» в мужском роде. Работа предстояла немалая, так как «Пролог» был написан стихами. Драматург ворчал:
– Тут работы больше, чем над самим наследником! Подвела немка!
С появлением на свет наследникова наследника отовсюду поползли злостные шопотки. С уха на ухо передавались слухи, будто великая княгиня действительно родила девчонку, не считаясь с интересами престолонаследия. Выручила-де чухонка коровница с царицыной мызы, в ту же ночь разрешившаяся мальчиком. Будто произвели очень ловкий подмен, и неаккуратность супруги наследника была исправлена.
– Я говорил – жульничество! Меня не проведешь! – щурился Сумароков на нашептывания приятелей. – Пиитическая муза надежнее всех повивальных бабок… Не без основания же я на оную полагался…
Девочка в «Прологе» была тщательно подменена мальчиком.
– Не хуже ихнего сделано, – посмеивался Александр Петрович. – Поди, уличи!
Наконец «Пролог» на случай радостного появления на свет мужского отпрыска царственного рода был торжественно представлен при дворе.
Все участники представления получили благодарность из уст царицы, от лица роженицы и от имени самого новорожденного. Не поблагодарил лично только счастливый отец, – по свойству нелюдимости своего характера. Сумарокову приказано было выдать пять тысяч рублей «на устроение его театра».
Строптивый драматург, по обыкновению своему, возмутился:
– Да нет то ж театр – мой? Ведь они оные пять тысяч рублей из камзола в портки переложили! Очередное свинство!
В сердцах порвал злосчастный «Пролог» и бросил его в печку. Впоследствии весьма сокрушался об утрате оного:
– Злодеи выкрали. Ненавистники дара пиитического. Подозреваю, не иначе, как по наущению Васьки Тредьяковского. Он тоже оду кропает.
Все же «чухонские» деньги помогли Сумарокову привести Головкинский дом совсем в приличное состояние.
С рождением Павла атмосфера при дворе сгустилась еще более. Пропасть между великокняжеской четой все увеличивалась. Наследник престола не скрывал, что он не признает новорожденного Павла своим сыном.
Совсем юная, но воспитанная в хорошей школе, Елизавета Воронцова беззастенчиво и откровенно заняла место великой княгини при особе наследника престола.
Положение Екатерины час от часу становилось все щекотливее.
Как-то после довольно длительного промежутка времени Федор Волков вырвался из корпуса, чтобы навестить Олсуфьевых.
– Вы решили совсем не подавать признаков жизни? – встретила его Елена Павловна.
– Вам ведомо, что я сейчас всего лишь прилежный ученик и совсем не принадлежу себе.
– Дает ли это мне право также не принадлежать себе? Ведь и я могу очутиться у кого-нибудь «в обучении»…
– Этому я не могу воспрепятствовать.
– Не можете или не хотите?
– И то и другое.
– Спасибо за откровенность. Она проливает некоторый свет на наши неясные отношения. Как сегодня с вашей особой – принадлежит ли она себе или кому другому?
– Сегодня она ничейная.
– Тогда я ее присваиваю. Едем сейчас за город. Мне хочется вздохнуть свободно. Как однажды в Москве… Припоминаете?
Они проехали далеко по коломяжской дороге. Вышли из кареты и медленно, под руку, пошли к видневшейся в сторонке пожелтевшей и полуоблетевшей роще.
– Ну поцелуй меня за все неприятности, – сказала Елена Павловна после того, как они в полнейшем молчании прошли с полверсты. – Сядем вот здесь и поболтаем.
Елена Павловна указала на группу больших обомшелых валунов, обильно покрытых облетевшими с деревьев желтыми листьями. Они сели рядышком на большом камне, на который Федор бросил свой плащ.
Был погожий, безветренный и теплый осенний день.
– Мудрое время – осень, – сказала Елена Павловна. – Я люблю ее больше весны. Она, как и старость, вливает в человека прозорливость и успокоение. Посмотри, мой старичок, как прекрасно это сочетание лазури с золотом. И какая четкость всех линий! Каждую березку отдельно потрогать хочется. Кажется, до самого горизонта рукой дотянуться можно.
Она задумалась, с грустной улыбкой смотря на расстилавшуюся перед ней картину, немного напоминавшую искусно сделанную панораму.
Елена Павловна была в эту минуту так прелестна, так проникнута какою-то проступающею наружу внутренней теплотой, что Федор не мог удержаться от охватившей его нежности и поцеловал ее прямо в губы.
Елена Павловна благодарно улыбнулась.
– Добрый знак. Это все чары волшебницы-осени.
Она в свою очередь потянулась к нему. Поцеловала. Прижалась мягко и сиротливо. Они сидели некоторое время молча, углубившись каждый в свои думы.
«Почему она не всегда такая?» – спрашивал себя Федор, любуясь ее умиротворенно-кротким лицом с полузакрытыми и вздрагивающими ресницами.
– Ты знаешь, муженек, я тебе едва не изменила за это время, – не меняя положения, сказала Елена Павловна.
– Каким образом? – не совсем удачно вырвалось у Федора.
– Глупенький! Ты не знаешь, каким образом это делается? Самым простым и натуральным. Спроси у тысячи женщин, и ни одна тебе не ответит большего на подобный вопрос.
– Этого следовало ожидать, – усмехнулся Федор.
– Вот видишь, ты согласен? Значит, напрасно я обманула твои ожидания. Ну, да еще не все потеряно…
– Леночка, милая, ведь это же все одна пустая болтовня с твоей стороны! – рассмеялся Федор.
– Плохой ты знаток женских душ, мой друг. Женщина может сообщить о серьезном, только болтая… Это не трудно доказать.
– Ты можешь болтать что угодно, и все же не перестанешь быть в моих глазах образцом самых высоких нравственных качеств.
Елена Павловна поморщилась.
– Ох!.. Так и припахивает одами Сумарокова к «непогрешимой Елисавет». А между тем ее грехам он ведет неустанно счет и уже исписал ими несколько толстенных тетрадей. Может быть, и ты втихомолку поступаешь так же относительно меня? Тогда вот тебе недурной материал для уединенной работы. С некоторого времени твоя «непогрешимая» и так далее… имела счастье обратить на себя внимание одного, – ну, как бы это выразиться точнее? – одного придворного обслуживателя молодых дам. Это, пожалуй, будет достаточно. Однажды он имел наглость облапить меня довольно крепко в одном укромном уголке близ спальни великой княгини. Мне удалось вырваться только ценою моего лифа, половина которого осталась в руках негодяя.
– Это был Понятовский? – спросил Федор.
– И ты знаешь, куда я отправилась? – продолжала она, не отвечая на вопрос. – Прямехонько в спальню великой княгини, где она лежала, слабая от родов, и все откровенно рассказала… Вот и все. А ты меня не ценишь!
Елена Павловна потрепала Федора рукой по щеке и поцеловала.
– А что стало с Понятовским? – спросил Федор после молчания.
– Понятовский уже на пути в Варшаву.
– Забавно.
Они довольно долго сидели молча, плотно прижавшись друг к другу. Каждый думал о чем-то своем. Неожиданно Олсуфьева сказала:
– Знаешь, дружок, до чего я додумалась? Истинная любовь замкнута в круг, когда их двое. При вмешательстве третьего круг размыкается…
Федор поморщился и нахмурился. Ему очень не понравилось изречение Елены Павловны, в котором чувствовался намек на его отношения к Троепольской.
– Ты как лебединый пруд, – засмеялась Елена Павловна: – морщишься от малейшего дуновения ветерка. Хочешь, я отгадаю, о чем ты сейчас думаешь?
– Отгадай.
– О том, что я… О том, что ты недостаточно внимателен ко мне. Тебя мучает совесть.
– Ты не то хотела сказать, – покачал головой Федор.
– Пожалуйста, не выдумывай. Я отгадала – и кончено. Ну, не надо морщить брови. Ты тогда становишься похож на Сумарокова.
Она начала разглаживать пальцами его лицо, приговаривая:
– Морщинка неудовольствия. Убрать! Ты должен быть доволен мною, не то что я тобою. Отчего ты такой плохой актер в жизни? А я – болтушка, тебе сие давно известно. Сболтну когда что ненароком. – а ты прости и виду не подай, что тебе это неприятно. Мало ли что мне бывает неприятно, – ведь прощаю же я. И не пропадай по месяцам! Это небезопасно. В одной итальянской интермедии говорится: «Арлекин, не оставляй Коломбины. – Ты не один, Арлекин».
– Пора домой, – сказал Федор. – Ты совсем посинела от холода.
– И правда, мне холодно. Только я по ошибке относила это не к погоде…
Федор вернулся к себе грустно-задумчивым. Изречение Олсуфьевой не выходило у него из головы.








