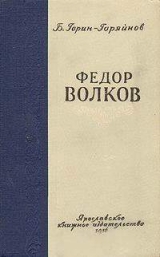
Текст книги "Федор Волков"
Автор книги: Борис Горин-Горяйнов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
– По маломощности и слабости академии, еще не окрепшей, – добавил он в свое оправдание.
И архиерей и воевода были несколько удивлены таким сообщением.
– Понеже ко отправлению действ комедийных особые таланты потребны, коими от бога не все семинаристы наделены, ко прискорбию, – вздыхал о. Иринарх.
– Вот на! – вырвалось у архиерея. – Како же обретошася таланты отныне у людей с воли, лишенных света просвещения?
– Произволением божиим, владыко, полагаю, – разъяснял архимандрит. – Ко всему оному, робята сии имеют нарочитую приверженность к лицедейству. Паки и опыт некакий, сноровку, приобретенную от допрежь бывых комедийных отправлений в сарае волковском… Також и в покоях купца Григория Серова, сродственника их.
– Того… удивления достойно, – сопел воевода. – Как? Дети купецкие и того? Кто еще там? Народ простой? Малограмотный и того… темный?… Заслуживает отмеченным быти…
– Не во всем точно, глубокочтимейший Михайло Андреич, – заговорил спешно о. Иринарх. – Братья Волковы не лишены света просвещения. Они, кажись, все посещали нашу академию своекоштными. Старший, Федор, окромя того, проходил славную Московскую Заиконоспасскую академию, довершал науку в Санкт-Петербурге, отменно маракует по-латыни и немецкому, обладает нарочитыми знаниями и талантами. Двое или трое из его работников понаторели вокруг братьев. Також в дело с пользою употребляемы быть могут. Иконников, бывый семинарист, за отсутствием духовной дьяческой ваканции, ноне иконописным делом займается, сидельцем состоит в иконной лавке дяди своего, вам известного. Також и по першпективному письму добре маракует. Сие сооружение в живописной части – дело рук его. Шумской, что Вельзевула отправлял, книгочей и искусник по волосяной части, ибо по рукомеслу есть брадобрей.
– Да сколько ж оных ненашенских персон у тебя, архимандрит? – спросил преосвященный.
– Да персон до семи будет, владыко. Половина с с залищком из оных могут почитаться нашинскими, по сопричастности их к академии нашей.
– Тогда допустимо… невозбранно, архимандрит, – согласился архиерей.
Федор Волков, дожидавшийся за своим прикрытием, когда уйдут собеседники, хотел незаметно проскользнуть сторонкой. О. Иринарх перехватил его и под руку подвел к начальствующим особам.
– Вот оный Федор Григорьевич Волков. Рука моя правая в день нонешний. Своими талантами мусикийными и иными отменно содействовал благолепию комедии отправленной.
Начальство благосклонно познакомилось с молодым купцом. Его подробно расспрашивали о Петербурге, о тамошних комедийных делах, о его намерениях в будущем.
Федор признался, что имеет нарочитое пристроение к театру и намерен дело сие не оставлять.
Помещик Майков отвел его в сторону, познакомил с дочерьми и племянницей. Пригласил Федора навестить в своей усадьбе.
– Дабы побеседовать без помехи о предметах, равно интересующих нас обоих, – многозначительно подчеркнул помещик.
Федор дал слово заглянуть на досуге. Григорий Серов ждал Федора у выхода. Пошли домой вместе.
– Что ж, Федор Григорьевич, компанию комедиантскую потребно сколачивать? – обратился купец к Федору полувопросом.
– За компанией дело не станет, – отвечал Федор. – С пристанищем для компании потруднее будет. Сарай что ли свой приспособить пока что?..
– Сарай и у меня, почитай, без надобности стоит, просторнее твоего. К зиме можно в покои ко мне перебраться. В зале перегородку сломаю. Для избранных смотрителей довольно места найдется.
– То-то и есть, что не об избранных должны быть наши думки, – заметил Волков. – Шире потребно взглянуть на дело, как на общее, на всейное…
– А приспело ли время сему?
– Подтолкнуть невозбранно время оное, дабы не мешкало зря, – улыбнулся Федор.
Условились свидеться вечерком и потолковать пообстоятельнее.
Всейная комедийная хоромина
Колесо завертелось. Со свойственной ему горячностью Федор Волков принялся за организацию «всейной комедийной хоромины», как он называл будущий театр. Свой большой сарай вычистил и привел в порядок. Соорудили временную сценку для проб, где неотложно приступили к разучиванию «Хорева», которым уже все бредили. По сговору с Григорием Серовым, самую хоромину решили оборудовать в его кожевенном каменном сарае. Так как и этот сарай был недостаточно вместителен, к тому же низок, Серов решил пробить стенку и пристроить к сараю особое легкое помещение для сцены – повыше.
Оба сарая стояли на задворках и были разделены узким, грязным переулком. В этот переулок, прямо на волю, спускали отработанные заводские «воды», сваливали всякий мусор, издававший сильное зловоние.
Возникла настоятельная необходимость привести этот переулок в порядок. Для стока вод выкопали узкие канавки, лужи засыпали кожевенной стружкой и песком, перекинули через канавки пешеходные мостики. В заборах прорезали одну против другой две широкие калитки, соединившие дворы Волковых и Серова. Расстояние между сараями было не шире четырех-пяти шагов.
Пока оборудовался театр, волковская компания не дремала. «Хорев» господина Сумарокова был вызубрен назубок. Ребятам не терпелось, они торопили с назначением для открытия хоромины, сами все, без исключения, участвовали в оборудовании «своего собственного» театра. Ежедневно и даже еженощно на постройке можно было видеть копошащихся охочих комедиантов. Они носили доски, убирали мусор, заравнивали ухабины, таскали песок и засыпали им неприглядные углы и закоулки. Остановка была за сценой, готовой только вчерне, да за декорациями, изготовлявшимися собственноручно Федором Волковым и Иваном Иконниковым. В этом деле им мало кто мог помочь, а сами они были завалены работой по горло. Сцена, даже как она выглядела сейчас, голая и щелястая, приводила ребят в восторг, – было где развернуться…
Первое представление «Хорева» было закрытым и состоялось утром в будничный день. Все происходило так, как если бы сарай был переполнен смотрителями. Много места было отведено музыкальной части.
Первоначально Федор думал рассадить обученных им гусляров и волынщиков, под началом Григория Волкова, на виду у смотрителей, впереди занавеса, как он это наблюдал в итальянской опере. Но затем он решил сделать так, чтобы музыка доносилась невидимо и чтобы появление ее всякий раз было чем-то жизненно оправдано: или это играют гусляры в предполагаемых смежных покоях, или гусляры и дудочники будто бы проходят мимо, тоже невидимые. Во втором случае музыка должна была сначала доноситься тихо, постепенно нарастать и затем так же постепенно сходить на нет, теряясь вдали. Два раза гусляры вместе с дудочниками, одетые каликами-перехожими, открывали начало действия, расположившись на сцене. Спустя некоторое время, не переставая играть, они удалялись в глубину театра и скрывались из поля зрения. В этих случаях музыканты действовали купно с хором, особо обученным. Подпевали также и сами. Помимо этого, хор действовал и самостоятельно, очень тихо, где-то вдали. У Волкова была вполне определенная мысль – сообщить мало жизненной и мало действенной, по его мнению, трагедии недостающую ей оживленность, внести какие-то черты народного быта, движения и этим ослабить сугубо декламаторский характер представления.
Искреннее восхищение всех и каждого вызывал передний занавес. Можно сказать, он уже сам по себе являл зрелище, мало кем из смотрителей виданное доселе. Изображен на нем был портик светлого греческого храма с колоннами; вдали – морская перспектива, по бокам – две огромные темные античные вазы. Этот занавес писался тщательно и любовно. Полотно сначала было геометрически точно, по всем правилам «першпективного» письма, разграфлено Федором при помощи Ивана Иконникова. Иконников обладал врожденным чувством колорита, но усвоил очень условную богомазную манеру письма. Федор смело и достаточно искусно владел кистью, но слабо разбирался в сочетаниях красок. В целом живопись получилась довольно сносная, хотя и не без больших погрешностей в выполнении отдельных частей.
То, что именуется порталом, также изображало античные колонны с низко нависшим приземистым фронтоном.
Декорации «Хорева» также удались, по общему мнению, хотя своим мрачным колоритом и плохо гармонировали со светлым занавесом.
Стены сарая изнутри были наспех помазаны серо-зеленоватой краской. Новые, гладко оструганные скамьи, повышающиеся в глубину, были врыты прямо в земляной пол, щедро посыпанный песочком. У входа, на особом щите, висело ярко размалеванное «расписание», где значилось:
Тщанием компании охочих комедиантов отправлена будет
Российская историческая трагедия в стихах.
В пяти действиях, сиречь переменах.
ХОРЕВ
Сочинение господина Сумарокова
ДЕЙСТВУЮТ ПЕРСОНЫ
Кий, князь Российский — Иван Иконников
Хорев, брат и наследник его – Федор Волков
Завлох, бывший князь Киев-града — Гаврило Волков
Оснельда, дочь Завлохова – Иван Нарыков-Дмитревский
Сталверх, первый боярин Киева — Григорий Волков
Астрада, мамка Оснельдина – Алексей Попов
Единый страж – Михайло Чулков
Другой страж — Семен Куклин
Посланный – Михайло Попов
Единый воин — Демьян Голик
Еще воины с речами – Иван да Петр Егоровы
Пленник – Кто-либо
Опричь того появятся валики перехожие с гуслями и думами,
многие стражи и воины князя Российского, також челядь.
Еще будут петь хоры.
Все молодые рабочие как Волковых, так и Серова были заняты в трагедии.
Дьякон Дмитрий совсем определился «к нашей кумедии». Он разводил краски, мыл кисти, подтягивал на пробах хору, утрамбовывал между скамьями землю, путался под ногами во время смены «першпективных» рам.
На закрытом представлении присутствовали только близкие к театру люди: Григорий Серев с двумя приятелями, помещик Майков с дочерьми и племянницей – эти как бы записались в постоянные театралы. Из домашних находились в «смотрельной палате» несколько человек пожилых волковских рабочих с братом Иваном да мать Волковых Матрена Яковлевна с девкой-стряпухой, так как заводская работа на этот день все равно приостановилась.
Матрена Яковлевна пришла совсем не с целью получить удовольствие от трагедии, а из наболевшей потребности повздыхать и поохать над тем, сколько добра изведено и поперчено без пользы и сколько дорогого времени ухлопано даром.
Представление началось гладко и стройно. Все участники были взволнованы необычайно, и каждый ожидал своего выхода со страхом и трепетом. Сосредоточенность Федора, ранее не бросавшаяся в глаза, сейчас несколько пугала. Он как бы замкнулся в себе и ни с кем не говорил ни слова. Это передавалось невольно всем, заставляло думать, что они действительно собираются делать что-то важное и необычайное. В школьных выступлениях они этого не чувствовали, расценивая их как что-то очень близкое к церковной обедне.
Помещик Майков, легко увлекающийся и немного суматошливый, с первых же сцен трагедии пришел в такой неописуемый восторг, что положительно не мог усидеть на месте. Он то и дело вскакивал, перебегал с места на место, чесал плешивую голову под пудреным париком, ахал и охал, порывался бить в ладоши. Остальные сидели тихо и неподвижно, как завороженные, многие – с открытыми ртами.
Юная, на редкость красивая племянница Майкова – Танечка Майковская, как ее звали, – не спускала глаз со сцены, в особенности с выходом Хорева. Она то краснела, то бледнела, прерывисто дышала и часто подносила сжатые кулачки к своему пылающему лицу. Ее две кузины, сухопарые, с длинными вытянутыми лицами, отцветающие и жеманные, тоже были взволнованы. Они жались одна к другой, часто пугались и вздрагивали.
Матрена Яковлевна была взволнована, кажется, меньше всех. Мысль о загубленном добре не оставляла ее ни на минуту. Она с одинаковым интересом разглядывала как действующих лиц, так и смотрителей. Несколько раз останавливала взгляд на трепещущей Тане. Подталкивала стряпуху Марфушу, показывала ей глазами и знаками, шептала, нагнувшись:
– Марфушенька, глянь-ко… Ты глянь-ко, мать… Уж и красавица!.. Прямо, краля…
– Котора? – пялила глаза Марфуша.
– Та, наливно яблочко… Племянница-то Майковская. Танюша. Татьяна Михайловна будет… – она склонялась еще ниже. – Глянь-ко, глянько-ко, мать… Глядит-то как!.. Вот-вот вспорхнет и улетит… И все на Федора нашего. Ну вот, пылает-пылает вся, что зорька.
Помолчав, она вздохнула и прибавила шопотом:
– Невеста, вишь, мать… А бесприданница… Родственница бедная…. Ну, кто возьмет таку? Токмо что за красоту рази.
– За красоту, бывает, берут, – соглашалась Марфуша.
– Да корысти-то что? – вздохнула старуха. – Ведь как есть ничегошеньки, мать… Из милости у дяденьки кормится. А уж хороша!.. Ежели бы да кабы… Эхе-хе… Пустоцвет – былиночка, сиротинка бедная…
Таня Майковская и не подозревала, что кто-то в зале может интересоваться ею. Она вся дрожала от охватившего ее волнения, от новых неиспытанных никогда чувств, нахлынувших на нее горячей, томящей волной. Она в этот момент не принадлежала себе и плохо соображала, что вокруг нее происходит. Открылся какой-то новый мир, не подозреваемый раньше, и она не знала, как к нему относиться, с боязнью или с радостью.
Когда, после первого акта, занавес опустился, помещик Майков принялся бушевать невозбранно. Бил в ладоши подзуживал других, кричал: «Фора!» Делился своим восторгом с первым подвернувшимся, без конца восклицал:
– Наше, наше ведь! Братцы, наше, российское! Ну и молодцы! Гении! Их за золотые деньги в столицах показывать! Там такого и понюхать нет!..
Не утерпел, полез было на сцену благодарить и целовать артистов. Опоздал В это время пополз кверху занавес. Началось второе действие.
Ваня Нарыков в этот день записал в свой «ежедневник»:
«Отправили «Хорева» в виде пробы закрытой. У меня и у других многих, чувства странные, пожалуй, тревожные, но наипаче приятные. В театре подлинном мы подвизались как бы впервые в жизни нашей. Прежнее не в зачет. Совсем особливые чувствования, хоша смотрителей почитай и не было. Относился я к отправлению трагедии как к заправде некоей, будто переселившись во времена иные. Другие в том же признались мне. И непривычно как-то и вместе сладостно. П. Я. выразился, будто сие происходит якобы «от веяния крыл незримых искусства подлинного» (его слова). В моменты иные мне мнится, будто без мира новоявленного ежели отнять его, как бы и жить долее невозможно. А ведь жили же. Полагаю, сие от волнения временного. Поделившись с Ф. В. мыслию сей, он меня обнял и на оное ответствовал: «А мы и будем жить в мире новооткрытом; кто помешает нам?». Оный Ф. В. как бы вне себя обретается, зело сугубее моего. Еще: после роли Оснельдиной, мною отправлявшейся, часто забываюсь, воображая себя все еще особою оною. За ужином два раза оговорился, сказал впервой: «Пошла бы я погулять, да устала дюже». И еще, отцу: «Батюшка, как я тебе понравилась ноне?» Добрый батюшка смеялся, матушка недовольна как бы, Николка дразнится девчонкой, а дед внучкою величает. Но сие так, в виде послесловия к написанному».
«Веяние крыл незримых»
«Хорев» еще до открытого представления прогремел в городе. На спектакль смотрели по-разному: одни – как на чудо невиданное, заморское, другие – как на затею довольно опасную и едва ли не предосудительную.
Восторженный не в меру и непоседливый Майков весь следующий день разносил весть о необычайном событии по сонным стогнам[16]16
Площадям (старославянск.).
[Закрыть] города. Побывал всюду, где только было можно, не исключая и архиерея. Преосвященный, по обыкновению, возился со своими «козликами», архимандрит был мрачен и не в духе.
Когда Майков неосторожно сравнил спектакль с «заново возженным огнем на алтаре богини Мельпомены», о. Иринарх с заметной издевкой крякнул и многозначительно проронил:
– Гм… одначе!.. Юлианом припахивает…[17]17
Юлиан, прозванный Отступником, – римский император IV в. н. э., отрекшийся от христианства и пытавшийся восстановить культ языческих богов.
[Закрыть]
Майков спохватился, перевел разговор на таланты блистающие, вспоенные и вскормленные светлым умом о. Иринарха. Архимандрит смягчился, неопределенно пробормотал:
– Ну, сие особь статья…
Преосвященный Евлогий понял только одно: его семинаристы дюже отменно отличились. Сказал:
– А? Архимандрит? Молодец ты есть, выходит! Уместней невозбранно и о митре похлопотать…
– Всякое деяние добро без награды радостной да не останется, – сочинил наспех Иван Степанович свое собственное изречение.
О. Иринарх проводил помещика с лестницы под руку, оберегая, чтобы тот не споткнулся ненароком, ибо лестница была темновата.
К воеводе едва допустили. У того был злейший приступ одышки; он сидел у настежь открытого окна в креслах, обложенный подушками и укрытый какими-то пеленами. С трудом дышал, хныкал поминутно и вообще менее всего был расположен к какой-либо беседе.
– Я тебя вылечу, тюфяк. Сие от неподвижности телесной и умственной. Движение двоякого рода потребно. Нашел я тебе лекарство, головой отвечаю…
Иван Степанович рассыпался в восторженных похвалах «Хореву» и охочим комедиантам, закидал словами изнемогающего воеводу, затормошил его.
– Пощади, друже… – с трудом переводя дыхание, взвыл воевода. – Ты того… совсем неразумное… теля на выгоне. Тут того… дух спирает, а ты…
– Вылечу! Сказал вылечу – и вылечу! Вот я те на Петров день сволоку, куль лежачий, на оказию оную, и одышку твою как рукой снимет. Мозгов шевеление потребно, старый: с оным и сердца шевеление усилится. Ты – воевода, пещися обязан о чуде новорожденном. Восприемником будешь. Почет получишь велий…
29 июня днем состоялось открытое представление «Хорева». Сарай за час до начала уже был переполнен. Смотрителей впускали не из переулка, а через главные ворота серовского дома, с большой улицы. Нужно было пройти через двор, нестерпимо благоухавший кожами и дубильными специями, так как рано утром вспрыснул дождичек.
В театре покурили чем-то вонючим, чтобы отшибить запах кожи, однако эта мера мало помогла. Когда смотрители набились доотказа, пришлось растворить все двери настежь. Сцена, несмотря на дневное время, задолго до начала была освещена невидимыми фонарями.
Майков чуть не с утра явился со своими тремя девицами. Предупредил:
– Воевода будет. Обещался…
Девицы дожидались начала в палисаднике. Познакомились с Матреной Яковлевной.
Около полудня Иван Степанович то и дело выбегал к воротам смотреть – не едет ли воевода. Воевода медлил.
У ворот и во дворе толпилось много народа. Двое работников, в красных рубахах и с густо намасленными волосами, производили у ворот отбор смотрителей. «Лишним» говорили:
– До другого разу. В воскресенье. Ноне сажать некуда.
– Мы постоим, – упрашивали «лишние».
– И стоять негде.
– Мы у щелки, снаружи. Издаля…
Завидя Майкова или кого другого, похожего на начальство, обойденные поднимали гвалт:
– Дяденька, пусти! Али мы хуже других?
Майков, на свой страх, обещал всех устроить погодя. Уверял, будто после первого представления будет точно такое же второе, для тех, кто не попал.
Потеряв терпение, Иван Степанович отправил своего нарочного к воеводе с нижайшей просьбой пожаловать на трагедию.
Посланный вернулся с известием:
– Воевода пожаловать не могут, с дыханием задержка. Им растирают грудки и щекочут подмышки…
Представление начали без воеводы. Смотрители вели себя чинно, благородно, слушали внимательно, семячек не лущили, сидели тихо.
По окончании действий наверстывали. Оглушительно хлопали все, как по команде. Когда представление закончилось, долго не хотели расходиться. Кричали комедиантов по именам и просили еще. Не добившись повторения, театр покинули с сожалением.
Столпившиеся у ворот устроили Майкову скандал, требовали немедленного повторения «потехи».
Напрасно бедный Иван Степанович оправдывался, ссылаясь на то, что комедианты устали, что он не хозяин и в сущности тут не при чем. Ожидавшие знать ничего не хотели, резонно кричали:
– Ты баил, барин! Мы ждали с дополуден. Значит, впущай! Хучь деньги бери, да впущай!..
Кое-как уговорил обиженную толпу уже успевший раздеться Федор Волков. Дал слово впустить обездоленных в воскресенье в первую голову.
– А как ты нас узнаешь? – волновались в толпе.
– По-честному. Скажете: на первый раз не впустили, местов не было.
Недовольные понемногу разошлись.
Майков тащил всех комедиантов к себе, непременно желая угостить их после трудов праведных и «отменного триумфа». Федор отговорился за всех усталостью. Майков не сдавался. Обращался к дочерям и племяннице:
– Девицы, просите! Берите под руки триумфатов и тащите. Агния, Аглая, действуйте! Таня, начинай! Пригрозите, коли отказ последует, прекратить посещения хоромины ихней, сколь сие ни прискорбно нам – будет.
Старые девы жеманились, моргали белесыми ресницами, прятались одна за другую, хихикали.
Танюша, взволнованная и раскрасневшаяся, сделала шаг вперед, подняла светящиеся глаза на Федора и просто сказала:
– Почему вы приятность оказать нам не желаете, Федор Григорьевич? Дядя попросту, от всего сердца. И я прошу… Мы все просим вас и товарищей ваших.
Проговорила и покраснела до корня волос.
– Зело ценим радушие ваше, Татьяна Михайловна, и сестриц ваших любезных, и дядюшки. Уж вы извините нас. Устали дюже ребята. Взбудоражены и не подготовлены к визиту, столь для них необычному. Будьте снисходительны к нам на день нонешний. Как-нибудь в другой раз… – оправдывался Федор перед надувшимся и обиженным помещиком.
Майков взял слово со всех участвующих в воскресенье после представления быть непременно его гостями.
Уехали.
Молоденькая и очаровательная Танечка была чем-то вроде домашнего диктатора в семье вдового дяди. Ее мать, старшая сестра Майкова, была замужем за секретарем Московской синодальной конторы Мусиным-Пушкиным. Не за графом, а за нищим отпрыском одной из захудалых линий этого старинного рода. Отец скончался семь лет тому назад, когда Танечка была еще совсем маленькой девочкой. Бедный синодский секретарь, не имевший ни вотчин, ни поместий, он оставил после себя только небольшой домик в глуши Замоскворечья, да крохотную пенсию, на которую почти невозможно было просуществовать вдове с двумя девочками, из которых младшей, Грипочке, было всего два года, а страшен, Тане, девять лет. Мать Тани обратилась к богатому брату с просьбой взять к себе старшую сиротку Иван Степанович согласился, и вот Таня уже семь лет, как живет у него в Ярославле.
Девочка, благодаря простоте, сердечности и привязчивому характеру, вскоре стала совсем своей в доме. И не только своей, но чем-то таким необходимым, без чего трудно было представить скучный и пустынный Майковский дом. Добрый и праздный Иван Степанович, никогда не знавший как убить время, привязался к девочке. Еще более, но совсем по-особенному, полюбила Таню жившая в доме гувернантка девиц Майковых, мадам Луиза Любесталь. Стареющая француженка, роль которой у вдового помещика была значительно сложнее роли простой гувернантки, буквально изливала на девочку неисчерпанные во-время потоки своей материнской любвеобильности. Порывистая и взбалмошная француженка постепенно успела привить девочке многие черты, которые в ее положении были, пожалуй, и совсем излишними.
В воскресенье девицы Майковы притащили-таки воеводу на представление.
С воеводой прибыло человек десять его приближенных. Так как театр был уже полон, для почетных гостей натаскали стульев из серовского дома и устроили для них особый – «самый первый ряд», попросив кое-кого из смотрителей потесниться.
Прибытие на потеху важного воеводы, среди бела дня, на глазах у всего честного народа, необычайно подняло значение волковской затеи в глазах соседей и целого города.
Идя от ворот к театру с подхватившими его дочками Майкова, толстый воевода крутил головой «от острого духу» и зажимал нос платком.
Осмотрев неказистый «театр» снаружи, он заметил Майкову:
– Невозможно было в городу наигаже сарая выбрать. Сие вертеп какой-то…
На что Майков ответил:
– Оный вертеп необделанному самородному диаманту[18]18
Алмазу.
[Закрыть] подобен, – все сокровище не снаружи, а внутри сокрыто.
– Ну, краснобай, того… показуй тот диамант необделанный.
Почетные гости уселись. Началось представление. Воеводу вначале сильно мутило от кожного запаха. Он сопел, отдувался, но постепенно притерпелся и позабыл о всяких запахах. В течение спектакля об одышке редко вспоминал. Уже по окончании представления, выйдя на волю, очень довольный проведенным временем, постучал себя в необъятную грудь и сказал помещику:
– Полегчало как бы малость…
– То-то, старче, – обрадовался Майков. – Я тебе толковал: не сыскать лекарства пользительнее дубильных специй, они же и мертвых обращают в мумии нетленные.
Воеводу провожали до ворот весьма торжественно и компания Майковых, и смотрители всей молчаливой гурьбой, и часть наскоро разоблачившихся комедиантов.
– А ведь того… скажи на милость! – стоя у ворот, проверял воевода работу своих легких. – Как бы совсем отошло… Чудеса…
– Кричи виват комедиантам, воевода! – смеялся Майков.
– И закричишь, чего доброго, – с удовольствием отдувался воевода. – Слышь-ка, Степаныч… Ведь им бы того… для ради Мельпогениных утех… Ино како пристанище… показистей.
– Театр строить потребно городу, почтенный осударь наш воевода. Яко в столицах просвещенных, – полушутя, полусерьезно говорил Майков. – Ваша забота о сем, богоспасаемого града блюститель.
– В наказе того… не указано, – пыхтел воевода. – Не малые средства потребны.
– Собрать средства! А наказ я тебе дополню собственноручно…
– Подумать потребно, – заключил воевода, усаживаясь в добротную, поместительную колымагу.
– Обернешь дело сие – первым в империи будешь воеводой театральным, – кричал Иван Степанович вслед удаляющейся колымаге.








