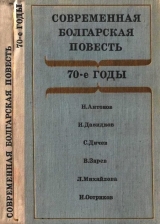
Текст книги "Современная болгарская повесть"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Владимир Зарев,Стефан Дичев,Иван Давидков
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
Несколько мгновений они стояли в темноте. Андрею представилось, что они где-то в середине двора, под деревцем маленького сада, и он держит ее руку. Он огляделся, но не увидел дерева, по крайней мере такого, под которым можно было бы постоять.
– Я вам сообщу, когда у мужа будет ночная смена, – твердо ответила сестра Бонева, и почти тотчас дверь захлопнулась.
Андрей вышел на улицу и медленно направился к Дунаю. Огромная луна, словно рыба, плескалась в воде. Было светло и тепло. Он принялся швырять в року камешки. Его мысли и чувства так перепутались, что он отказывался что-либо понимать и воспринимал только ночь.
7
– Вы молоды, а мне шестой десяток скоро стукнет, и я могу сказать вам, что такое благородство, – говорил доктор Цочев. – Во всяком случае, оно выражается не в разделении вины…
На Молодых посадках царила тишина. Они сидели перед домиком, который со своей жестяной крышей, выкрашенной в красный цвет, походил скорее на красивый барак, чем на дом. Виноградник у доктора Цочева был отменный. Он начинался от узенькой тропки, где набухал крупный янтарный «Булгар», и заканчивался у симпатичной веранды. На ней стояли плетеные стулья и стол. Они выпадали из общего тона и когда-то, наверно, украшали врачебный кабинет.
Необыкновенным был этот осенний день – еще пахло летом, все вокруг источало свет и тепло, и на выгоревших листьях качался пыльный ветер. Странное впечатление производила красная крыша, лишавшая «виллу» возможности остаться незамеченной. Тетушка Минка так и объяснила Андрею: «Увидишь большую красную крышу…»
– А сколько раз в жизни, – взволнованно продолжал доктор Цочев и пригладил свои щетинистые поседевшие волосы, – человек может брать вину на себя? Сколько раз он в состоянии быть виновным? Вы слишком абстрактно поставили вопрос, молодой… товарищ…
Доктор Цочев был довольно крупным мужчиной, однако уже сгорбившимся, с неожиданно слабым высоким голосом. Напоминал несостоявшегося артиста. Казалось, он рожден был носить галстук-бабочку. Его белые длинные пальцы нервно дрожали на спинке плетеного стула. На губах играла насмешливая и какая-то печальная улыбка, обижавшая скорее его самого, чем собеседника. Он явно относился к тем самолюбивым людям, от которых даже в самые лучшие их дни веет унынием…
Завидев красную крышу и прямую, очищенную от травы дорожку, Андрей почувствовал раздражение. Стулья и плетеный столик удвоили раздражение, но когда он увидел самого Цочева… то вдруг услышал тишину. От всего здесь веяло чем-то глубоко провинциальным, и это изумило Андрея.
В словах доктора Цочева смешивались и желание пофилософствовать, и разумная эмоциональность много повидавшего человека – две полные противоположности. Он принес тарелку свежего винограда и небольшую оплетенную бутыль с домашним вином, которого Андрей так и не попробовал.
– Благородными могут быть те, кто преуспевает, – деловито продолжал доктор Цочев. – Такие, как я, неудачники, не могут быть благородными, да и от города вы не можете требовать этого…
– Почему? – спросил Андрей, и его вопрос прозвучал по-детски, непрофессионально, что, кажется, произвело на доктора Цочева неприятное впечатление.
Он закурил сигарету и несколько минут не обращал никакого внимания на молодого адвоката, как будто был занят только самим собой. Андрей рассматривал ряды виноградных лоз. Лоза, увивавшая навес, прогибалась под тяжестью крупных гроздьев, которые издали напоминали искусные изделия из благородного камня. Приближалось время обеда, старики неспешно двигались в своих виноградниках, с соседних участков доносились голоса, звон посуды. Теперь это стало докучать Андрею…
– Перейдем к делу, – сухо, напомнил он, и в ответ на его слова, словно эхо, раздался монотонный, немного писклявый голос доктора.
Первого мая в половине десятого вечера доктора Цочева срочно вызвали в больницу. Он присутствовал и на первой операции, помогал хирургу. Они любезно беседовали, искренне делали друг другу комплименты, и все это привело к тому, что врач, который вел операцию, произнес ту «фатальную» (слово поразило Андрея) реплику. Когда доктор Цочев подавал ему ватный тампон, чтобы тот вытер налипшую на перчатки кровь, он неожиданно сказал:
– У вас руки хирурга…
Доктор Цочев тут же извинился и вышел в коридор закурить. Он почувствовал сильную головную боль, тошноту. Тупая боль постепенно нарастала.
Тридцать лет назад доктор Цочев благодаря своему невероятному усердию с отличием закончил медицинский институт. В молодости его преследовало честолюбивое желание стать «самым большим хирургом». Тогда он не понимал ни того, что такое «самый большой», ни того, что такое «хирург». Несколько лет он работал под Старой Загорой в селе, где ему не представилось возможности сделать хотя бы одну операцию – приходилось лишь смазывать йодом нагноившиеся раны. Потом он женился, потом началась война… К великой радости Цочева, его мобилизовали, и он стал военным врачом.
Какая глупость – война. Ежедневно он делал самое меньшее по десяти операций и половину – неудачно. Война слепа. Она списывает все – и тщеславие, и отсутствие способностей…
Теоретически доктор Цочев знал, что и как надо делать, он не сомневался и в правильности своих диагнозов. Но о каком диагнозе можно говорить, когда у человека оторвало половину ноги? Его длинные белые пальцы отказывались подчиняться, были неловкими, медлительными, неповоротливыми, подлыми.
Очевидно, доктор Цочев спас много жизней, однако ни с одним из наиболее тяжелых случаев не справился, не справился и с самим собой. Когда он хватал скальпель и стоял над вскрытой плотью, страшное сознание беспомощности, невозможности помочь другому словно и в нем самом убивало что-то, и он понял, что такое хирург.
Вечерами в блиндаже, где была оборудована операционная, он расхаживал между мрачными стенами и со смутной надеждой, словно наук, ждал нового случая. Он мало думал о тех мужчинах, которые попадали к нему под скальпель, которых он оперировал часто без обезболивания, оперировал в то время, когда их матери и жены ждали от них писем. Как наивна война…
– Я знаю, – подчеркивая каждое слово, проговорил доктор Цочев, – что такое «не могу»…
Лицо доктора Цочева не выражало ничего, кроме жгучего желания высказаться. «Люди невероятно заняты собой, – с тревогой думал Андрей. – И, самое важное, они всегда правы…» Рассказ доктора Цочева не имел отношения к делу, но Андрей привык к людям этого города. Они жили одновременно и будущим и прошлым. Андрей начал испытывать к доктору легкое сострадание, граничившее с огорчением. Исповедь была скучна, как философский трактат, от которого веяло лишь пыльной житейской мудростью.
После войны доктор Цочев разлюбил свою жену, которая родила ему сына и дочь и которую он иногда заставал в кухне плачущей. Он переквалифицировался, стал анестезиологом, потому что не мог расстаться с операционной. Теоретически он знал весь ход операции, следил за всем происходящим с немым восхищением, контролируя пульс пациента и регулируя работу кислородного аппарата.
Никогда в жизни он не чувствовал себя во время операции так странно. Голова была тяжелой, боль не отпускала ни на минуту, и это испугало его, заставило удвоить внимание. Он глаз не спускал с аппарата, подающего закись азота, и следил за окраской тканей.
Все шло хорошо, но сравнительно медленно. Это вызвало необходимость продолжить введение физиологического раствора, и доктор Цочев спросил сестру, когда выпущен препарат.
– Пятого числа позапрошлого месяца… – ответила сестра Бонева, и он не захотел рисковать. Потребовал раствор последнего выпуска. Он все время заставлял себя не думать ни о чем постороннем.
Доктор Цочев сумел перебороть головную боль и встал со своего места. Принялся искать аспирин. В это время он заметил, что сестра Бонева вернулась…
– Была включена система в тот момент, когда она подавала вам лекарство? – прервал его Андрей и по выражению лица доктора попытался угадать ответ.
– Это было более четырех месяцев назад, с тех пор мы провели не менее ста операций… Могу ли я все упомнить?
Андрей дал ему понять, что не принимает ответа. Он затянулся сигаретой и засмотрелся на Молодые посадки, волнами спускавшиеся к Дунаю. Наступило короткое молчание, в течение которого доктор Цочев больше переживал, чем думал.
– Думаю, что нет… – испуганно произнес он. – Я не совсем уверен… в тот момент система не работала.
– Вы подтвердите это перед судом? – Андрей отлично понимал, что принуждает к ответу этого пожилого человека. Доктор Цочев мог выгнать его еще в самом начале разговора.
– Не знаю…
– Вы не можете точно вспомнить?
– Нет…
– А позже Бонева могла бы включить ампулу с пирамидоном?
– Мне кажется, нет. Она искала аспирин на столике. Потом, приняв лекарство, я заметил, что система функционирует. Капли были отрегулированы. Но, возможно, что и сестра Бонева сделала это. В тот момент я принимал аспирин…
– Находился ли возле системы кто-нибудь еще?
– По другую сторону от нее, по крайней море несколько минут, стояли сестра Виргилия и санитарка. Я уверен в этом, так как видел сквозь марлевый экран, что возле пациента только один хирург. Уже пришло время накладывать швы, и все задвигались. Поэтому и я позволил себе встать.
– Доктор Цочев, – Андрей помедлил и закончил вопрос лишь после того, как снова поймал его расстроенный, поблекший взгляд, – вы уверены, что не вы включили систему?
– Не помню, – тяжело вздохнул Цочев и начал разводить руки, словно хотел обнять Андрея, – но почти убежден, что не я, потому что мне надо было выпить лекарство. У меня не хватило бы времени. Фактически это почти невозможно. А капли были идеально отрегулированы, понимаете? И кроме того, все знают, весь город знает, что в смерти мальчика виновна сестра Бонева.
Он вытащил пробку из бутыли. Андрей почувствовал, что доктор очень утомлен – в своей поношенной соломенной шляпе он был похож на Мичурина.
– Почему вы уверены, что это сделала именно сестра Бонева?
– Сразу после операции, когда выяснилось, что ребенок отравлен пирамидоном, она расплакалась…
Андрей засмеялся – точно так сделал бы сейчас и его отец. Над тарелкой с виноградом беззаботно кружила оса.
– Это не доказательство, доктор, расплакаться могу и я, но… – Андрей посерьезнел, закурил новую сигарету. – А почему следствие охватило не всё, некоторые детали не фигурируют в следственном акте?
– Я говорил лишь о том, о чем меня спрашивали. И на все вопросы отвечал подробно и исчерпывающе.
– Подождите, – резко оборвал Андрей и протянул ему свои сигареты и спички. – Хирург, оперировавший ребенка, не присутствовал при анатомировании из-за болезни, но он настоятельно просил вас сообщить о введении ребенку пирамидона, когда будет вскрытие. Почему вы не сказали врачу, проводившему анатомирование, о том, что мальчик отравлен?
– В свидетельстве о смерти ясно подчеркнуто, что операция прошла благополучно, с соблюдением всех правил и хирург ни в чем не виноват.
– Да, но все-таки в свидетельстве о смерти отсутствует констатация факта отравления. Почему вы это скрыли, доктор Цочев?
– После бессонной ночи все мы невероятно измучились, ужасно устали. Страшная была ночь…
– Врач-анестезиолог обязан лично проверить, какие препараты включаются в систему, он должен потребовать от сестры, чтобы она трижды вслух прочла по этикетке название лекарства, прежде чем включить его в систему, он…. Не много ли упущений, доктор Цочев, а?
Андрей понимал, что продолжать разговор бессмысленно. Он пытался определить свое отношение к этому жалкому человеку с поседевшими волосами, которые уже приобрели табачно-желтый оттенок, и понимал только одно – что тот абсолютно невиновен. Однако констатация этого факта уже не имела никакого значения. Его показания были столь противоречивы, он совершил столько «мелких» нарушений, что опытный следователь, который вел бы следствие по всем правилам, вряд ли без особого труда сумел бы снять с него вину.
Доктор Цочев сбросил соломенную шляпу и, налив себе из бутыли, выпил.
– Я объяснил вам. Во время операции я нервничал… я вспомнил…
Наступал решающий момент их встречи, и Андрей размышлял, как поступить. Надо было дать ему понять, что он готов промолчать об «упущениях», не зафиксированных следователем, однако и доктор в свою очередь должен подтвердить перед судом тот факт, что сестра Бонева не могла включить систему. Цочев, видимо, расчувствовался, но честность в этом человеке явно преобладала над его эмоциональностью. Андрей бросил окурок и, после того как оба решительно встали, спокойно произнес:
– Доктор Цочев, я настаиваю, чтоб вы дали суду такие же показания. Я думаю, я убежден, что сестра Бонева не включала систему. Вы повторите это перед судом?
Андрей улыбнулся так тепло и сердечно, что доктор Цочев растерялся. Он вытер пот со своего высокого лба и голосом, сдавленным, с нотками самоуничижения, произнес:
– Может быть… я только предполагаю….
Они пошли по дорожке, и Андрей поблагодарил доктора за прием, мимоходом похвалил его виноградник, выразил сожаление по поводу того, что так и не сумел отведать его вина.
Пройдя шагов сто, он оглянулся и опять увидел жестяную, свежеокрашенную, красную крышу, которая поистине казалась пеленой. Доктор Цочев выглядел смешным человеком, но смешное в нем было и самым серьезным. «Если бы он был преуспевающим хирургом, – мельком подумал Андрей, – он меня наверняка сразу же выставил бы». Первый раунд был выигран, но Андрей испытывал угнетенность и тоску. Хотелось пойти искупаться в Дунае или податься к рыбакам. Рыбаки так хорошо умеют молчать…
8
Дни протекали, в общем-то, одинаково. Андрей помогал тетушке Минке обрывать ягоды с гроздьев. Они очищали их от заплесневелых зернышек и ссыпали в грубую деревянную соковыжималку, которую Андрей крутил, закатав рукава до локтей.
Вместе с разжиженной виноградной кожицей мутный, неприятный на вид сок стекал в корыто, из которого тетушка Минка большим черпаком переливала его в бочку. Сок напоминал недоваренную кашу, а тетушка Минка охала. Однообразная работа в сыром подвале утомляла ее, и к вечеру она совсем уж раздраженно говорила:
– Те двое целыми днями стучат в нарды, а я им вино делай? Хватит с меня!
Играя в нарды, приятели то и дело ссорились и поглядывали друг на друга со смешной свирепостью. Дядюшка Киро утверждал, что китайцы поддерживали войну во Вьетнаме, чтобы насолить русским. Офицер запаса посасывал усы, пытался выбросить джар эк[29] и объяснял, что война нужна прежде всего американцам, чтобы испытывать оружие. Некоторые их суждения оказывались неожиданно сложными и точными. Спор возникал не сразу, обычно все начиналось с того, что офицер запаса принимался доказывать, будто дядюшка Киро ничего не понимает в войне. А тот в свою очередь вполне логично и не без известной иронии спрашивал:
– А что ты понимаешь в войне, если служил в коннице тридцать пять лет назад?
Так проводил Андрей свое послеобеденное время… Однако в тот вечер он вернулся поздно. Он сидел в кафе «Весна» до закрытия и выпил там две большие порции коньяка. Ему хотелось побыть одному. Пока он поднимался по лестнице к себе в комнату, в его голове мелькали образы сестры Боневой (он видел ее склонившейся над полированным столиком), доктора Цочева, который был похож на Мичурина. Но навязчивее всего его преследовал образ Юлии, о которой он не желал думать.
Едва войдя к себе, Андрей, не раздеваясь, бросился на кровать. Он курил и пытался убедить себя, что ему ужасно скучно…
Послышались шаги тетушки Минки, с подносом в руках она вошла в комнату. Зажгла свет и засуетилась возле стола.
– Есть хочешь?
– Нет, спасибо, – ответил Андрей, однако тетушка Минка не уходила, а со смущенным видом продолжала разглаживать складки на скатерти. На ней была грубая ночная рубашка, в которой он привык видеть ее каждое утро, но сейчас в ее волосах не хватало закруток.
– Будешь спать?
– Не знаю, – сказал Андрей и сел на кровати. Он улыбнулся, думая, что ей это будет приятно. Было что-то гротескное и сильное в ее крупной фигуре. Она несколько раз вздохнула.
Андрей чувствовал, что она взволнованна, что настроилась на длинный разговор, а ему хотелось побыть одному. На подносе лежало крылышко цыпленка, посыпанное красным перцем, виноград и хлеб.
– Я хочу тебя спросить кое о чем, – смущенно начала она, по привычке засучивая рукава. – Это правда?
– Что правда?
– Мне вчера сказала жена офицера, а ей сказала учительница из детского дома…
Андрей замолчал и принялся перелистывать какой-то старый журнал, неизвестно как попавший в эту комнату еще до его приезда в город. Он делал вид, что читает по строчке то здесь, то там, но на самом дело прислушивался к тишине, залившей дом. Никогда в жизни он еще не ощущал такой тишины – как в старой библиотеке, полной древоточцев. В этом городе он впервые узнал, как может молчать дом. Он пытался доказать себе, что ему скучно…
– Но она убила ребенка. Господи, такая негодяйка, а расхаживает себе, будто ничего не случилось…
– Неизвестно, – мягко улыбнулся Андрей. – Возможно, сестра Бонева не виновна. А почему ты не ложишься?
– Она отравила мальчонку, и ты еще защищать ее станешь?!
– Моя работа, – все так же вежливо продолжал Андрей, делая усилие, чтобы голос его звучал спокойно, – обязывает меня защищать и виновных людей. На то я и адвокат.
– Ничего не понимаю… – Тетушка Минка говорила взволнованно и отрывисто, и Андрей почувствовал, что ничего не объяснит ей. В окне виднелись листья винограда; освещенные, они казались нереально белыми.
За столом сидела тетушка Минка, словно олицетворение того упрека, который Андрей так ясно уловил в ее словах. Она, по-видимому, напряженно думала. Андрей был убежден, что она как-то особенно, по-своему, любит его, и именно эта любовь будит в ней противоречивые чувства. Он слышал, как она взяла поднос и, не загасив света, тихо притворила за собой дверь.
Андрей переоделся в пижаму и попытался решить ребус в газете «Трезвенность», которую выписывал дядюшка Киро, но, когда дошел до слова из пяти букв, означающего название безалкогольного напитка, бросил. Открыл чемодан, вынул фотографию Юлии.
Это была старая фотография, которую Юлия подарила Андрею за год до окончания его службы в армии. Она, очевидно, позировала, и неумело, однако из-под искусственной строгости лица проглядывала самая обыкновенная улыбка. Улыбались уголки ее глаз, и в этом их выражении угадывались тревога и страх. Он провел ладонью по глянцевой поверхности снимка, на обороте которого стояла отчетливая надпись: «Андрею, с надеждой».
9
Мы возвращались из театра… Шли через парк по моей любимой аллее. Сели на скамейку, где я любила сиживать, готовясь к экзаменам. Андрей продирался через кустарник, а я дернулась за него сзади, словно слепая. Было невероятно душно и темно. Ветер словно бы влез на высокие ветви и создавал ощущение скорее неподвижности, чем прохлады.
– Я хочу показать тебе мою любимую скамейку… – с трудом проговорила я и подождала, пока он сядет рядом. Я надеялась, что он, по крайней мере на мгновение, замолчит и послушает меня. Я почувствовала, как он взял мою руку, но лица его разглядеть не могла. Нас окружали старые, уже вымирающие сосны; небо было чуть светлее, и, чтобы не впасть в меланхолию, я старалась смотреть вверх. Я не решалась встать. Какая-то влюбленная пара затащила сюда скамейку, краска облупилась, и на ней отчетливо виднелись пронзенные кинжалами сердца и неприличные слова. После третьей сигареты Андрей оставался таким же оживленным, перемена в его настроении, в сущности, была едва уловимой.
– Я хотела показать тебе мою любимую скамейку, – громко сказала я и схватила его за руку. Андрей говорил еще какое-то время, внезапно он умолк, так как подошел к тому месту своего монолога, в котором я должна была спросить: «Почему ты считаешь, что должен стать адвокатом?» Наступила долгая психологическая пауза. Андрей был удивлен, растерян, а я стыдилась повторить в третий раз: «Я хотела показать тебе мою любимую скамейку». Я почувствовала, что больше не в состоянии выдерживать это молчание, и заговорила, понимая, что становлюсь смешной.
– Почему ты не сбреешь бакенбарды?
Неловкая пауза. Потом я спросила, почему он на пять минут опоздал в театр, я ненавидела его опоздания, ненавидела взгляды и физиономии гардеробщиц. Внезапно я вспомнила, что он не поздравил меня с днем рождения. Я понимала, что смешна…
Среди старых деревьев и молодого сосняка царила бархатная и мягкая тишина, исцеляющая тишина. Каждую секунду я ждала, что лупа покажется из-за облака, темный край которого уже начинал серебриться, или кто-нибудь пройдет по аллее. Но ничто не обуздало меня. Андрей не простил мне того, что я не задала ему вопрос: «Почему ты считаешь, что должен стать адвокатом?» Он принялся грубо трясти меня за плечи и шептал на ухо:
– Чего ты от меня хочешь? Каждый день я мотаюсь по театрам, концертам… Моцарт, Шостакович, осточертело. Слушаю твоих поэтов, на улицах держу тебя за руку, сижу с тобой в студенческих кафе. Развлекаю твоих подруг, когда у них нет дела. Чего ты хочешь?
Думаю, в тот момент мы оба ощутили почти физическую боль и отпрянули друг от друга. Меня это не испугало, а его не устыдило. Мне казалось противоестественным, что мы одни и никто нас не слышит. Андрей внезапно сник, стал приглаживать мои волосы и выглядел человеком, который силится что-то припомнить.
– Ты не любишь меня, Андрей, – слова прозвучали драматически, как в каком-нибудь фильме с участием Греты Гарбо, – ты неравнодушен только к самому себе, понимаешь?
Я казалась самой себе раненой птицей, которой нет спасения. Эта медленная потеря сил, это отсутствие воли…
Андрей затягивал узел галстука конвульсивными, полными угрозы движениями. Я хотела вымолить у него прощения, спросить, почему он хочет стать адвокатом, но когда он приблизился ко мне, сразу очнулась:
– Прошу тебя, не ухмыляйся…
На мгновение я почувствовала, что мне становится страшно, в моем тоне слышалось что-то многозначительное, заговорщическое. Андрей закурил сигарету и стал ласкать меня, как мать ласкает ребенка. Это было жестоко с его стороны, жестоко было быть ласковым… А я, по крайней мере в тот момент, я должна была сделать что-то настоящее. Я искала примирения и с ним и с самой собой и обняла его. Когда я губами коснулась его губ, у меня появилось такое ощущение, будто я целую кору дерева, о которое опираюсь…
10
Андрей навел порядок на своем столе, раскрыл «Советскую фармакологию», в которой излагались обязательные правила хранения, упаковки и оформления названий и сроков годности лекарств, но ему не читалось. Его мысли, отрывочные и разбегающиеся, были где-то далеко. Он смотрел, как дождь падает на навес, увитый виноградом.
Когда они вторично встретились с сестрой Боневой, он засиделся у нее почти до двенадцати ночи. На этот раз она была одета, словно на прием, и это произвело на него впечатление. Оба они выглядели нелепо, как бы наивно… Андрей в своем исключительно элегантном сером костюме и сестра Бонева в коротком, слишком затянутом в талии черном платье. Она завила волосы, и они красиво рассыпались по ее плечам. Она была торжественнее и серьезнее, чем в первый раз. Очевидно, все обдумала. У Андрея сложилось впечатление, что думала она не только о деле.
Радио было включено, и минут пятнадцать они слушали эстрадную программу и пили кофе с «Плиской».
– Мой муж настаивает, чтобы я пригласила адвоката из Софии, – мягко заговорила она, когда они уселись в кресла друг против друга, – но я не хочу. Мне кажется, я пользуюсь у вас доверием…
Это было сказано спокойно, без рисовки и ни к чему не обязывало, и Андрей снова почувствовал ее внутреннее сходство с Юлией. Сестра Бонева воспринимала вещи во всей их сложности. Он считал, что ей к лицу даже завитые волосы и дешевая губная помада. Такое в этом городе встречалось крайне редко…
На его вопросы она ответила неожиданно рассудительно и трезво. На мгновение Андрею показалось, что он разговаривает с человеком, который закончил юридический факультет, настолько скучными и одновременно исчерпывающими были ее ответы.
По глазам сестры Боневой читалось, что эта молодая, уверенная в своей красоте женщина отдает себе отчет в том, что находится в обществе молодого мужчины. Андрей, не стесняясь, наблюдал за ней и с удивлением отметил, что ее сходство с Юлией словно бы тает. Она была крупнее и выглядела более зрелой (особенно с завитыми волосами), нос был острее, а глаза не такие мягко-зеленые и удивленные. Но она явно обладала тем же качеством, что и Юлия: от нее исходило очарование. Это сходство застало его врасплох и поразило еще в тот раз, когда она вошла в контору.
Он пытался убедить себя, что не сестра Бонева включила ампулу в систему, в это время она искала аспирин, а потом ей надо было налить в стакан воды и отнести доктору Цочеву. Когда она вернулась к прибору, капли были отрегулированы…
Ответ на второй вопрос был весьма лаконичен и как будто осторожен. Сестра Бонева могла с уверенностью сказать, что в тот момент возле системы находилась и сестра Виргилия (по ее выражению: «любовница моего мужа»), и санитарка, и доктор Цочев, но конкретно не указывала на того, кто мог включить ампулу. Она ежедневно присутствует на двух-трех операциях, детали сливаются, и поневоле в сознании остается воспоминание о какой-то операции, не имеющей ни начала, ни конца.
То обстоятельство, что сестра Бонева отказывалась обвинить кого бы то ни было, почти полностью исключало ее невиновность. А факт отравления ребенка требовал, чтобы кто-то ответил за это, и этим «кем-то» продолжала оставаться сестра Бонева.
Андрей не пытался объяснить ей это – не имело смысла. Для него была важна уверенность, которой он проникся, уверенность и том, что она относительно невиновна.
Третий вопрос должен был вызвать немалое обоюдное смущение. Вот почему Андрей изумился, получив ясный, категорический ответ. Бонева не могла представить суду записку сестры Виргилии к мужу, так как в тот же день сожгла ее. Она почувствовала себя униженной… И потом, какой смысл хранить этот «грязный клочок»? Человек, потерявший собственное достоинство, по-разному выходит из положения: или мирится с этим и продолжает жить, обходясь без него, или уничтожает то, что отняло это чувство. Что касается мужа, то она уверена, он не засвидетельствовал бы перед судом своей связи с сестрой Виргилией, ибо труслив.
– Если вы были расстроены, отправляясь на операцию, – прервал ее Андрей, – то это – смягчающее вину обстоятельство, которое может иметь решающее значение. Ваша служебная характеристика безукоризненна, но именно в тот вечер вы дважды допустили ошибку. Сначала с новокаином, а потом с пирамидоном, который принесли вместо физиологического раствора, понимаете?
– Для моего мужа это не имеет никакого значения, – ответила она и закурила сигарету из его пачки.
– Даже если вам вынесут самый суровый приговор?
– Да, – просто подтвердила она, и оба одновременно улыбнулись. Она нервно поднялась и задернула красные шторы. Лишенная вечера комната, казалось, стала темнее и меньше.
– Вы просчитались, – медленно, но отчетливо произнесла сестра Бонева, – взявшись за это дело. Вас возненавидит весь город…
– Да ну?!
– Конечно. Какая разница, невиновна я или полувиновна?
– Вы разделяете вину с кем-то…
– Единственное, о ком я жалею, – это о мальчике. В больнице привыкаешь ко многому, но я знала ребенка… Андрей равнодушно выслушал ее фразы, свидетельствовавшие об угрызениях совести, которые ни в коей мере не были такими жгучими, как следовало ожидать. И это ему нравилось в ней. Он отлично понимал, что прежде всего человек должен уметь справиться с самим собой, а уж потом думать о других. Сестра Бонева была естественной. Юлия же не владела собой в полной мере и в аналогичном случае не выдержала бы угрызений совести. И это мысленное сопоставление вызвало в нем глухую боль.
– Чему вы улыбаетесь? – спросила сестра Бонева и быстро прикрыла колени, блестевшие в желтом свете.
И оба смутились, когда он неожиданно встал и пошел к дверям. Она настигла его в коридоре и протянула сигареты. Лишь сейчас он заметил, – что в ее ушах, словно капли воды, сверкали серьги из прозрачного стекла. Пятнышки света играли на ее шее, словно в уши были вдеты маленькие зеркальца.
– Ясно одно. И мне и вам нужно выиграть это дело…
– Да, – совершенно прозаично ответила она и наконец протянула руку. Он подождал, пока в доме стихнут ее шаги, и в его сознании всплыл образ Юлии…
Андрей открыл окно и смотрел, как на виноградные листья падает дождь. От города остался только двор тетушки Минки с безукоризненно вскопанными грядками, с вынутой из подвала огромной бочкой у входа и стуком фишек. Офицер запаса и дядюшка Киро играли в нарды в маленькой гостиной…
Желание высказаться, поговорить с кем-нибудь тяготило Андрея. Последнее время он постоянно испытывал такое чувство, будто у него что-то болит, будто он ходит по замкнутому кругу. Он не мог бесконечно, целыми вечерами перелистывать выпуски «Социалистического права». А если бы напился, то перед его глазами возникла бы Юлия. Бессмысленно было думать о ней. Он пытался убедить себя, что хочет защитить невинного человека, а против него восстает город, жаждущий возмездия. В то же время он понимал – если ребенок отравлен, то должен быть и виновный. Его честолюбие восставало против возмездия, необходимого людям, чтобы верить в добро. Несколько раз, переходя Главную, вымощенную грубой крупной брусчаткой, он слышал за своей спиной насмешки. Сестра Бонева понесет наказание – этого людям достаточно, тогда как ему прощения нет. Он тут «иностранец», никому непонятный ни своим серым костюмом, ни маленькими красивыми бакенбардами, ни странным нежеланием пробовать домашнее вино… Это были люди настолько же плохие, насколько и хорошие… И, возможно, именно это подогревало его честолюбие.
Андрей понимал, что кульминация дела – включение ампулы с пирамидоном. В материалах следствия, представленных в суд Живчиком, этот момент был упущен. Живчик нарисовал сравнительно полную картину фактической обстановки, но его убежденность в том, что сестра Бонева виновна, так довлела над ним, что он даже не дал себе труда подтвердить это показаниями свидетелей. При таком положении дел Андрей видел основную свою задачу в том, чтобы на судебном процессе нейтрализовать свидетелей.
Любопытными были показания санитарки, присутствовавшей на операции и допрошенной Живчиком.
После того как у мальчика начались судороги и всех охватила паника, она первая сообразила проверить, что же ему вводилось. «Я сразу же очень удивилась, потому что у физиологического раствора соленый вкус, а это чем-то отдавало…» Она обратила внимание доктора Цочева на содержимое ампулы, три четверти которого было перелито в кровь ребенка. Одновременно она утверждала (и это было исключительно важно), что сестра Бонева вряд ли могла включить пирамидон в систему, так как в это время стояла, низко нагнувшись, за вспомогательным столиком и, по ее мнению, или что-то искала, или поправляла чулок. Однако на вопрос, видела ли она, кто именно включил ампулу, ответила отрицательно.








