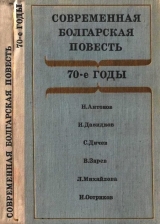
Текст книги "Современная болгарская повесть"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Владимир Зарев,Стефан Дичев,Иван Давидков
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
В воскресенье у нас был выходной, и мы все пошли помогать Василчо перебираться. А жена его испекла пирог, а мне подарила рубашку с длинными рукавами. Я не хотел брать, но она сказала, чтоб я не портил ей радость, и тогда я согласился. А остальным она подарила рубашки с короткими рукавами.
Помогать пришли: Цанко Петров, помощник мастера, Мариан Маринов и один шофер – братишка Басила. Он работает в монтажном районе, и ему разрешили на воскресенье взять „шкоду“, и я прошу не налагать за это взыскания ни на парня, ни на заведующего гаражом, потому что должны же люди при нужде помогать друг другу, а бензин, все мы слышали, Василчо хотел оплатить, но братишка ему говорит: „Нет, братец, за бензин плачу я, пусть будет вместо подарка на новоселье“.
По дороге все мы были очень веселы и все время шутили. Цанко Петров держал телевизор и спросил Василчо, как они в своей тесной комнате умудрялись смотреть программу. „Мы с кровати смотрели“, – ответил Василчо, и тогда Цанко намекнул насчет близнецов, потому что он у нас на слова малость невоздержан, но мы его терпим и привыкли, потому что внизу в руднике нужен такой человек, а соленые словечки для труда освежительны.
Дом у вокзала был весь завален вещами. Было воскресенье, и много народу в тот день переезжало. Когда я отпирал квартиру, у Басила даже руки тряслись. Открыл я и первый вошел внутрь. А как увидел эти белые стены и большие окна, говорю себе: „Эх, Филипп, а ведь это ты должен был здесь жить, и права жена, что тебя ругает“. Так вот точно и подумал, потому что душа человеческая, словно новый забой, и никогда не знаешь, где кончается чистый уголек, а откуда начинается мергель.
Теперь я хочу разъяснить следующее: названный выше Антон Чалыков упомянул перед органами власти, что мы были пьяны. Это неверно. Во время работы я пить никому не разрешаю, даже если это перевозка вещей. Прошу спросить у Цанко Петрова, была ли у него с собой ракия. И не взял ли я бутылку себе, сказав, что откроем мы ее вечером, когда все устроим?
Названный Антон Чалыков появился около двенадцати часов. Точного времени указать не могу, так как свои часы я оставил в пальто у Василчо. Появился он и сердито так спрашивает, кто нам дал право въезжать в его квартиру. Я велел ребятам молчать и спокойненько ему объяснил, что ключ был мне выдан лично, а если случилась какая ошибка, то я за это не отвечаю. Тогда названный Чалыков кинулся на меня и крикнул: „Ты кто такой, дядя?“ – „Ладно, а ты кто?“ – спрашиваю, потому что тоже начал понемногу нервничать. И как мне показалось, названный Антон Чалыков очень удивился, что мы его не знаем, и не только удивился, но и разозлился. Я говорю, давай разберемся по-человечески, и стал спрашивать, кто ему дал ключ. А он ответил, что это неважно и что квартира была для кого-то, кто отказался, и потому было решено отдать ее ему. Послушай, говорю, тот, кто отказался, это я и есть. Что ты теперь скажешь? Твое дело, отвечает, очистить квартиру. Тогда я спросил его, с какого он рудника, а названный Антон Чалыков ответил, что он не с рудника, а футболист из команды „Рудник“ и что с тех пор, как он согласился приехать в наш город, он столько видел бестолковых людей, что лучше бы у него отсохла рука, которой он подписал договор, согласившись бросить свою прекрасную прежнюю команду. Тогда Цанко Петров ему сказал: что-то ты уж больно легко их бросаешь.
Прошу иметь в виду, что до сих пор мне пришлось бить только моего старшего сына, когда он остался в девятом классе из-за дурных товарищей. Названный Антон Чалыков вызвал меня на это следующими словами: „Я, – говорит, – приехал сюда защищать спортивную честь города, а вы мне устраиваете оппозицию“. Я все еще молчал, но он сказал еще: „Защищать вашу шахтерскую честь, вахлаки“.
Я, когда рассержусь, делаюсь страшным и никто не может меня остановить. Когда будут выносить решение о наказании, прошу иметь в виду, что, как только я схватил футболиста за грудки, Цанко Петров хотел оттащить меня и два раз крикнул: „Не надо, бай Филипп, не надо!“
Полностью признаю, что с этого момента я очень громко кричал, но у меня уже было темно в глазах. Я сказал ему, этому маминому и папиному сыну: „Ты что ли, негодяй, будешь защищать мою шахтерскую честь, за которую я с двадцати лет землю рыл и еще буду рыть лет десять? А ты со вчерашнего дня до завтрашнего в нашем городе, и не стыдно ли тебе, холостяку, требовать две комнаты и кухню и разбивать семейное счастье шахтера?“ Тогда названный Антон Чалыков сказал мне: „Нечего меня учить уму-разуму“ – и пустил по матушке. Ну, тут я замахнулся. И когда будут определять наказание, прошу учесть, что и Мариан Маринов был против битья и даже попытался схватить меня за руку, но он еще молод и не смог меня удержать. А я нарочно ударил названного Антона Чалыкова раскрытой ладонью, потому как кулак у меня тяжелый и я не хотел наносить телесных повреждений, и, когда названный Чалыков выплюнул ползуба, я удивился и понял, что не очень точно рассчитал силу удара.
Я настаиваю, чтобы было выяснено, кто дал второй ключ Антону Чалыкову. И если этот человек считает, что поступил правильно, почему он больше не поднимает вопроса о квартире, а молчит.
Так как могут найтись люди, которые обвинят меня в том, что я не люблю спорт и футбол, то пусть будет известно, что и тоже болельщик „Рудника“ и мы ездили с Цанко на его машине в Пловдив и даже в Варну, когда наша команда там играла. Кроме того, мой сын тоже футболист и играет в команде энского подразделения пограничных войск.
В верности всего изложенного собственноручно подписываюсь
Филипп Николов Филев – мастер-проходчик».
– Много ошибок? – спросил меня Филипп на перемене.
– Ни одной, – сказала я, глядя ему прямо в глаза. – Я только вставила несколько пропущенных запятых.
14
Последние два урока я проводила контрольную работу в III «г» и попросила красивую математичку захватить мой журнал, чтобы лишний раз не спускаться в учительскую.
– О, ты многое упустила, – сказала она, вернувшись. – Веса Жикова пригласила нас всех на свадьбу. Потом они будут справлять еще одну, на селе, а сейчас только для нас. Ничего себе выдумка, скажу я тебе! Представляешь компанию – вся II «а» группа и мы во главе с директором! Удивляет меня эта женщина! Неужто она совершенно не думает о дистанции между собой и учащимися? Ведь это сильнейшее оружие педагога!
– А зачем педагогу непременно быть вооруженным? – добродушно спросил старый инженер, преподающий горные машины.
До сих пор он молча сидел рядом с нами на скамейке и жевал что-то, принесенное из дому. Ему, видно, не хотелось разворачивать сверток, и, потому, откусывая, он каждый раз прятал лицо в шуршащую газету.
Математичка молча повела красивыми глазами на него, потом на меня и пожала плечами, это, очевидно, означало: ничего не поделаешь – старость.
На свадьбу мы отправились вместе с Андреевой. Дверь нам открыла худенькая темноволосая девушка с белым перышком на блузке. Вешалка была загромождена кучей пальто, но кто-то предусмотрительно оставил свободными два первых крючка.
– Похоже, мы не опоздали, – засмеялась Андреева.
На ней было красивое платье из вишневого бархата, слегка попахивающее гардеробом.
– Подарок отдай ты, – попросила я.
Мы сообща купили новобрачным вазу из чешского стекла.
Услышав наши голоса, откуда-то выскочила Веса Жикова и, откинув свадебную фату, долго целовала нас в щеки.
В комнате за столом действительно уже сидела вся II «а» группа, но пирамиды бутербродов оставались еще нетронутыми.
Из преподавателей не пришел никто.
– Убить их готова! – отчаянно прошептала Андреева улыбаясь, потому что Веса смотрела прямо на нас.
И вдруг моя старая сослуживица поднялась, выпрямилась, словно какая-то сила расправила ее согнутые плечи.
– Ну, пора начинать! Я здесь самая старшая, так что ты, новобрачный, изволь меня слушаться. Наливай!
И под веселые взгляды присутствующих она одним духом выпила свой бокал, потом сама налила себе еще и снова выпила. Одна только я знала, зачем она это делает: ей нужна была смелость, чтобы подавить смущение и справиться с мучительной ролью, так неожиданно свалившейся на ее плечи.
– Чей это там аккордеон? Что за свадьба без музыки? – задиристо воскликнула она.
В ее честь аккордеонист заиграл вальс. С комком в горле смотрела я на милый, старомодный танец Андреевой. Смущенный жених не умел танцевать, беспрестанно ошибался и старался смехом компенсировать свои ошибки. А Веса каждый раз, услышав звонок, вздрагивала и, откинув фату, выскакивала в переднюю.
Нет, пусть после колебаний, пусть с опозданием, но товарищи мои не могут не прийти на эту свадьбу. Я всем сердцем чувствовала, как необходимо их присутствие старой Андреевой, Весе Жиковой, им самим. И мне.
Первым пришел инженер Харизанов, спокойный, с выступающим из-под пиджака пивным животиком. Его беременная жена поморщилась и сразу же попросила открыть окно.
Потом неловко пошла преподавательница химии, воротничок ее кружевной блузки вздрагивал на каждом шагу.
Пришли и оба электрика, друзья, в одинаковых серых костюмах, с одинаковыми клетчатыми галстуками.
Руки у Весы дрожали, когда она наполняла наши бокалы, и на скатерти уже темнели круглые винные пятна.
– Налей мне, – запыхавшись, попросила Андреева.
Я диву давалась, как она владела каждым своим движением.
А в прихожей счастливо и звонко продолжал заливаться звонок.
Разумеется, пришли не все. Не было и многих из тех, на кого я надеялась до последней минуты. Но зато совсем неожиданно явился старый инженер, преподающий горные машины. Я привыкла видеть его в неизменной полуспортивной куртке, и сейчас в своем официальном костюме старик выглядел стройным и помолодевшим. Он галантно поцеловал руку Жиковой, встав на цыпочки, похлопал жениха по плечу. Наконец-то Андреева нашла себе партнера для танго. Чтобы полюбоваться на них, молодежь отступила в сторонку. Полузакрыв глаза, старики бесшумно и красиво скользили по паркету, и фигуры танго, сложные и переплетающиеся, словно бы уводили их от нас к былому, нереальному миру их юности.
Я накинула чье-то пальто и вышла на балкон. На другой стороне улицы толстый мужчина и голосистая женщина в нейлоновом фартуке при свете фонаря мыли автомашину. Шланг тянулся из окна кухни, где у крана дежурил некий невидимый Пламенчо, которому мужчина бросал громкие флотские команды.
– Стоп воду! Дать воду!
Кто-то неслышно остановился рядом со мной.
– Вышли подышать?
Я обернулась. Это был наш старичок. В полумраке, словно лезвие ножа, белел краешек платочка в верхнем кармане его пиджака.
– Знаете, чем я хочу с вами поделиться? Все мы принесли Жиковой подарки, но каждый сам по себе. А ведь было бы лучше, если бы мы преподнесли ей что-нибудь сообща, от имени всего преподавательского коллектива.
Старик оживился, задвигал локтями, не вынимая рук из карманов.
– Я еще не вручил ей своего подарка, оставил в прихожей. Можно было бы его…
– А что это? – осторожно спросила я.
– Радиоприемник, – спокойно ответил он. – Настольный радиоприемник «Мелодия» в ореховом корпусе.
Он стоял, прислонившись к шершавой стене, и ждал моего ответа, а я не знала, что сказать, и только смотрела на его расплывающееся в сумраке лицо да сжимала холодные прутья решетки.
– Ну, я пойду, – обиженно проговорил старый инженер, и я осталась одна.
Сквозь стеклянную дверь балкона я видела, как он, раздвигая танцующих, пересек комнату и вскоре вернулся, неся перед собой продолговатую коробку, крест-накрест перевязанную бечевкой. Слов его я не слышала, но видела, как мои товарищи быстро и виновато переглянулись.
– Не удивляйся, – говорила мне Андреева, когда мы, возвращаясь, шли по опустевшей ночной площади. – Когда он вручал радиоприемник, ты, верно, представляла себе его спички. Правда?
Она подождала, пока я скажу «да», и продолжала:
– А теперь, увидев его снова за спичками, ты сможешь представить себе, как он преподносит свой подарок?
И, не дав мне времени ответить, переменила тему разговора. Наверное, за свою многолетнюю учительскую жизнь она поняла, что дольше всего мы помним именно те вопросы, на которые нам не удалось ответить.
У витрины часового магазина двое цыган накручивали поливальный шланг на огромную скрипящую катушку. Не разглядев в темноте возраста Андреевой, один из них, высокий, бросил нам вслед грубость.
– Вот так же было прошлой зимой, когда мы с дочкой шли из театра, – грустно проговорила Андреева.
Я была удивлена. О дочери я слышала впервые.
– Как, тебе еще никто не рассказал, что у меня есть замужняя дочь, которая живет в Праге? И что вот уже месяц, как я бабушка?
Но я уже плохо понимала ее слова. Наши окна на седьмом этаже были темны. Даже ложась спать, Михаил оставлял на кухне свет, потому что я как-то сказала, что, возвращаясь с работы, люблю издалека видеть свет в нашем окне.
Лифт застрял где-то между этажами. Я бегом взбежала по лестнице. Михаил еще не возвращался, я поняла это сразу, как только отперла дверь. На вешалке не было его ватника, не было и того влажного рудничного запаха, который пропитывал воздух прихожей.
Я попробовала проверять тетрадки, но все время прислушивалась, не щелкнет ли замок, и буквы прыгали у меня перед глазами. Взяла книгу… Наконец, вышла на балкон. Второй раз в эту ночь на тот же осенний холод, но сейчас я его не замечала. Лишь много времени спустя я спрятала руки в карманы и в левом нащупала гладкую головку ключа. Секретный польский ключ «лучник»… «Прости, что мы так долго жили в гостинице», – сказал мне тогда Михаил.
Часы на башне шахтоуправления пробили один раз. Час ночи или половина какого-нибудь другого часа. У подъезда остановился газик. Я знала его, по утрам он заезжал за Михаилом. Медленно отворилась дверца. На секунду я замерла при мысли, что из машины может выйти кто-нибудь другой… Вышел Михаил.
Не дай бог, чтобы с нашими близкими когда-нибудь случилось то, что приходит нам в голову в тягостные часы ожидания.
Я встретила его на лестнице. Распахнула испачканные полы его ватника, сунула руки под свитер и крепко обняла.
– В туннель прорвалась подпочвенная вода, – где-то высоко надо мной прошептал голос Михаила. – Я никак не мог тебя предупредить, что задержусь.
Я разрешила ему отвести меня наверх. Это потом я буду расспрашивать его об этой гадкой подпочвенной воде, выяснять, насколько она страшна и надолго ли задержит прокладку туннеля. Сейчас мне нужна была только его живая рука. И, чувствуя в горле горячую волну, я впервые с необычайной силой захотела, чтобы у нас с Михаилом был ребенок.
15
В вечернем техникуме самый трудный урок – пятый. Усталость застилает глаза. Я замечала, как, чтобы не заснуть, некоторые кусали себе изнутри щеки, другие щелкали пальцами, а один шофер из III «г» на пятом уроке то и дело выдергивал нитки из своего шарфа. Были и такие, что могли спать с открытыми глазами. А когда идет дождь, пятый урок становится настоящим мучением. Тогда я говорю в полный голос, почти кричу, – ведь мне нужно заглушить сон, дождь и водосточную трубу, журчащую под самым окном. Площадь, мокрая и скользкая, блестит в свете фонарей, изредка по ней пробегают пригнувшиеся фигуры. Бегут только в трех направлениях – к заводу, К шахте или к автобусной остановке.
Шел пятый урок в моей группе. Надо было спросить двоих. Я открыла журнал, и в комнате стало тихо, как на дне пещеры. В этот миг все ученики, даже если им по тридцать девять лет, испытывают одно и то же: страх забыть какую-нибудь дату, ненависть к преподавателю и надежду, что в группе все-таки тридцать человек. И тут вдруг включили отопление. Отвыкшие от своего жаркого ремесла, трубы заворчали, радиаторы зашумели, словно какие-то зеленые зверюшки, запахло масляной краской, которая сейчас вздувалась пузырями, а через некоторое время облезет, обнажив ржавый чугун.
Мне всегда грустно, когда включают отопление. Так и кажется – что-то в этом году уже кончилось и безвозвратно ушло.
Захотелось помолчать. Вот так, откинуться на спинку своего неудобного стула и помолчать. У нас, учителей, это что-то вроде болезни, учительский силикоз. Говоришь, говоришь, пока во рту у тебя не пересохнет, и больно даже сжать зубы. И наступает момент, когда тебе хочется только молчать, не говорить, не выслушивать вопросы. Молчать и молчать.
Не могла я никого спрашивать на этом пятом уроке. Я закрыла журнал, и группа радостно вздохнула – мужской вздох, пропитанный запахом табака и пива, выпитого за обедом. Я дала им классное сочинение. Тему я придумала, уже когда писала на доске: «Самый лучший человек из тех, кого я знаю».
Я почувствовала, что за спиной у меня что-то произошло. На спине у учителей, даже у совсем молодых, чуть ниже плеч появляются какие-то особые нервы, что-то среднее между зрительными и слуховыми. Старичок-инженер, преподающий горные машины, называет их «учительские очи». Подчеркнув написанное, я обернулась. Группа смотрела на меня, проснувшаяся и озадаченная.
Перед тем как начать писать, тридцать моих мужчин взяли с меня обещание: сочинения читать буду только я, а если директор возьмет их на проверку, зачеркнуть все фамилии и не ставить никаких отметок.
Мариан Маринов спросил, можно ли придумывать.
– Нет! – ответила я.
Я села за последнюю парту. У меня уже вошло в привычку во время письменных работ забираться туда и разглядывать головы сидящих впереди людей. Черные и начинающие седеть, расчесанные мокрым гребнем или просто пальцами, а на некоторых еще виден след резинки от очков электросварщика.
«Самый лучший человек из тех, кого я знаю…»
Издали слова на доске кажутся маленькими и словно написанными кем-то другим. Ну и тему я придумала, вне всякой программы! Только бы не нагрянул инспектор, вот будет идеальный повод для моего сокращения.
Авторучки молчали. Это очень тревожно, когда проходит десять минут, а ручки все еще не скрипят. Еще в начале года я отобрала у них химические карандаши и заставила купить авторучки. Не из преподавательского каприза – просто я хотела, чтобы мои взрослые ученики перестали так панически бояться ручек.
Юный монтер с забинтованным пальцем попросил разрешения не писать. Ему было всего восемнадцать, и, может быть, он еще не встретил самого хорошего человека в своей жизни.
Наконец ручки заработали. Я слушала их поскрипыванье и думала о подпочвенных водах в туннеле у Михаила.
Когда прозвенел звонок, только один вернул мне чистый лист. Одно только заглавие сверху, и все. В жизни своей не видела я более пустого листа, чем этот.
Вечером, ожидая, когда послышатся шаги Михаила, я прочла все сочинения.
Димитр Инджезов пять раз подчеркнул заглавие – видно, набирался смелости признаться: «Самый лучший человек из тех, кого я знаю, это моя жена…» Я вспомнила, как «разрушитель» подошел к кафедре красный от смущения и быстро сунул свой листок в середину стопки.
«Для меня самые лучшие люди двое, – писал своим мелким почерком Мариан Маринов, – первый – наш преподаватель физкультуры в Софии, а сейчас – горноспасатель Иван Дочев. Когда меня исключали, только преподаватель физкультуры…»
– и дальше сдержанными безукоризненными фразами, вроде бы рассказывая о других, мальчик изложил коротенькую историю своей нескладной жизни.
Филипп отдал мне работу последним. Написал он много, вырвав из тетради по алгебре двойной лист.
«Самого лучшего человека я встретил в своем родном селе Коневцы. Это был учитель Продан Калчев. После Девятого сентября стало ясно, что учитель Продан бродил по окрестным холмам не только в поисках римских древностей для школьного музея, но и носил хлеб партизанам и был у них кем-то вроде связного. Но этого никто не мог допустить даже в мыслях, потому что учитель Продан знал немецкий и два месяца служил переводчиком в немецкой части, которая стояла в нашем селе, и отец мой мне тогда говорил: „Филипп, сыночек, хорошо, что ты в классе у старого Петко, а не у этого подхалима“. Да и потом, верно, никто бы не узнал, чем занимался учитель Продан, если бы как-то на майские праздники не приехали к нам в село два генерала и не стали разыскивать учителя. Тогда-то все и вышло наружу.
А потом, когда организовался у нас кооператив, его выбрали секретарем парторганизации. Я был еще мальчишкой, но помню, что, если трудодни осенью случались добрые, отец нахваливал учителя Продана, а когда дела шли похуже, поносил, его всячески и повторял, что как бы там ни было, а с этим человеком не все чисто, раз уж он был толмачом у немцев.
Однажды весной учитель Продан задумал строить дом. До этого он снимал комнату у моей тетки, и с его мальчишками мы вместе ходили рубить ветки для шелковичных червей. За лето каменщики построили ему и второй этаж. Он нанял мастеров из города, и домик у него получился нарядный и аккуратный, не было в селе другого такого. Только подвели под крышу, как кто-то пустил слух, что балки для перекрытий учитель Продан потихоньку взял на хозяйственном дворе, и потому нанял пришлых мастеров, чтоб не стала известна его кража. Многие поверили этому, и отец мой тоже, а вслед за ним и я.
Учитель Продан целую неделю ходил как больной, а потом вызвал сельскую комиссию, чтоб поднялась к нему на чердак и посмотрела на балки. Ну, люди пошли, посмотрели все как следует и во всеуслышание заявили, что балки не сосновые, а буковые, каких никогда не было в кооперативе. Их продавали только в городе, на складе. Большинство сельчан успокоилось и замолчало, однако нашлись и такие, которым этого было мало. Опять пошел слух, что комиссия то ли не разглядела балки на чердаке, в темноте, то ли разглядела да решила это дело прикрыть, чтобы не пятнать власти. Тогда однажды в воскресенье учитель Продан поднялся на крышу с тесаком в руках и оттуда, сверху, как закричит на все соло: „Идите сюда! Все, кто хочет, идите!“ – и начал сбрасывать черепицу, пока балки не оголились. Собрался народ, кричат ему, чтоб перестал, но учитель никого не слушал. Сорвал первую балку, крикнул только: „Берегись!“ – и бух ее через ограду прямо на улицу. Кинулись мужики на крышу, и отец мой с ними, хотели остановить, но он замахнулся на них тесаком, те и отступились. Голова у него была не покрыта, я и сейчас помню, как развевались на ветру его волосы. Сказать, что он был не в себе, так нет! Только побледнел, как беленое полотно. Это даже и снизу было видно. Жена его плакала, и соседки увели ее, чтоб не смотрела, как рушится ее дом. Люди стояли вокруг и молчали, и было слышно, как трещат балки, когда тесак тащил из них гвозди! А потом, когда разобрал крышу совсем, сел учитель Продан на оголенный потолок, зажал обеими руками голову и заплакал. Много дней валялись те балки посреди улицы, и так ее загромоздили, что телеге не проехать. И ни одной не было среди них сосновой, все – буковые, из тех, что продаются только на городском складе.
С того дня учитель Продан Калчев для меня самый лучший человек на свете. Гордый человек и чистый!»
«Самый лучший человек для меня моя мать, – откровенно начал свое сочинение шахтер Иван Дочев. – Отец у нас любил выпить, и нас, пятерых, вырастила мама…»
Я видела их, этих матерей в, обшитых монистом странджанских безрукавках или в белых добруджанских платочках. Они шли по городским улицам, загоревшие на долгом пути, и в руках у них были корзинки с мокрыми от грушевого сока донцами. Наш дом стоял точно напротив холостяцкого общежития, и я не раз провожала туда матерей, приехавших на поиски своих оторвавшихся от пашни сынов. А сыновья, забывшие о том, когда приходят поезда, вскакивали со своих узких коек, услышав, как под окном чей-то мучительно знакомый голос спрашивает уборщицу, не здесь ли живет Атанас, высокий такой, красивый. Атанас из Елхова. А через некоторое время я видела из своего окна, как мать, подоткнув тяжелый мокрый сукман, развешивает на веревке рубашки всех четверых живущих в комнате парией, словно все они ее сыновья. Я представляла себе, Как она спит, прижавшись к твердому незнакомому плечу сына, и как все четверо в этот вечер стараются вернуться пораньше и говорят только о хорошем, словно и их матери тоже тут. А утром мать уезжает, как будто у нее только и было здесь дела, что постирать рубашки да запомнить твердое, уже незнакомое плечо.
«Самый лучший человек для меня – мама…» – написал Иван, и, верно, рука его надолго задержалась на этой строчке, потому что на странице остался след ладони.
Сочинение Стоилчо Антова уместилось на листке из блокнота. Ведомственного, с красным штемпелем на каждой странице: «Дирекция Первого стройрайона».
«Самый лучший человек для меня, – писал плотник, – это товарищ Коста Илиев, С товарищем Костой Илиевым мы вместе играли в детстве. Он не жалеет времени и сил, чтобы внести свой вклад в работу стройрайона. Помню, десять лет назад товарищ Илиев лично взобрался на трубу кирпичного завода и, привязавшись веревкой, написал „Слава Первому мая!“ Потом, когда он стал большим человеком, товарищ Илиев не отделился от нас и всегда, когда встречал меня, протягивал руку и спрашивал: „Как вы, как вы?“ В настоящее время товарищ Коста Илиев уехал передавать свой опыт африканским странам».
Рассмешило меня и начало сочинения Семо Влычкова.
«Однажды я был в длительной поездке, – писал шофер. – Возил я арматурное железо в Пазарджик и, вернувшись, пошел в душ. А у нас через душевую проходят трубы с ядовитым газом. Одна, видно, лопнула, и я, ничего не замечая, наглотался, да и свалился. Открываю глаза, вижу, лежу уже в раздевалке, а надо мной докторша, испуганная, даже не видит, что я голый. Кто меня первый нашел, кто вынес, до сих пор не знаю. Спросил докторшу, а она – один, говорит, из ваших, в синих брюках. А мы все в синих брюках. Ребят спрашиваю, а те только ухмыляются да докторшей поддразнивают, которая меня голого отхаживала, а кто вынес – не говорят. Сейчас, бывает, надо кого-нибудь отчитать, как-никак я бригадир, так уж стараюсь поосторожней. Может, это спаситель мой, как говорится, а я его обругаю.
Так что кто-то из моих ребят и есть для меня самый: лучший человек, только кто – не знаю.
Но еще раньше встретил я еще одного человека, самого лучшего – товарища Караджова. В 1947 году он работал в лесхозе над Чепеларе. Сейчас он пенсионер, живет в Пловдиве».
А парнишка, у которого в день, когда нашлась готовальня, появился над бровью пластырь, написал: «Хороших людей мало, но только каждый старается казаться хорошим».
Долго сидела я над этим листком. Перечитывала, и спрашивала себя, как же до сих пор жил этот мальчик, отчего так быстро и жестоко состарилась его душа? И мне вспомнились глубокие овраги под Галатой. Дед, у которого мы покупали арбузы, объяснил, что когда-то там текли тоненькие весенние ручейки, но в лесхозе не догадались вовремя засадить берега.
Михаил вернулся после полуночи. Я слышала, как он, пыхтя, снимал в прихожей тяжелые сапоги. Чтобы не будить меня, он просил оставлять ему в кухне ужин и обязательно сегодняшние газеты.
16
В техникуме ждали прибытия инспекторов…
Этих людей я боюсь еще со времен учебы в пловдивской гимназии. Я сидела на второй парте и помню, что на инспекторских уроках у учителя геологии дрожали руки, а молоденькая химичка непрерывно ковыряла ногтем мел, так что он сыпался на рукава наших черных халатиков.
Первыми появились инспекторы по математике и электрооборудованию. Учительская замерла. Чехлы на креслах, выстиранные по этому случаю, вместо уюта вносили напряженность и праздничную неловкость. Красивая математичка явилась в сиреневом габардиновом костюмчике и с высокой прической, укрепленной бесчисленным количеством шпилек и тонкой корочкой лака. Потом мы узнали, что урок у нее прошел отлично, только вначале она слегка смутилась, словно гастролирующее меццо-сопрано, как язвительно уточнил историк Тодоров.
А инспектора по болгарскому языку все не было…
За эти три дня суховатые и четкие советы Кирановой стали раздражать меня и казаться преднамеренно двусмысленными. Не было у меня сил и выслушивать успокаивающий дружеский шепот старой Андреевой. Я вбила себе в голову, что от протокола инспектора будет зависеть все. И моя судьба тоже, особенно если учесть предстоящее в техникуме сокращение.
Я и сейчас думаю, что, пожалуй, было бы лучше, если бы первый инспекторский визит на урок молодого учителя был внезапным, безо всякого предупреждения. По крайней мере учителю не останется времени на страх и всякие глупости.
Вот именно, глупости. Как-то ночью, не в силах уснуть, я вдруг спросила себя, а что если я хорошенько прорепетирую в моей группе какой-нибудь урок, а на следующий вечер преспокойно повторю его в присутствии инспектора. Я даже представила себе листочки с готовыми ответами на вопросы, которые я бы заранее раздала ученикам. Все было легко и просто, я перевела дух и удивилась, почему мне раньше не пришла в голову эта мысль.
Михаил спал, и я расстроилась, что некому рассказать о моем открытии. Да, так я и сделаю. Напишу ответы и завтра же раздам их – Филиппу, Семо Влычкову, Мариану, а потом… Да, с какими глазами приду я потом к себе в группу? Все я обдумала, все до мельчайших подробностей, только не это – как я потом приду к себе в группу под взгляды тридцати человек?..
Хорошо, что Михаил уже спал.
Инспектор по болгарскому языку приехала в четверг. Я представляла себе сердитую седую особу с пронзительным взглядом и была несколько ошарашена, когда директор подвел ко мне подвижную улыбающуюся женщину в водолазке и темных толстых очках.
– Товарищ Чавдарова, – официально представил ее директор.
– Очень приятно, – ответила я. Вообще-то я стараюсь не употреблять эту фразу, но сейчас я произнесла ее, отчетливо сознавая, что уже в эту первую секунду нашего знакомства я вполне искренна. Группу я не предупреждала, хотела, чтобы по крайней мере учащиеся не дрожали раньше времени. Но кто-то все же принес в класс эту тревожную весть. Когда мы вошли, вся группа лихорадочно листала учебники, а доска светилась, старательно, по-ефрейторски надраенная. Инспекторша по-свойски уселась на последнюю парту и улыбнулась мне оттуда.
Первым я вызвала Филиппа. Ах, если бы всегда, пока я буду учителем, в моем классе был хоть один такой Филипп. Спокойный и внешне чуть медлительный Филипп, который, отвечая, сплетает перед грудью пальцы и взвешивает каждое слово, прежде чем его произнести.
Я поставила ему шестерку и вопросительно взглянула на последнюю парту. Наверное, вот так же после каждого исполненного произведения посматривает на своего профессора пианистка, дающая первый самостоятельный концерт. Инспекторша одобрительно кивнула.








