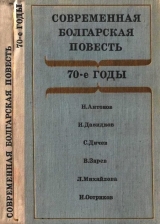
Текст книги "Современная болгарская повесть"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Владимир Зарев,Стефан Дичев,Иван Давидков
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
В сумерках маячили патрульные тройки – они завладевали городом.
«Ну уж сегодня вы меня не увидите», – с каким-то озорным злорадством подумал Сираков.
Он волновался, когда протянул палец к звоночку желтого двухэтажного дома. За дверью он услышал приглушенную музыку, и рука на миг задержалась. Играл патефон, и почему-то в сознании Сиракова промелькнуло воспоминание о «жур фиксе» в Варне той далекой весной, когда Христина сидела у патефона… Музыка кончилась, и игла царапала пластинку. Кто-то громко сказал:
– Фройлейн Христина, патефон, пожалуйста!
Сираков прижался ухом к двери.
Не голос ли это Кюнеке, пьяного Кюнеке, если допустить, что этот самовлюбленный человек мог напиться? И почему он сам не подойдет к патефону? Почему-то не может…
Сираков ощутил, как ноги его становятся ватными. Возникло чувство, словно у человека, проигравшего в рулетку все, после того как шарик перестал подскакивать, и жизнь вертящегося пестрого колеса подошла к концу, и колесо замерло там, где ему было указано…
Женщина замурлыкала что-то и, наверное, подошла к патефону. Игла не попадала на пластинку, и легкомысленный смех, которым сопровождала женщина эту свою неловкость, был ему неприятен.
На какой-то миг Сираков испытал желание ворваться в дом, совершить какую-нибудь дикость, разоблачить их и оставить, замерших на месте от стыда и удивления… Но зачем? И какая от этого польза? Впрочем, разве не было очевидно еще в первый вечер, что она – любовница Кюнеке? Наивно было бы считать, что с появлением Сиракова она бросит все и всех, чтобы принадлежать только ему…
«О, какое падение… потаскуха! – думал он. – Ее интересовала только бутылка рома… Все остальное было позой, гнусной позой!»
Он постоял еще немного, пока не понял, как нелепо выглядел он здесь, как был смешон, – прижавшийся ухом к двери, – и пошел.
Машинально брел он по улице, не зная куда, старался не думать о Христине, но думал только о ней, о том, что белье, которое было на ней два вечера назад, должно быть, куплено кем-то вроде Кюнеке…
Он шел, пока первый патруль не заступил ему дорогу. Сираков показал пропуск, соображая, куда же направиться дальше.
Кто-то ему говорил, что знаменитая до войны корчма Хризопулоса открыта и сейчас, что там даже видели Роземиша…
Хризопулос… Хорошо…
Спустившись на две ступеньки ниже тротуара, он толкнул ногой дверь – и ему открылось низкое, продымленное помещение, шумное, полное людей. Оркестр, состоявший из скрипки, гитары, цимбал и флейты, наигрывал греческую песню. В дымной мгле плавали странные, искривленные лица. Все походило на сон.
Потолок поддерживался толстыми деревянными колоннами, и Сираков прислонился к одной из них.
В мутном чаду он различил четырех танцующих оборванцев. Зеваки, стоявшие кругом, почти закрывали их, а заодно и стол, за которым сидел… Роземиш. Роземиш был в форме, толстая шея перетянута, как колбаса; он сидел верхом на стуле, перед ним тарелка с белым хлебом. Пухлые пальцы беззвучно барабанили в такт музыке по ломтикам хлеба, на которые время от времени невольно поглядывали танцоры.
Что это была за пантомима?
Оркестр перестал играть, уставшие танцоры пошли на свои места. Роземиш каждому дал по куску. Они с жадностью принялись за хлеб. И только один завернул свою долю в платок и бережно положил в карман.
– Я хочу танцевать еще, господин… – сказал он на ломаном немецком языке. – Я знаю еще танц, красивый танц…
В это мгновенье взгляды Роземиша и Сиракова встретились. Ирония была написана на лице капитана, прислонившегося к столбу. Как ни странно, Роземиш жестом пригласил его к себе и даже подтащил стул, когда Сираков, с усилием раздвинув толпу, вошел в круг. Минуту-другую Роземиш старался показать, Что ему тяжело из-за происшествия с бочками и позора с протоколом, но он сразу же забыл обо всем при виде бутылки, с которой Сираков снял газету. Более того, Роземиш похвалил напиток и выразительно намекнул, что с удовольствием хлебнет. Он, который не пил и не умел пить!
«Труслив, но сговорчив», – отметил по привычке Сираков.
Он налил в стакан Роземишу, налил себе и одним духом выпил. Жидкость остро обожгла, слабостью растекаясь по телу, и помещение, наполненное шумом и дымом, вдруг стало удаляться, растворяться. Между поредевшими зеваками возникло усатое лицо Хризопулоса, стоящего за стойкой. Грек смотрел на Сиракова с деланным безразличием подстерегающего кота.
– Я знаю танц… – умоляюще напомнил о себе танцор.
– Что ж, посмотрим! – великодушно разрешил Роземиш.
У него еще оставались два ломтика хлеба.
Оборванец подал знак музыкантам, порывисто воздел руки и согнул их в кистях. Теперь он смотрел на пальцы своих босых ног, словно готовился перескочить невидимое препятствие. Его ветхая рубаха, поднявшись на плечах, оголила худые бока. Оркестр заиграл, и танцор начал подпрыгивать на месте…
– Дивный напиток, – заключил Роземиш, осторожно отпив из стакана.
Однако Сираков не счел нужным заметить эту любезность. Его охватило желание пить, напиться, и он залпом осушил второй стакан.
До его слуха как бы издали долетало досадное, назойливое бормотание Роземиша:
– …признаюсь вам, капитан… искусство… исключая еду и напитки… это удовольствие из удовольствий… пластика… настоящее, полное удовлетворение личности… глубоко переживая… пища для души… возвышенно… никогда не следует забывать об искусстве… но так ли?
После этого он минуты две с видом знатока наблюдал подпрыгивания измученного танцора. Ребра несчастного ходили ходуном под драной рубахой, он дышал открытым ртом, как рыба, вытащенная из воды, и в выражении его лица проступала не только усталость, но и испуг.
Перестав плясать, он схватился обеими руками за грудь.
– Этот танц нихт гут[19], – сказал Роземиш, нарочно коверкая слова, чтобы его все услышали и поняли, как тонко он разбирается в таких вещах. Танцор виновато улыбался. По лицу его было видно, что он голоден и устал.
– Маленькие дети, господин… – пробормотал он.
– Оправдания!.. Вы слышите, комендант! Эти люди всегда оправдываются. Они постоянно хитрят, они психологически опасны.
– Чем вы занимаетесь? – быстро по-гречески спросил танцора Сираков, держа в руке стакан.
– Я? Был учителем. Этим и занимался, – ответил танцор таким тоном, будто речь шла о чем-то неприятном.
Сираков плеснул остаток рома в рот.
– Для учителя, – вмешался Роземиш, – этот танец должен быть лучше. Бессер! Филь бессер![20]
– Хватит, Роземиш! – оборвал его Сираков. – Это не танцор, это голодный человек!
Роземиш обернулся, изумленный не столько словами Сиракова, сколько необычно громким голосом, которым они были сказаны.
– Правильно, – однако согласился он. – Но среди них есть и таланты! Хлеб ободряюще действует на дарование. Если вы читали, все великие музыканты были бедными и голодными, и то, что они создали, они создали благодаря чьему-то высокому покровительству – благородных графов, баронов и прочих высоких лиц.
И неизвестно зачем добавил, что сам он перед войной конструировал детские игрушки, имел патент, за который один инженер в Вуппертале предложил ему весьма крупную сумму и сотрудничество.
– К черту ваши игрушки, Роземиш! – мрачно произнес Сираков, усаживаясь поудобнее. Положив локти на стол, он поднес ко рту стакан.
Хитрая усатая физиономия Хризопулоса за стойкой раздражала его так же, как и круглое, словно гладко выбритое, а в действительности лишенное растительности лицо Роземиша.
Немец по-своему выразил обиду:
– В Баварии меня называли Розе-мих – и это было правильно.
Внезапно Сираков почувствовал, что его охватывает волна безудержного, истерического смеха, и он захохотал:
– Ха-ха-ха! Ро-зе-мих! Мих!
Он сознавал неуместность и беспричинность этого смеха, но был не в состоянии сдержать его.
– О-о! – Роземиш отодвинулся в сторону, он рассердился.
– От вас ожидают гонорар, ценитель пластики! – резко оборвав смех, зло сказал Сираков, кивнув на учителя.
Роземиш отдал два ломтика греку и опять отодвинулся.
– Никто не просит ваших советов, – глянув исподлобья поверх круглых очков, сказал он.
– Хватит! – рявкнул Сираков. – Знаю я вам цену!
– О-о! – вытаращился Роземиш. – Я пригласил вас с добрым намерением, а не для того, чтобы слушать упреки… Если моряки не могут понимать друг друга…
– Ха-ха-ха! – Смех снова обуял Сиракова. Он наклонился к Роземишу, тот с ужасом отпрянул, словно его хотели коснуться чем-то мерзким. – Мы моряки? Кто это «мы»? Вы, что ли, моряк? Да вы и плавать-то не умеете! Вы не можете прямо стоять на палубе даже в штиль! Какой вы моряк! Вы… вы… недоразумение!
Он поднялся и, словно для того, чтобы отбросить от себя все, что его раздражало, неуклюже взмахнул рукой, и вместе со скатертью на пол со звоном полетели стаканы, бутылки, стол перевернулся.
Подбежал Хризопулос, юркий, как крыса, в белом фартуке до полу, завязанном на пояснице. Он запричитал, всплескивая своими волосатыми руками.
Сираков пренебрежительно и с недоумением смотрел на весь этот хаос, затем, опустив руку в карман, швырнул в лицо Хризопулосу пачку банкнотов, которую вот уже несколько дней носил с собой. Деньги разлетелись, и Хризопулос ловко стал собирать их.
Сираков перешагнул через него, покачнулся, но устоял и направился к выходу.
На улице он опьянел сильнее, ему захотелось пить еще.
Он пошел на корабль.
Трижды пришлось ему показывать свой пропуск, который он держал в руке и с пьяной бесшабашностью совал прямо в лицо невозмутимым патрулям.
У себя в каюте он зажег свечу, смахнул книги с койки и, присев на нее, снова стал пить.
Он заснул с пустым стаканом в руке: пальцы его разжались, стакан упал и свалил свечу на одеяло…
Проснулся он внезапно и увидел над собой свирепое лицо Шульца, плавающее в едком дыму. Немец потащил его к дверям, где стояли два солдата с фонарями. Сираков вытолкнул костлявого артиллериста из каюты и спустил защелку замка.
– Саботаж! – Шульц бил кулаками в дверь. – Поджог каюты, над которой находятся снаряды! Вам это так не пройдет.
«Произвольная цитата из правил внутреннего распорядка», – сообразил Сираков, успевший протрезветь, и почувствовал, как его опять охватывает беспричинное веселье, видимо потому, что случилось нечто непоправимое.
Он встал у открытого иллюминатора и вдохнул всей грудью.
«На этом игра для меня закончилась… Тем лучше».
Но и сейчас, пытаясь шутить, он ощущал и в себе, и вокруг себя пустоту, чувствовал: ничто уже не связывает его с миром и ему незачем жить…
10
Из всех близких у Сиракова остался только отец – торговец мелким скобяным товаром в Ямболе, строгий, патриархальный и набожный. Сиракову никогда не нравилось бывать в лавке у отца, а позже, когда он поступил в морское училище и надел щегольскую форму, сознание того, что у него обыкновенный, ничем не примечательный отец, мешал ему чувствовать себя равным среди товарищей, большинство из которых были сыновьями офицеров. Они красиво, с каким-то преднамеренным превосходством говорили об отечестве, престоле, чести и прочем…
В училище многие курсанты выдавали себя не за тех, кем были на самом деле, намекали, что ждут крупного наследства и их решение бороздить моря должно считать не чем иным, как прихотью. Все мнили себя будущими героями и старались, чтобы так или иначе это было признано и другими, цинично рассказывали о любовных похождениях, измывались над поваром, иронизировали по поводу меню; на мужских вечеринках в училище сочиняли фривольные тексты на известные мелодии. Там бывало шумно, много крику, много «Господа, позвольте, я скажу!». Насмехались над всеми, кто не мог отплатить им тем же, и в то же время подлизывались к начальству.
Сираков не умел сочинять таких песенок, после воскресного отпуска возвращался без забавного приключения, как это было с другими, и потому был неинтересен для соучеников.
По утрам, когда занимались греблей, он не воображал, как другие, что это настоящее мореплавание, и не пел до хрипоты: «На каждом причале – девчонка, у пристани каждой – любовь?»
И в занятиях был таким жег последовательным, трезвым, старался понять суть предмета и не прикрывал незнание воодушевленными сказками о будущих подвигах, которые были призваны оправдать сегодняшнюю неуспеваемость.
Удивительно, что гонор, неизлечимая болезнь каждого выпуска, совмещался с дичайшей грубостью, и те, кто считал себя будущими Куками и Магелланами, на общих основаниях мыли клозеты, переписывали в наказание дубовые казарменные мудрости, внушаемые начальством.
Сираков также не избежал общей участи. Как-то старший по выпуску, Василев, имевший на одну нашивку больше, чем у Сиракова, обратился к нему; Сираков отдал честь, произнеся положенное: «Слушаюсь, господин юнкер!»
– Не «слушаюсь», а «Слушаюсь, господин юнкер!»
– Так точно, я сказал именно так!
– Что? Вы еще спорите? Напишите тысячу раз: «При разговоре со старшим не спорить, а беспрекословно исполнять приказание».
Всю ночь, пока другие спали, Сираков писал в дежурной комнате – и все-таки к сроку не уложился. Наказание ему было удесятерено. И он должен был не спать несколько ночей, писать несколькими карандашами, связанными вместе, как это практиковалось в последнее время.
Василева ненавидели все, многие клялись люто отомстить ему, а пока ловили блох в своих постелях и пускали в его, сунули живую мышь ему в сапог… Вражда закончилась, когда Василев, гоняя на мотоцикле, попал в катастрофу, покалечился и оставил училище…
В течение восьми месяцев Сираков был стажером на французском торгово-пассажирском судне «Фелисите» – среди веселых и жизнерадостных помощников капитана, интриговавших между собой, но к нему, иностранцу, относившихся дружелюбно, так как он не был им конкурентом в карьере.
Капитан корабля – замкнутый, сдержанный старик с проницательными серыми глазами и сеткой склеротических жилок на продолговатом аристократическом лице – жил своей таинственной жизнью. В каюте он ел, читал книги и писал дневник. Всеобщее почитание превратило его в бога. Когда он появлялся на мостике в плоской фуражке и полной форме, все замирали на местах; казалось, даже корабль чувствовал, что капитан на посту.
– Друг мой, – сказал однажды старик Сиракову, – вы – практикант, а практикант уверен, что просто совершает экскурсию по морю, он еще не навигатор и не чувствует всей ответственности этого звания. Вы не похожи на этот универсальный вид мореплавателя.
Сираков покраснел от этой похвалы и не смог даже вымолвить в ответ: «Покорно вас благодарю». Краснел он и позже, когда новые приятели поздравляли его, расценивая похвалу старика как великую награду.
Потом, уже будучи командиром корабля, Сираков старался подражать капитану «Фелисите» – авторитет, уважение к званию были хорошими вещами.
Были хорошими вещами – прежде. Теперь именно из-за них Сираков оказался чужим и вся его жизнь, окруженная авторитетом и уважением, смешанным со страхом, становилась бессмысленной. Кому он нужен? Какую пользу прежде всего для самого себя извлек он из этого сознательного, ревнивого отдаления на высоту капитанского мостика? Ждет ли его кто? Что он будет делать, когда вернется в Болгарию, особенно после того как палубы станут недоступными для него? Способен ли он на что-нибудь, кроме командования? И что значит командовать? Ронять короткие повелительные словечки, на которые другие откликаются усиленным старанием? Разве возможность командовать – добродетель, достоинство, личное качество, которое само по себе возвышает тебя над другими?
Сейчас, осознав, что его лишат этой возможности, он вдруг испугался той пустоты и незащищенности, которую почувствовал в себе.
В иллюминатор он видел море, ленивое, блестящее на солнце, причал, каменной стеной отделяющий пристань, чаек, кружившихся с глупым куриным криком… О, до чего же все это было бессмысленно и печально!
…Около восьми часов кто-то осторожно постучал в дверь: вестовой Василев принес завтрак. В характере стука Сираков уловил перемену: все знают о происшествии, ожидают неприятных для Сиракова новостей; в остатке привязанности таких людей, как вестовой, чувствуется нерешительность, смешанная с укором…
– Позже! – сердито откликнулся Сираков.
– Есть, господин капитан! Позже! – Василев ответил бодро и угодливо, как всегда, только потому, что Сираков придал своему голосу обычную властность, без намека на то, что с ним случилось что-то неблагополучное.
Затем постучал Роземиш.
– Это я, господин комендант. Фридхоф Роземиш.
В исключительных случаях Роземиш представлялся таким образом. Сираков притих от удивления.
– Алло, господин комендант? Вы слышите меня?
– Да, в чем дело?
– Вас приглашают в военную комендатуру в 14 часов к полковнику Краусу… Господин комендант, в 14 часов, полковник Краус…
Роземиш помедлил: он ждал ответа Сиракова, но, не получив его, осторожно удалился.
Что означало приглашение, в комендатуру? Кто этот Краус? Если судить по тону Роземиша, речь шла не о следствии или наказании, а о чем-то другом… Впрочем, какое это теперь имело значение?
Перед обедом Сираков побрился, медленно прошел по шлюпочной палубе к трапу, отметив про себя, что все бывшие на палубе с молчаливым неодобрением наблюдают за ним…
Не только при орудиях – и у трапа стояла усиленная немецкая охрана.
Это новшество, как током, пронизало Сиракова.
В немецкой комендатуре Сиракова препроводили к хмурому полковнику; по-видимому, ему перевалило за шестьдесят, у него было продолговатое лицо, водянистые глаза с мешочками. Торопливо и равнодушно поздоровавшись за руку с Сираковым, он принялся прохаживаться взад и вперед по кабинету.
– Садитесь, прошу, – сказал он, задержавшись перед Сираковым. – Не люблю, когда передо мной стоят… Меня зовут Готхольд Гофман фон Краус… Разумеется, мое имя вряд ли говорит вам что-нибудь… Вы очень молоды для того, чтобы знать подробности первой мировой войны. Моей войны!.. Но это особый вопрос… Сейчас у нас другая задача…
– Готов ко всему, – с достоинством произнес Сираков. – И уже решил…
– Вы уже решили? Что вы решили?
И, не ожидая ответа, полковник продолжил, отходя от Сиракова:
– Такие вещи никто не может решать сам, господин комендант! Никто! И в этом их отличие от многих других!
Затем он долго, назидательным тоном говорил о днях высшей проверки, которые провидение ниспослало миру, чтобы в испытаниях определить достойнейшую победы расу… Первая мировая война по сравнению с настоящей была маленькой репетицией кровопускания, потому что сейчас речь идет о тотальном оздоровлении организма человечества… В лице таких, как Сираков, немецкая нация видит ценных сотрудников, что и подтверждено железным крестом, которым господин комендант награжден…
– Прошу говорить прямо, не будем терять времени, – сказал Сираков, которому стало не по себе от этих подробностей: он не мог угадать, что за ними последует.
– И отлично! – Полковник остановился перед Сираковым. – И отлично, сударь мой! Я предложу вам… Как вы думаете, что я вам предложу?.. Я предлагаю вам вернуться на корабль – и все будет, как прежде… Прошу вас, не возражайте, я знаю, вас смущает осуждение, которое вы встретите, но для чего вам дана командирская власть, а? И пистолет?
«Что еще за ход?» – Сираков был озадачен.
– И я прошу вас, – Краус насупился и двинулся снова по кабинету, – навести строжайший порядок, приличествующий ответственному времени и задаче, которая на вас возлагается…
И он кратко, явно с неохотой, не желая, чтобы ему задавали вопросы, уточнил, в чем состоит задача: «Хемус» отплывает в Волос[21], где Сиракова знакомят с курсом перехода и он своевременно присоединяется к другим торговым судам, конвоируемым миноносцами.
– Вы предлагаете мне выйти без охраны? Отсюда, где экипаж ожидает смены?
Полковник равнодушно выслушал это невольно вырвавшееся у Сиракова восклицание. Он сумел все-таки показать, что отделяет Сиракова от экипажа, который находится в его подчинении.
– Ожидания моряков, – сказал полковник, – сентиментальны, безответственны… глупости… вот что такое эти ожидания сейчас!
Он жестом повелителя поднял костлявую руку, предотвращая возражения Сиракова.
– За корабль отвечаете вы, а не те, кому вы приказываете! Я даже не имею в виду то обстоятельство, что этот пресловутый экипаж не укомплектовало болгарское пароходство. Я имею в виду следующее: корабль в полной исправности бездействует столько дней… Как вам представляется подобная роскошь сейчас, когда ни одному орудию, ни одной винтовке не разрешается уклоняться от борьбы?! Итак, ваш корабль свободен от груза… так же, как и от неприятностей, связанных с ним. Мне все известно, не волнуйтесь!.. Впрочем, я передаю вам приказ, а, как вы знаете, приказы не обсуждаются. Они исполняются… Лично вы, разумеется, отдаете себе отчет в том, что пустой корабль не слишком соблазнительная добыча для подводных лодок… Принимайтесь за дело! Немецкое командование на корабле уведомлено, оно будет оказывать вам всяческое содействие, как это было и до сих пор… Желаю вам – так принято, не правда ли, в подобных случаях… желаю вам счастливого плавания!
Он важно напыжился, давая понять, что разговор окончен, и протянул Сиракову жесткую, как кость, руку.
– Отплытие сегодня, в 18 часов, – добавил он.
11
Каким обреченным показался Сиракову «Хемус» в этот жаркий полдень! Действительно, было что-то невыразимо печальное в этом корабле, какая-то безысходность! Как жалок был он с этими противоминными намордниками на баке, с этими вздыбившимися стрелами подъемных кранов, похожими на руки, воздетые в мольбе… Ржавый, прокопченный, громыхающий…
«Когда я сообщу об отходе, ненависть ко мне станет безграничной!»
Впрочем, о ненависти говорило все; находившиеся на палубе не ожидали, что он вернется, и обсуждали происшествие и вызов Сиракова в комендатуру. Чувство смутной вины и стыда, с которым Сираков час назад покинул корабль, сейчас уступило место ощущению власти над этими людьми, которых он может заставить подчиниться, замолчать, наказав за их злорадство…
Сираков видел, что Люлюшев и Теохари тоже на палубе, через вестового Василева он вызвал их к себе в каюту.
Каюта была в идеальном порядке, обгоревшее одеяло заменено новым.
Сираков снял китель и был в одной рубашке, когда вошли Люлюшев и Теохари.
На мгновенье Сираков как бы перевоплотился в полковника Крауса, а этих двух представил в своем собственном положении, в котором находился всею час назад; ему даже захотелось начать разговор тем же образом: «Как вы думаете, что я вам предложу?» Но сейчас было не до шуток.
– Корабль приготовить к отплытию, – резко, как команду, произнес Сираков, не глядя на Теохари и Люлюшева.
Последовало молчание. «Подобного приказа они не ожидали», – подумал Сираков. Неизвестно почему, их молчаливое изумление понравилось ему.
Наконец Люлюшев спросил, когда сниматься.
– Сегодня, в 18 часов.
– Почему? – крикнул Теохари. – Мы здесь ждем смены! Мы отслужили свой срок! Как мы пойдем? Даже паршивого миноносца не осталось у причала, ушел…
– Сначала пойдем без охраны, – равнодушно ответил Сираков… Он сознавал, что говорит с Теохари, как Краус с ним в комендатуре. – Без миноносцев!.. Идите и подготовьте корабль к отплытию!
Они вышли.
Сираков представил себе: сейчас Теохари бросит новость, как бомбу. «Возмутятся, но подчинятся. Такова психология масс. Половина ненависти израсходуется в ругани, другая половина развеется в пути… А если не развеется?»
Теперь он вспомнил о немецких артиллеристах: эта усиленная – охрана не была случайностью. И к лучшему!
Он надел синий китель с золотыми нашивками и вышел из каюты.
Сердитый голос Теохари раздавался по палубе:
– Все здесь? Кого нет? Где Мишок? Спиридон? Опять напились, сволочи!.. Найти… Дичо, тащи их сюда, чтоб им опротивела и выпивка и жизнь!
«Возмущаются, негодуют, но выполняют приказ», – с удовольствием отметил Сираков.
…Все были заняты делом. В работе чувствовалось какое-то недоумение, неверие, даже потрясение, однако все делалось как подобает. Стрелы подъемных кранов одна за другой легли горизонтально, закрепленные по концам. Над каждым складом моряки натягивали брезентовые навесы.
Жельо крепил уже натянутый брезент деревянными клиньями. Сираков остановился около плотника. Наблюдая, как наклоняется сильное тело, Сираков остро почувствовал разницу между собой и такими, как плотник. Грубые, в ссадинах руки Жельо отличались от изнеженных, с золотистыми волосками на тыльной части рук Сиракова. Плотник не вылезал из залатанной и грязной одежды, тогда как брюки Сиракова стараниями вестового Василева постоянно были со складкой. Однако нечто иное казалось сейчас важнее Сиракову: плотник злился, потому что не хотел плыть и считал этот рейс несправедливым, а Сираков примирился и, как всегда при отплытии, надел синюю форму. Почему плотник был против отплытия? Из страха? Нет. Он надеялся на лучшее будущее и не хотел рисковать, тогда как Сиракову все уже было безразлично.
Молчаливое присутствие Сиракова надоело Жельо, и он прекратил работу.
– Бью их, господин капитан, – зло проворчал он. – По голове бью, чтоб у них ума прибавилось!
– Это ты о чем? – спросил Сираков спокойно, но о неодобрением.
– Говори, не говори – все одно. Лес рубят – щепки летят…
Жельо оперся о ручку молота, вперив свой горящий глаз в Сиракова.
– Не нравятся мне эти сказки, – предупредил капитан.
– Так вышло, не спрашивают, нравится или нет… Не в лавочке – выбирай да кочевряжься. А если прикинуть, что получается? Есть такая сказка о глиняном кувшине, что пошел за водой… Второй раз «Хемус» в пути…
И он опять замахал молотом. Вбивал клинья по-своему: один сильный удар, два – послабее…
Сираков отошел к клетке с быком. Скотина, качнувшись, нехотя подняла зад и, постояв на коленях, оперлась на передние ноги, в налитых кровью глазах были ненависть и страх. Сиракову вспомнилось, что золотая медаль, которой этот бык был награжден на какой-то выставке, лежит в ящике его стола рядом с железным крестом и пистолетом…
Сираков медленно направился к шлюпочной палубе и еще по пути услышал, как вездесущий Паско говорил быку:
– Не нравится матросить. Ну, что ты… Коли мы не можем от этого избавиться, то тебе и подавно! Тебе бы сейчас телочку!
Бык фыркнул.
– Эй, бай Жельо, понимает, кажись, меня бычок-то! Понимает! До ушей расплывается, чуть услышит о телочке. Надо же!
– Салага, – снисходительно протянул Жельо.
«Святая простота», – по-своему истолковал эту сцену Сираков, поднимаясь по железному трапу. Здесь были Шульц и Роземиш. Шульц то ли почувствовал какую-то неловкость, то ли не мог скрыть свою неприязнь к Сиракову, но, не дождавшись, пока капитан подойдет, ушел в каюту. Роземиш, наоборот, излучал дружелюбие, его бисерные глазки стали похожими на блестящие шарики.
– Хорошая погода, – произнес он угодливо. И добавил, идя рядом с Сираковым: – Жарко… очень жарко… Оживление перед дорогой. И конечно (он кивнул вниз, на матросов), подтрунивают друг над другом. Есть глубокий смысл в том, что мир поделен на две половины… в нашем случае – на две палубы…
И поскольку он не отходил, Сираков спросил, все ли немцы на корабле.
– Шульц! – крикнул Роземиш. – Господин комендант спрашивает, все ли наши на корабле?
Шульц отозвался из помещения:
– Думаю, да… Отсутствуют двое болгар, а третий пошел их искать…
Вслед за Сираковым Роземиш вошел в – каюту и, не забыв спросить: «Разрешите?» – подставил шею под жужжащий вентилятор. (Наконец включили электричество.)
– Очень рад, – бормотал Роземиш. – Я высоко ценю ваше сотрудничество, ваши способности… Восхищен!.. Что касается нашего Шульца, – Роземиш понизил голос, – я давно хотел поделиться с вами – он какой-то… Странный. Отличный артиллерист, имейте в виду, был на два чина выше, чем сейчас, но, понимаете ли, изнасиловал женщину! Женщину! Изнасиловал… этот Шульц… этот странный Шульц…
Дичо привел Мишка и Спиридона – оба были в стельку пьяны. У трапа они замешкались, пропуская один другого вперед, охваченные смешной галантностью, и кончилось дело тем, что оба шагнули одновременно и свалились между кораблем и пирсом. Подбежавшие матросы вытащили их. Когда разозлившегося Мишка вели под руки по сходням, он вдруг повернул окровавленное лицо в сторону часового:
– Чего пялишься? Не узнаешь, что ли? Михаил П. Герасков. Кочегар! Это мы! А ты – шваб! Шва-аб!
Дан сигнал готовности к отплытию. На пирсе размотали тросы с кнехтов, и «Хемус» двинулся в море, взбалтывая грязную темную воду.
О, как дорог сейчас был этот берег! Глубокое отчаяние охватило матросов – словно уходили в изгнание, словно прощались с жизнью! Собравшись на корме, они глядели, как белый кубик Салоник постепенно сливался с серой далью, и чувство беспомощности и безысходности все сильнее охватывало их.
С мостика Люлюшев передал приказ Сиракова: всем надеть спасательные пояса.
Молча двинулись к каютам, понимая, что капитан нарочно не отдавал этот приказ до тех пор, пока они не выйдут в открытое море. Сейчас им ничего не оставалось, как подчиниться.
Вокруг было только море – слегка волнующееся, – все то же море, такое знакомое и ставшее теперь чужим.
…Еще до захода солнца луна – круглая и меловая – поднялась над горизонтом. Затем блеск ее усилился, и море словно бы стало светлее и оттого страшнее. При лунном свете все чувствовали себя как под прицелом. Приуныв, сидели у брезентов, опершись спинами о мачты или о надстройку. Паровой котел пыхтел, и вздохи его вылетали из трубы тающим, каким-то призрачным дымом.
– Бай Жельо, – тихо спросил Илийчо, сидевший рядом с плотником. – Почему у тебя такой глаз?
– Чтобы тебя лучше видеть, Илийка…
– Не до шуток, ах ты, черт возьми!
– Ударили меня, салага, – со вздохом ответил плотник. – В Ставангере это было, в Норвегии… Засиделись мы в канун Нового года в ресторанчике – весело, картинки кругом, светло… Эх, молодые были, да и времена были другие… Один ирландец, тоже моряк, хотел увести у меня мою симпатию и двинул меня плечом… Я упал. «Ничего. Погоди, – кричу, – друг, я тебе дам не так, а вот как». И рубанул его ребром ладони по горлу. Он мигом свалился на лопатки. Подскочили его дружки, подбежали наши, и пошел Новый год с фейерверком. Тогда в свалке кто-то и сунул мне нож в правый глаз… Однако легко отделался.
Помолчали.
– Легко отделался, – продолжил Жельо, как бы рассуждая сам с собой. – А сейчас ударит, не спасешься… Напоремся на мину, хоть намордник поможет… А если торпеда – прости господи! Будет как на «Принце» – взорвется котел… Бац! Точка!..
Растревоженный этими мыслями, Илийчо принялся расхаживать взад и вперед у планшера. Он был похож на монаха, бормочущего молитвы.
Луна безмятежно освещала задумчивые лица моряков.








