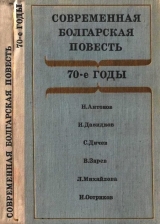
Текст книги "Современная болгарская повесть"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Владимир Зарев,Стефан Дичев,Иван Давидков
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
– Смотри-ка, товарищ Георгиева! – Голубые глаза сразу же засмеялись. Я видела, что он хотел было протянуть мне испачканную) лаком руку, но не решился.
Я уже привыкла встречаться с моими учениками в классе, а здесь смешалась, не зная, о чем и как говорить с Антовым. Хорошо хоть, что он сам спрашивал.
– Вам здесь дают квартиру? Это ваш муж? Где-то я его уже видел. Вы где работаете, товарищ Георгиев?
Михаил нахмурился. Желая быть вежливым, плотник назвал его моей фамилией.
Сверху спустился полный мальчик в старой куртке, до локтей измазанной олифой.
– Мой сын, – представил нам его Стоилчо Антов.
В этом не было никакого сомнения – те же светлые волосы и голубые глаза, но пока еще не такие лукавые.
– Иди, сынок, познакомься с моей классной руководительницей и ее мужем, – ласково подозвал Стоилчо.
Перед тем как протянуть мне руку, мальчик старательно вытер ее о куртку.
– Вообще-то он у меня учится, – поторопился объяснить отец, словно боясь, что мы и сына его примем за плотника. – В десятом классе. Сегодня вот пришел помочь мне, потому что после обеда матч, а мне хочется его посмотреть.
У дверей нашего будущего дома Михаил язвительно сказал:
– Держу пари, этот тип бегает тебе за мелом. Угадал?
10
Пропала готовальня Семо Влычкова. Я видела ее у него на парте. Чудесная готовальня «Рихтер» с полным набором циркулей.
– Сверху клеенчатая, а внутри бархат, и для всякой штуки свое отдельное местечко, – отчаянным голосом объяснял шофер. – Не почему-другому жалко, а память у меня это о Дрездене. Жена велела купить ей туфли, а я все свои марки ухнул на эту готовальню. Я ж в этом году в техникум записался, вот и решил: сначала мне послужит, а потом дочкам.
Мариан Маринов сидел рядом с Дочевым, сжавшийся и напряженный, как звереныш. Я нарочно не взглянула в его сторону, да и весь урок старалась смотреть на него не больше, чем на других.
Стиснув в руках журнал, стояла я перед своей группой. Кто-то из них вор… У меня мурашки побежали по спине, когда я подумала, что в эту самую минуту он тоже смотрит на меня.
Я не знала, что делать.
Когда-то у нас в классе пропала авторучка. Учитель рассердился и заставил нас встать рядом с партами. До сих пор помню его слова: «Так, а сейчас, дети, откройте сумки!» Да, но он мог так сказать – дети! А я из-за кого-то одного не имела права оскорблять остальных двадцать девять человек, глядевших сейчас на меня усталыми, невыспавшимися глазами.
– Большое дело! – примирительно заговорил шофер. – Не стоит себе портить жизнь из-за каких-то циркулей.
Медленно поднялся Филипп.
– Товарищ Георгиева… – Он глубоко вздохнул и провел ладонью по седеющим волосам. – Вы это дело оставьте на нас. Не дети, разберемся.
Группа облегченно вздохнула. Мариан Маринов, опустив голову, рассматривал бинт на большом пальце.
После урока горноспасатель догнал меня в коридоре.
– Вы уж не на него ли подумали? Да ведь если это Маринов взял готовальню, куда он ее принесет? Туда же в общежитие, а там я бы увидел.
Я согласно кивнула, но шахтер все еще загораживал мне дорогу.
– Не Мариан это, вот что я хочу сказать! Голову даю на отрез – не он. Вы только директору ничего не говорите. Подымется шум, а мы тут сами разберемся.
В следующие несколько дней ничего не случилось. О готовальне никто не говорил ни слова, молчала и я.
– Спрашивай, – предупреждала меня Андреева. – Спрашивай на каждом уроке, а то накопишь к концу полугодия.
И я спрашивала. Стоилчо Антов ответил на тройку. Было видно, что он вообще не готовил урока и норовил уклониться от прямого ответа на заданный вопрос.
Семо Влычков получил «хорошо». Говорил он чуть бессвязно, каким-то неимоверно тонким фальцетом и то и дело вытирал лицо и шею огромным носовым платком в красную и синюю клетку… Увидев четверку в дневнике, шофер сразу же успокоился и уже своим обычным голосом объяснил:
– Да как же мне отвечать более связно, когда вчера я целый день не вылезал из машины. Я и урок этот начал готовить в Радомире, продолжил в Софии, а кончил только в Ихтимане.
Все засмеялись, но на этот раз смех тридцати сидящих передо мной мужчин не захлестнул меня горячей волной радости и облегчения. Между нами стояла маленькая черная тень готовальни «Рихтер».
Я дала им домашнее задание и на следующий день собрала тетради. Одни из них все норовили свернуться в трубку, в других между страницами были крошки табака. Верно, носили с собой и заглядывали туда каждую свободную минуту.
– Что же ты поставишь за столько ошибок? – заглянул через мое плечо Михаил.
Я не ответила. Я уже понимала, что мои отметки должны оценивать все – в том числе и бессонные ночи моих учеников.
– А мой приятель, плотник, как себя показал? – спросил опять Михаил.
Сочинение Стоилчо Антова было написано его сыном. Лучше всех оказалось домашняя работа Костадина, молчаливого парня с последней парты, чья автобиография уместилась в одну-единственную строку: «Родился в Бургасе, возраст двадцать шесть лет, вальцовщик на Металлургическом комбинате».
– Ты можешь мне точно сказать, что такое вальцовщик? – спросила я.
– У тебя и такой есть? – засмеялся Михаил. – Сказать откровенно, не очень. Один из ваших проходчиков рассказывает, что до туннеля он был вальцовщиком, у него на руке шрам от ожога. Целыми днями без умолку кидает соленые словечки. Твой тоже такой?
– Нет, мой грустный.
Михаил взглянул на меня, передернул плечами, потом вынул счетную линейку и ушел в цифры. Для него цифры – самое важное, что удалось достичь человечеству. Однажды он сказал мне: «Буквы и ноты придуманы, чтобы записывать наши мысли и чувства, но запомни, что я тебе скажу: только цифры способны организовать этот мир и только они способны его разрушить, если попадут в расчеты безумцев».
Я закрыла тетрадку Костадина и попыталась вспомнив его лицо. О чем же он грустит, этот мой ученик?
Вечером было родительское собрание дневного отделения, и наши комнаты оказались занятыми. Пришлось дожидаться в коридоре, пока отцы и матери не прошли мимо нас, обрадованные или огорченные тем, что они услышали про своих детей. Хорошо, что у нас не бывает родительских собраний. Мне кажется, ни за что на свете не могла бы я возложить на плечи какого-нибудь только что пришедшего с рудника отца тяжесть горькой правды о его ленивом чаде.
Передо мной остановилась невысокая пышногрудая женщина в новом плаще и улыбнулась так, словно мы с ней давно знакомы:
– Я – жена Филиппа. Были мы как-то на базаре, а вы с вашим мужем тоже там были, и Филипп издали мне вас показал – вон, говорит, наша групповая. Уж больно молоденькая, говорю. Вот с тех пор я вас и запомнила, товарищ Георгиева.
Потом она рассказала: была на родительском собрании, младший тут у пес, вот и решила заглянуть, раз уж пришла, к филипповой преподавательнице – у нее ведь тут двое учатся. Нет, ничего особенного, просто так, познакомиться. Они ведь не в городе живут, в селе Коневцы – не очень далеко, но все же.
– За прошлый месяц, скажу я тебе, товарищ Георгиева, семь двадцать за одно электричество пришлось выложить, – проворно нанизывала слова жена Филиппа. – Я лягу спать, а он сидит, учит. Проснусь, опять учит. Муженек, говорю, будет этому конец когда-нибудь? Будет, отвечает, через пять лет. Он, мой Филипп, одно время начальником был. Хочешь верь, хочешь нет, ему даже велосипед выдали на шахте. Только другие времена были тогда. После Девятого сентября не было на шахте человека ученей Филиппа. Эти, нынешние, они уж потом появились. Те, кого он делу учил, стали инженерами. А мой опять за лопату, даром что партиец. На что тебе учиться, говорю, ведь пенсия на носу. Или в начальники метишь? И знаешь, что он мне ответил, товарищ Георгиева? Для себя я учусь, жена, чтобы эти бездельники долговязые на руднике не говорили потом – вот ты, дядя Филипп, прожил без диплома, и мы обойдемся.
Я проводила ее до самого выхода. Жена Филиппа держала меня под ручку, так что пришлось взять журнал в другую руку, чтоб не мешал.
Наверное, Филипп нас все-таки видел, потому что у входа в класс он остановил меня и извиняющимся тоном сказал:
– Любит моя жена поговорить. Такая уж она, вы не обращайте внимания.
В классе меня ждала новость. Нашлась готовальня. Над бровью одного сидящего у окна парнишки розовел свежий кусочек лейкопластыря. «Разрушитель» Инджезов, проследив за моим взглядом, выразительно усмехнулся. Парнишка делал вид, что смотрит на улицу. «Вот, а я что говорил!» – Иван Дочев торжествовал.
Все было в порядке. Я раскрыла журнал и вызвала к доске Мариана Маринова.
Мальчик отвечал смущенно, но точно. Похоже, что его преподаватель в софийском техникуме не любил пустых разговоров. Я поставила ему четверку. Взяв дневник, он пошел к своему месту, а я, глядя ему вслед, поняла, что паренек старается подражать походке горноспасателя, но плечи у него были еще узкие и, когда он покачивал ими, то больше всего был похож на молоденькое деревце, где уродилась всего одна груша.
– Четверка! Молодец! – негромко сообщил всем Стоилчо Антов. Его стратегическая первая парта упирается прямо в мою кафедру, и плотник решил, что это дает ему известное право участвовать в выведении отметок. Иногда я замечала, что его шепот раздражает сидящих сзади.
11
– Всех, кто работает не по специальности – вон! – повторил директор. – Мы обучаем шахтеров, металлургов и машиностроителей. Кое-кто наконец должен это понять! Я не позволю, чтобы в моем техникуме учились всякие там парикмахеры, кладовщики из «Плодоовоща» и тому подобное.
Мы сидели в учительской за длинным столом. Старый инженер, преподающий горные машины, виновато мигнул. Наверное, кто-нибудь из «тому подобных» учился в его I «д» группе. Придав лицу самое сосредоточенное и внимательное выражение, красивая математичка потихоньку перелистывала лежащий на коленях последний номер журнала «Прамо».
– Я уже начала обходить места работы моих учеников, – звонким голосом заявила Киранова.
– Именно это я и хотел сказать, – подхватил директор. – На той неделе в пятницу, нет, в четверг, каждый должен представить мне подробный отчет.
Наконец большая перемена закончилась.
– Закрываю наше импровизированное методическое совещание, – сказал директор.
Умеет же человек устраивать церемонии из самых незначительных событий.
Я люблю наблюдать, как мои коллеги один за другим перед началом урока берут свои журналы из вертикальных гнезд шкафа. Преподаватели напоминают мне тогда солдат, торопливо разбирающих из пирамиды свое оружие – ни один не ошибется, ни один не схватит чужой карабин вместо своего.
У меня был свободный урок, «окно», как говорит инженер Харизанов. «Попробовали бы вы, Георгиева, распределить шестьсот восемнадцать часов между тридцатью двумя преподавателями. Я сердечно бы обрадовался, если б вам удалось не допустить ни одного „окна“».
В учительской остался и старый инженер, преподающий горные машины. Свое «окно» он заполнял странным занятием – считал спички. Высыпал их на суконную скатерть и сосчитанные отодвигал в сторону, словно перебирал рис.
– Не удивляйтесь, Георгиева! – Он дружелюбно сверкнул на меня очками. – Быть может, вы заметили, на коробке написано, что в нем содержится пятьдесят спичек. Я вот уже полгода пересчитываю спички в каждом купленном коробке, но ни разу не насчитал больше сорока восьми. Однажды даже было сорок две.
Я не знала, как реагировать – засмеяться или сочувственно покачать головой.
– Учтите, – вполне серьезно продолжал старик, – что, во-первых, я уже сорок лет покупаю спички и что, во-вторых, в каждом коробке не хватает по крайней мере трех штук. Если же каждую недостающую спичку принять за единицу обмана покупателя, то сколько это раз я был обманут?
– На коробке написано, что спичек в нем от сорока до пятидесяти, – осторожно вставила я.
Старик скептически усмехнулся тонкими голубоватыми губами, собрал рассыпанные спички и рассеянно спросил:
– У вас в группе есть кто-нибудь из «тому подобных»?
– Завтра выясню, – ответила я, тут же решив, что первым делом проверю, чем это все-таки занимается Димитр Инджезов.
В горсовете мне сказали, что «разрушители» сейчас работают на улице Балканской битвы.
Подойти поближе мне не разрешили. У тротуара перед столпившимися зеваками высилась редкая, сколоченная из досок ограда. Четыре повешенных на ней объявления предупреждали, что подходить близко опасно для жизни. Дом был старый, уже без крыши, сквозь разбитые окна виднелось небо. Внезапно где-то внутри рухнула стена. Поднялась туча пыли, из перекосившихся дверей тяжело выкатился большой камень. Потом туча рассеялась и я увидела Димитра. Ловко, словно артист, привыкший ко взглядам толпы, мой ученик прошел по узкому верху оголившейся стены. Рубашка на нем была расстегнута, но я знала, что это не столько от жары, сколько для красоты – уж больно эффектно развевал ее ветер.
Теперь предстояло сломать наружную стену. Вместе с еще одним «разрушителем» и каким-то рыжим пареньком мой ученик опоясал кирпичную степу, канатом, расположив его в наиболее уязвимых, известных только ему местах.
Рушили они действительно красиво. Димитр Инджезов считал вслух, и все трое тянули канат одновременно и так ритмично, что тот, казалось, превратился в продолжение их черных рук, – разумное продолжение, которое раскачивало стену, словно это была одна-единственная плита. И стона трещала и гнулась, а в последний момент, перед тем как рухнуть, вдруг вздулась посередине, словно кто толкнул ее изнутри.
Я нашла Димитра у сколоченной из фанеры времянки. Рука у него была вся в пыли, и он не протянул ее, а только издали, извиняясь, показал мне.
– Вот что такое наша профессия, – Димитр улыбнулся, и на его грязном лице, под копной пыльных, пересыпанных щепками волос вдруг неожиданно блеснули белые и ровные, как у юноши, зубы.
– Вы сомневаетесь, товарищ Георгиева, знаю, что сомневаетесь, оставить меня или признаться директору, мол, в I «б» группе есть один, который работает не по специальности. Ладно, а строителей вы принимаете? Принимаете. Так, если хотите знать, наше ремесло еще трудней строительного. Строитель что – знай себе кладет кирпичи да штукатурит.
И здесь, на скамеечке у фанерной времянки, я услышала удивительный рассказ о том, что у каждого дома есть сердце и что перед тем, как дом снести, нужно найти человека, который мог бы угадать, где оно, это сердце, кроется и как его вырвать. Иначе ничего не получится: дом стонет и упирается, как живой.
– Во II «а» есть такой Никола, строитель. Вы, верно, его не знаете, у них Киранова руководит. Так вот, расхвастался он как-то на перемене: мол, все, что есть в городе нового, моих рук дело. А я ему: верно, только сначала-то ведь я все старое снес. Я снес, потом пришел землемер, разметил участки, а ты уж только тогда начал строить. Не понял он меня. Не каждый может понять разрушителя. Ребята из группы спрашивают, не надоело тебе, Димитр, со старьем возиться да пыль глотать? Не надоело! Я новому путь расчищаю, а такое не может надоесть, не может. Ведь иной раз, снесешь какую-нибудь развалюху, и на всей улице светлее становится. Я и лавки сносил и пекарни. Один раз, давно это уж было, в фундаменте винного погреба братьев Грозевых нашли мы деньги. Много денег, старые, слежались от сырости, с камнем срослись. Ковыряю я их киркой, а сам думаю: сколько же радости могло быть от этих денег, радости и веселья, так нет – закопал их хозяин, из страха, из жадности закопал, в камень превратил. Я и золотые монеты находил в стенах у ростовщиков, сунуты между камнями, а по дырочкам видно, что сняты они с невестинского ожерелья, от сердца оторваны. Старый мир… Звоню в музей, а там уже меня знают, спрашивают: «Что нашел, товарищ Инджезов, золото или керамику?» – «Горе, – отвечаю, – людское горе».
Мой ученик замолк, глядя перед собой. Вынул сигарету и всю ее перепачкал, закуривая.
У самых наших ног валялись остатки печной трубы. С одной стороны – черные от дыма, с другой – мягкие и сыпучие от дождей.
– Видите? – Инджезов задумчиво поковырял обломки концом запыленного башмака. – Вот так и с человеком…
Что он хотел этим сказать, не знаю. Я встала, протянула ему руку. И, уже прыгая по кирпичам, услышала, как Димитр насвистывает за моей спиной.
Сегодня же вечером заполню пустующую строчку в графе «профессия». Так и напишу: Димитр Инджезов – разрушитель. И если директор вызовет меня объясняться, я уже буду знать, как ему ответить.
В дирекции Металлургического комбината меня встретили без всякого удивления и даже выделили провожатого. Это был очень приятный стройный старик, с еще густой шевелюрой, в чистой рабочей одежде. Синие холщовые брюки отглажены, и мягкие, почти как на шевиоте, складки падали на круглые носки его ботинок. Я сказала, что прежде всего хочу видеть вальцовщиков, и не успела я сделать нескольких шагов по цементной, ведущей к цехам дорожке, как уже знала, что моего спутника зовут дед Сашо, этакий вездесущий дед Сашо, который всех знает и со всеми дружит. Ребята на электрокарах приветствовали его гудками клаксона.
– Я здешний, – с достоинством объяснил мне старик. – С самого начала на заводе. У меня дома и кусок первой плавки хранится, на память. Сейчас я на пенсии, но не сидится мне дома. Только день займется, я уже тут. Так, говоришь, чья ты учительница?
– Костадина Костадинова.
– Из Бургаса? – Провожатый внимательно взглянул на меня и остановился. – Раз ты ему учительница, я тебе вот что скажу: вы с ним там, в школе поласковей, нет ведь у него никого на всем белом свете. И не сирота, а один. Знаешь, из тех, кто, коль пошлют его по матушке, не сердится, потому как и сам не знает, кто его мать… Вот он, прокатный цех.
Меня обдало жаром раскаленного металла. Неподвижный, плотный жар, непохожий на жар огня или солнца.
– Иди сюда! – крикнул мне старик в самое ухо, перекрывая стоящий вокруг грохот. – Сверху, с лестницы, лучше видно!
Никогда не забуду я этого огненного рождения стали. Черные подвижные дорожки подхватывали выскакивающую из печи металлическую болванку, раскаленную и шипящую от соприкосновения с воздухом, и все дальше и дальше несли ее в облаке искр и свистящего пара, протискивая сквозь все сужающиеся отверстия, а в конце линии, там, где болванка становилась похожей на длинный красный канат, ее сторожили люди, обутые в асбестовые сапоги. Как только огненная змея высовывала голову, они подхватывали ее длинными клещами и ловко перекидывали на следующую линию. И в короткие секунды, когда их тела опоясывала дуга раскаленного металла, эти люди, озаренные алыми отблесками, казались мне всемогущими и нереально прекрасными.
– Вальцовщики! – восхищенно прокричал дед.
Один из них был моим учеником…
Во дворе у подъемного крана стояла в ожидании колонна пустых грузовиков, прибывших из Турции. Во всю длину кузовов тянулись белые надписи: «Фабрика Ахмеда Генчелера». Время подошло к полудню, и шоферы, усевшись в сторонке на сухую осеннюю траву, вскрывали блестящие консервные банки.
Вечером я дала контрольную по грамматике. Люблю смотреть, как они пишут. Словно дети, запускают в волосы пальцы, глаза темнеют от напряжения. До чего же красивые свитера у моих взрослых учеников! Толстые, ручной вязки, внешне грубоватые, но столько в их узоре любви, материнской или жениной, такой любви, что при взгляде на свитер невозможно не увидеть руки, поблескивающие спицами у темного ночного окна. Ромбы, косы, клеточки, листья. А молодая жена одного шофера из III «г» группы в первые свои семейные вечера связала мужу до того яркий свитер, что паренек, приходя в техникум, не решался снять ватник. Только у Костадина свитер тоненький, купленный в магазине. Вальцовщик пишет… Светлые волосы упали на глаза, но он их не замечает, не откидывает быстрым, привычным движением. Я уже знаю его почерк – крупный, прямой, с буквами, выписанными каждая отдельно. Интересно, как писал он слово «мама» в тот далекий год, когда был первоклассником, И что тогда творилось у него в сердце?
12
На рудник я решила пойти утром в четверг.
Страшное случилось в среду. Я была в магазине и уже совсем было присмотрела себе на платье серо-голубой тергаль, как вдруг загудела сирена и люди на улице бросились бежать. Не могу вспомнить, кто мне сказал первым. Новость словно пронизала весь воздух над городом: обвал!
Нет, это был не страх, но ужас, даже не предчувствие. Может быть, точнее всего назвать это болью, в которой соединились все три чувства. Невыразимая тройная боль, знакомая только женам шахтеров. Словно что-то отрывается от тебя, но не для того, чтобы родиться, а чтобы погибнуть. И мы бежали стиснув губы, с разметанными ветром волосами. Бежали, прижимая к груди бутылки с молоком, сумки с хлебом и яблоками, купленными к обеду, которого, может быть, уже никогда не будет. А над нами все несся металлический вой сирены, словно голос женщины, которая первой узнала о беде.
– Где обвал? В туннеле? – то и дело спрашивала я.
Мне ответили, что обвал произошел на Шахте четыре.
Не хочу врать, прежде всего я испытала облегчение, жгучее, вызывающее слезы облегчение, но, несмотря на это, все так же продолжала бежать рядом с другими шахтерскими женами.
У входа в рудник нас остановили милиционеры. Толпа внезапно замерла, словно пытаясь уловить хоть какой-нибудь отзвук того, что сейчас происходило глубоко под землей. И тут над нашими головами затрещала коробка громкоговорителя.
– Дорогие женщины, – произнес взволнованный мужской голос, – говорит главный инженер рудника. Сохраняйте спокойствие. Обвал незначительный. Спасательные работы уже заканчиваются. Через некоторое время смена поднимется на поверхность. Ранен только один человек.
– Тогда почему здесь четыре машины «скорой помощи»? – выкрикнула стоящая рядом со мной женщина. Развалившийся седеющий пучок упал на воротник ее коричневого пальто.
Вереница пустых вагонеток со стуком исчезла в горле входной галереи.
– Хорошо хоть, что эту галерею открыли, – сказала женщина. – Раньше была только вертикальная шахта с лифтом. Настоящая могила, да еще сверху надпись: «Бог в помощь». Ты, верно, не помнишь. У меня тогда муж здесь работал. А сейчас внизу оба сына. А у тебя там кто?
– Ученики. Я из вечернего техникума.
Мы ждали. Казалось, мы могли простоять целые сутки, много суток и, не чувствуя ни холода, ни голода, не сводить глаз с черного дугообразного входа в галерею.
Сначала раздалось тихое позвякивание рельсов, потом заколебался воздух – это вагонетки толкали его перед собой по темному стволу рудника. Наконец блеснул свет фонаря, бледный и трепетный, словно луна, отраженная в воде колодца.
Женщина закусила нижнюю губу и сжала мне руку.
В первой вагонетке лежал раненый. Два молодых врача в испачканных белых халатах держали на коленях его забинтованную ногу. Когда состав врезался в толпу, раненый открыл помутившиеся глаза и осмотрелся. Я представила себе, как нужно ему сейчас увидеть хоть одно знакомое лицо, которому он мог бы улыбнуться: «Вот видишь, я живой!» Но он, верно, был из села, приезжал сюда шахтерским автобусом, и, может быть, в это самое время его жена сидела где-нибудь под навесом, плела циновки для парников и удивлялась, с чего это, господи, у нее с самого обеда так тяжело на сердце…
Они были в одной вагонетке: Филипп, Иван Дочев и между ними Мариан. Их шахтерские лампы еще горели. Я знала – вряд ли кто-нибудь придет их встречать, и, выступив вперед, помахала рукой, чтобы и они тоже нашли в толпе хотя бы одно знакомое лицо. Но меня оттеснили в сторону, и больше я их но видела. Встретились мы только вечером. Все трое сидели на своих местах. Филипп – спокойный, седина его, как всегда, сияла в свете лампы. Иван – как всегда, мрачный, словно рассердившийся на всех и на все, а рядом, угревшись в своем синем с красными оленями свитере, дремал Мариан. Когда я бросала взгляд в их сторону, Иван, наверное, под партой толкал мальчика, потому что тот вдруг спохватывался:
– А? Что?
Шахтер, не отвечая, показывал на меня своим квадратным подбородком. Паренек широко распахивал глаза, и по его лицу было видно, как честно он силится проснуться. Но руки его, лежащие на раскрытой тетрадке, продолжали спать.
Я не сказала Михаилу, что ходила на Шахту четыре. Пришлось бы рассказывать и о той странной тройной боли, которую я испытала, а он бы меня не понял. От скольких еще подобных минут придется мне оберегать Михаила? Ну что ж. Охраняя его свободу и уверенность в своей силе, я сама стану гораздо сильнее и легче вынесу предопределенную судьбой боль родов, которую могут вынести только женщины.
По утрам Михаил спит до последней секунды и у него не остается времени для зарядки. Поэтому он делает ее вечером – двадцать отжимов на вытертом гостиничном ковре. Я смотрю на него, перегнувшись через край кровати, горячее дыхание его сильного тела радует меня. Под смуглой кожей вздуваются и опадают полные жизни и соков тугие узлы мускулов, и кажется, что они тоже ликуют, наслаждаясь движением.
13
В пятницу нам дали ключ от квартиры! Ключ от польского замка «лучник» с секретом и желтую опись-протокол. Михаил вложил мне их в руки, поцеловал и, почему-то глядя поверх моей головы, тихо сказал:
– Ты прости, что мы так долго жили в гостинице.
– Дурачок, – сдавленным голосом ответила я.
Ужинали мы в ресторане. Заказали бутылку шампанского, а Михаил настоял, чтобы старый официант принес бокал и для себя.
В воскресенье утром, складывая наше имущество все в те же два чемодана, я вдруг пожалела этот гостиничный номер, который мы покидали навсегда. Нахлынула грусть-разлучница, такая же, как и в то утро перед распределением, когда я смотрела на Сюзанну из Сенегала. Ведь мы, наверное, никогда больше не войдем в эту комнату, не увидим ни стола, ни репродукции на стене, ни кроватей, в которых мы отдыхали от первой здешней усталости, шептались и любили друг друга.
Дежурная задвинула свое стеклянное окошечко и вышла проводить нас до самого подъезда.
– Ну, желаю здоровья, – сказала она. – Такого тихого семейства у нас в гостинице еще не бывало.
И, как в день приезда, мы опять прошли через весь город со своими двумя чемоданами и термосом, правда, теперь к ним прибавилось еще и зеркало.
Вокруг дома кипела счастливая суета. Громоздились горы мебели и пожитков, а рядом, держа на коленях внуков или цветочные горшки, сидели старушки, вырванные из привычного покоя и слегка ошеломленные всем происходящим. Лифт еще не работал, и мы потащили свои чемоданы наверх. Страшно интересно было заглядывать в распахнутые двери. На шести этажах под нами и двух над нами будут жить люди в почти таких же, как у нас, квартирах. И может быть, у них будут такие же гардеробы, печки, кровати.
– Стандарт, – запыхавшись, проговорил Михаил.
– Стандарт… отныне он все чаще будет обрушиваться на нас, правда? Будет манить нас удобствами и легкостью одинакового, для которого нужен не выбор, а просто согласие. Но я уверена, что этот же самый стандарт обязательно разбудит в нас сопротивление, то самое, которое не позволило древним резчикам сделать хотя бы два одинаковых листочка во всем иконостасе Рильского монастыря.
– Логично, – ответил мне Михаил. – Я давно замечаю, что подъем по лестнице настраивает тебя на философский лад.
Нас обогнал мужчина в белом плаще. Мне показалось, что я его уже знаю. Потом я вспомнила, это тот самый футболист, который попался на списывании в первый мой учительский день.
– Вот что, – словно бы в шутку нахмурился Михаил, – я вижу, этот твой вечерний техникум дает тебе прекрасный повод заглядываться на каждого мужчину.
В нашей маленькой пустой квартирке пахло олифой и масляной краской. Мастер выполнил свое обещание – паркет действительно не скрипел.
На площадке за дверью кто-то крикнул:
– Товарищи, на четвертом этаже человека бьют!
– Ты сиди здесь, – сказал Михаил и вышел.
Вернулся он очень скоро, без единой царапины, даже галстук на месте.
– Ничего особенного, один вроде бы из твоих. Пожилой.
– Филипп? – спросила я, помертвев.
– Да, кажется, так его называли, – равнодушно кивнул Михаил. – А ты что волнуешься? Они, в конце концов, не дети!
На следующий день Филипп разыскал меня в учительской. Было еще рано, и мы с Весой Жиковой сидели одни. Веса всего на три года старше меня, ведет в моей группе электротехнику, и это нас сближает.
– Товарищ Георгиева, – смущенно заговорил мой седовласый драчун, – вот принес вам тут один документ, проверьте, если не трудно. Его, может, в милицию придется подавать, не хочу позориться из-за ошибок.
Я взяла сложенный вдвое лист, не сказав ни слова о драке, – не хотелось компрометировать его перед Жиковой.
– Очень хороший студент, – сказала Жикова, когда Филипп вышел. – Вносит в класс какой-то особый такт и спокойствие.
– Да, – осторожно согласилась я.
Оставшись одна, я забилась в угол за цветы и прочла «документ». Филипп писал старательно, крупными буквами, соединенными между собой трогательными хвостиками.
«Показание
Я, нижеподписавшийся Филипп Николов Филев, мастер-проходчик в руднике Шахта четыре, несудившийся, женатый, имею двоих детей, из которых один служит в пограничных войсках. По вопросу о драке, случившейся в новом доме рядом с вокзалом, могу показать следующее: первое – верно, что я там побил лицо, именуемое Антон Чалыков, и второе – названному лицу надо было врезать еще больше. В драке виноват я и следующие причины.
В начале этого года моей бригаде была выделена квартира в размере двух комнат и кухни. По правде говоря, квартира полагалась мне, потому что у нас есть список, а в том списке подошла моя очередь. Я живу в селе Коневцы, откуда я родом, и каждый день езжу на автобусе до рудника, и мой младший сын тоже ездит, который учится в механическом техникуме.
В тот же вечер я сообщил об этом моей жене Тодоре Николовой, работающей в овощеводческой бригаде, и она очень обрадовалась. Но пока мы собирались, потому как старые корни рвать нелегко, у одного из нашей бригады, Василчо Крыстева, родились двойняшки. У него уже есть один, так что теперь стало всего трое. Вечером мы выпили по этому поводу немного ракии в лавочке, и я решил уступить свою квартиру Василчо Крыстеву, потому что у него только одна комната в „шахтерке“. К этому решению я пришел сам, по-человечески и потому, что я член партии, да и не хочу, чтоб кто-нибудь говорил, мол, ты, бай Филипп, получил квартиру, потому что партиец. Так вот, сказал я, что отказываюсь, а Василчо Крыстев поцеловал меня в щеку и заплакал. А вечером на селе плакала моя жена, Тодора Николова. Сказала мне, что я не мужчина, что только о других думаю, а о нашем старшем сыне, который через год демобилизуется и, того и гляди, приведет невестку, вообще даже не вспоминаю.








