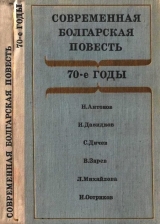
Текст книги "Современная болгарская повесть"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Владимир Зарев,Стефан Дичев,Иван Давидков
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
– Сейчас я освобождаю тебя под залог, – обратился к Боби Камен. – И советую тебе не делать глупостей. Так не забудь…
– У меня прекрасная память. А за деньги я должен благодарить Эмилию?
– Да.
– Хорошо. Я ее отблагодарю. Можно идти?
– Иди.
Боби вышел. Мы с Каменом остались одни. И мой приятель вдруг заговорил совершенно иным тоном, в котором чувствовались озабоченность и грусть.
– Слушай, великий психолог, можешь ты мне объяснить, откуда у этого юнца столько злости?
Я не знал, что ответить. Я смотрел в окно. Боби вышел из здания милиции. Эми порывисто бросилась к нему. Он холодно спросил ее о чем-то. Она, волнуясь, раскрыла сумочку, подала ему сигареты и спички. Боби закурил, бросил спичку, сунул коробку себе в карман и зашагал по тротуару. Девушка покорно последовала за ним. Я наблюдал за ними, пока они не скрылись из виду. На душе у меня было необъяснимо тяжело и тревожно. Они совсем не походили на влюбленную пару.
6
Прошло больше педели. Серый поток будней катился и тащил меня за собой в привычно напряженном темпе – развод, два мелких дела о разделе имущества да еще один малоинтересный жилищный вопрос. Я словно плыл по течению, не заходя глубине, чем это было необходимо, чтобы дело шло хорошо. Вечером, когда кончались приемные часы, я закрывал двери адвокатской конторы и оставлял за ними чужие заботы. Встречался с приятелями, ходил в кино или сидел дома.
Я имею обыкновение рассказывать жене наиболее интересные случаи из моей юридической практики. Но тут я сделал для себя открытие: почему-то избегал рассказывать ей о Боби, о моей с ним встрече в милиции. Вообще я замечал, что у памяти есть своеобразный фотоэлемент, который фиксирует кадры самопроизвольно. Иногда он запечатлевает на своей пленке такие моменты, в которых нет ничего особенного, и потам бывает трудно объяснить, почему именно они зафиксированы в твоей памяти. Так, например, мой первый процесс, в котором я участвовал как стажер-адвокат, был по делу об убийстве. Я очень волновался от сознания, что должен буду разговаривать с настоящим убийцей. Им оказался какой-то извращенный тип, безликий и невзрачный, который преднамеренно и хладнокровно отравил свою жену лишь потому, что подозревал ее в измене. За предумышленное убийство его приговорили к расстрелу. Потом, как ни старался, я не мог вспомнить его лица, зато очень хорошо запомнилась его левая рука (почему-то не правая, которой он подсыпал своей жертве яд), а именно левая, на среднем и указательном пальцах которой были совсем одинаковые белые пятнышки на ногтях – в форме собачьей головы.
Что касается моей встречи с Боби, то здесь память любезно предлагала мне один и тот же кадр: я протягиваю ему руку и при этом улыбаюсь вполне дружелюбно, а он не принимает моей руки и презрительно оглядывает меня с головы до ног. Ясно, такая фотография не может украсить альбом приятных воспоминаний. Мое самолюбие было уязвлено, и довольно глубоко. Я старался заглушить это чувство доводами, что, мол, надо быть снисходительнее к проявлениям юношеской самоуверенности, что со временем Боби поймет мое доброе намерение и ему будет стыдно. Но это мало утешало. Я не мог избавиться от мысли, что мы с Каменом ошибаемся. И мое плохое предчувствие подтвердилось раньше и страшнее, – чем я мог предполагать.
Однажды Камен позвонил мне.
– Твой Боби исчез.
– Что? Как это исчез? – переспросил я в замешательстве.
– Извини меня за откровенность, но ты провалился как психолог.
– Да говори ты серьезно. Мне сейчас не до шуток.
– Какие шутки! Ведь ты, надеюсь, не шутки ради занимался психологическими опытами?:.
– Камен, прошу тебя! – Я скорее злился, чем просил. – Скажи наконец, что случилось?
– Успокойся, сейчас все расскажу. Мы поймали еще одного из этой шайки. Я хотел устроить очную ставку с Боби. Послал повестку. Но оказывается, он вообще не появлялся дома. Родители его были даже неприятно поражены тем, как мы его отпустили под залог. Они рассчитывали, что мы его исправим. Ну пак, тебя не возмущает их легкомысленное отношение к сложной проблеме роста преступности среди молодежи?
Я чувствовал, Камен меня заводит. Но у меня не было желания принимать вызов. Он оставался верен себе: любил делать обобщения и во всем видеть проблемы.
– И что же теперь? – спросил я.
– Ну, сам понимаешь. Надеюсь, через несколько дней его отыщут, но залог, внесенный девушкой, будет конфискован.
– Да, неприятно, – пробормотал я.
– Послушай, а ты не сможешь предпринять кое-что?
– Что именно?
– Ведь его связывают нежные чувства с этой девушкой. Она может знать, где он.
Я замолчал. Это поручение было мне не по душе. Ведь я как-никак адвокат. Мне казалось, что я злоупотреблю доверием Эми, узнав через нее, где ее любимый. Даже утешительная мысль, что это для его же блага, не могла возбудить во мне энтузиазма. Камеи словно прочел эти мои сомнения:
– Твой гражданский долг, товарищ…
– Да, мой гражданский долг…
– Не забывай, что ты служитель правосудия.
– Нечего меня агитировать. Сделаю, что смогу.
– Ночь я дежурю. Можешь мне звонить.
– Ты предлагаешь идти к ней сейчас?
– А когда же?
Я повесил трубку. Пообещал жене пойти вместе с ней и дочкой в гости… Я начал бриться нарочно медленно. Никак не мог решить, что мне делать…
– Мы уже готовы, – донесся до меня голос жены через дверь ванной. – Ты идешь?
– Идите одни, – отвечал я, продолжая бриться.
– А ты что, не пойдешь?
– У меня дела.
– Почему же ты тогда бреешься?
Трудно было что-либо противопоставить этой железной логике.
– Бреюсь потому, что я не поп и не обязан носить бороду.
– А почему ты нервничаешь?
– Папа, ты же обещал, – обиженно ныла дочка.
– Я никому не обещал носить бороду. Дайте мне спокойно побриться. Если успею, приду.
– Это Камен звонил?
– Камен.
– Ты с ним идешь? – Вопрос жены имел следующий подтекст: «Ты с ним будешь пить?»
Я решил дать исчерпывающий ответ:
– Кроме того, что Камен – мой приятель, он еще и следователь. И звонил он мне по делу. И еще одна деталь: этой ночью он дежурит.
На этом разговор через дверь прекратился. Дочка, воспользовавшись моим невыгодным положением, заказала:
– Увидишь резинку, купи мне.
Она буквально преследовала меня этими жевательными резинками, которые я все забывал купить.
Наконец мои женщины удалились.
Приведя себя в порядок, я отправился к Эми. Я приходил к ним в дом впервые. Эми была одна. Она пригласила меня в комнату. Мы сидели в гостиной, заставленной старой тяжелой мебелью.
«Неважная реклама для фабрики, где работает ее отец, – подумал я и тут же признался себе в собственной глупости. – Не за тем же ты пришел, чтобы мудрствовать…»
Что-то в поведении Эми меня сразу насторожило. В ее лице и в движениях была какая-то вялость и безразличие. Словно жизненные силы и желания ее покинули. Она казалась постаревшей и опустошенной. Не видно было ни раскрытой книги, ни оставленного рукоделия, радио и то было выключено. Только в пепельнице дымилась недокуренная сигарета.
– Ты что, и дома куришь?
– Когда никого нет.
– Чем занимаешься?
– Ничем.
Ее безразличие и пассивность действовали угнетающе.
– Что-нибудь случилось?
Она отвела взгляд:
– Ничего.
Чтобы как-то разрядить эту тягостную атмосферу отчуждения, я тоже закурил.
– Встречаетесь с Боби?
Эми еще ниже опустила голову. Руки судорожно обхватили колени.
– Встречаемся…
Я пристально посмотрел на нее. Она словно окаменела, сидела, уставившись в одну точку.
– Увидишь его, скажи, чтоб немедленно явился в милицию. Следователь вызывает. А он даже домой не являлся…
Эми подняла на меня глаза. Теперь лицо ее было другим. Безразличие исчезло, сменилось тревогой и болью.
– Я больше его не увижу!..
– Что же все-таки случилось?
И тут она заплакала. Это был не просто человеческий плач, а крик раненого животного. Он возник неожиданно, словно прорвало плотину, еле сдерживавшую напор реки страданий и горя. Эми всхлипывала, выла, ломала руки, затем те, словно испуганные пауки, заползали по лицу, забирались в волосы. Тело ее корчилось, словно от страшной боли, разрывавшей его изнутри. Она на миг притихла, подтянула колени к подбородку, и новый вскрик, точно распрямившаяся пружина, подкинул ее, опять начались всхлипывания и завывания.
Будь на моем месте врач, он, вероятно, просто установил бы приступ неврастении. Но я испугался и растерялся. Я не знал, чем ей помочь.
Я пробовал придержать ее за плечи. Но она с неожиданной силой оттолкнула меня и закричала:
– Не трогай меня!
Я побежал на кухню, чтобы принести стакан воды. Суетился я без толку, но надо же было что-то предпринять. Когда я вернулся, Эми лежала, скорчившись на полу, уставившись на стиснутые кулаки. Лихорадочным был блеск ее сухих глаз, зубы стучали.
– Выпей воды, Эми, – сказал я. – Где у вас валерианка?
Она медленно села, одернула платье и посмотрела на меня мутным, невидящим взглядом.
– Мне ничего не надо.
– Выпей воды! – настаивал я, поднося стакан к ее рту. Зубы застучали по стеклу. С трудом она сделала несколько глотков. Обняв за плечи, я усадил ее возле себя на широкий плюшевый диван. Она вся съежилась, уткнулась мне в грудь и заплакала. Но это были уже исцеляющие слезы. Гладя ее вздрагивающие плечи, я искал слова утешения. Я говорил ей те же слова, какими успокаивал свою дочку. Она все тесней прижималась ко мне и сквозь слезы шептала:
– Старик, почему ты не полюбил меня, старик. Я ведь так люблю тебя… И ты мог бы любить меня… ну совсем немножко… Что тебе стоит… Мне от тебя ничего не надо… Только люби меня немножко…
В первую минуту до меня даже не дошло, что «старик» – это я. Мне казалось, это отголоски только что разразившейся в ее душе бури. Но, придя в себя, я ощутил запах ее волос, тепло ее тела, нежный изгиб плеча, которое я поглаживал. Рука моя замерла. Я осторожно отстранил девушку. Она бессознательно сопротивлялась этому, словно замерзшая собачонка, ищущая тепла и ласки. А в моем сознании вдруг промелькнула не очень приятная мысль о том, что подумали бы ее родители, если бы вернулись и застали ее в моих объятиях.
– Что ты говоришь, Эми, – начал я назидательно-поучающим тоном. – Что за глупости! Я мог бы быть твоим отцом. У меня семья, ребенок…
Я приводил веские и логичные доводы, доказывающие невозможность любовных отношений между нами, а где-то внутри меня кто-то другой, весьма на меня похожий, гадко и насмешливо твердил, что сам-то я не слишком верю в свои доводы, потому что мне нестерпимо хочется снова вдыхать запах ее волос, снова ощущать тепло ее тела.
– Я знаю, что ты годишься мне в отцы, – упорствовала она. – Знаю, что у тебя семья, ребенок. Знаю и все равно хочу, чтобы ты меня любил. Разве это плохо, что я хочу твоей любви?
– Конечно, плохо, – все в том же назидательно-поучающем тоне ответил я. – Нелепо…
– Если бы ты меня тогда полюбил ну хоть чуть-чуть, не было бы нашей с ним встречи…
– Но скажи, что у тебя случилось?
Голос ее осекся, она шептала. Я еле разбирал слова:
– Он отдал меня своим приятелям…
– Что? Как это «отдал»?
– Мы собрались у Рапоны… Они напились… Других девушек не было. Только я… Они захотели меня. Сначала он не соглашался. Тогда они ему сказали, что он плохой кореш. Он разозлился. Назвал их трусами, это из-за них, мол, он столько вытерпел, и, черт с ними, пусть знают, ему для них ничего не жалко… И отдал меня…
– Что ты городишь? Как это отдал? А ты что делала?
Огромная лавина ярости обрушилась на меня, захлестнула и стремительно понесла куда-то, ослепила. Я, наверное, скрежетал зубами. Сознание мое сопротивлялось отчаянно, отказываясь воспринять этот нелепый, невероятный, ужасающий факт, а какой-то дикий животный инстинкт, вдруг проявившийся во мне, жаждал мщения.
Исчезло чувство времени – прошли минуты или лишь мгновение. Очнувшись, я разразился бранью и страшными угрозами:
– Скотина! Развратник! Голову ему размозжу! Кастрировать его надо. В тюрьму упрячу. Пусть сгниет там! Лет на пятнадцать! Смертной казни добьюсь. И попрошу разрешения присутствовать при исполнении. Он попомнит меня, если у него будет время припоминать!
Меня охватило страстное желание действовать немедленно.
– Возьми бумагу и пиши! Заявление прокурору! Групповое изнасилование! Я сейчас же отнесу! Камену отнесу! Сегодня же его арестуют! За неделю проведу процесс! Смертной казни ему не избежать!
– …Ничего я не буду писать.
Ее голос меня поразил. Она сидела неподвижно и смотрела на меня сухими отчужденными глазами.
– Как не будешь писать?
– Я ничего не напишу и никому не повторю того, что сказала вам.
Я через силу рассмеялся.
– Ненормальная! Но мне-то ты уже сказала. Я буду свидетелем! И я заставлю их признаться! Я найду способ вынудить их признаться!
В ее глазах зажглась отчаянная решимость.
– Я буду отрицать.
– Поздно отрицать! Ведь я знаю.
– Я буду отрицать. Скажу, что наврала вам, чтобы соблазнить вас, что хотела стать вашей любовницей.
Я грубо тряс ее за плечи.
– Что ты говоришь, Эми? Ты стыдишься? Здесь нет ничего стыдного. Это все равно, как если бы кто-нибудь пытался тебя убить.
– Я не стыжусь.
– Тогда почему?
Она молчала.
– Или воображаешь, что все еще любишь его? Это невозможно. Ты не можешь его любить. Любовь кончается там, где начинается унижение. Там граница любви. Даже любовь должна иметь свои границы.
Она молчала.
– Черт с тобой! – пробормотал я. – Думаешь, без тебя не справлюсь?
Эми вцепилась в мой локоть.
– Никуда вы не пойдете!
– Скажи, где этот тип?
– Не скажу!
Я резким движением освободился от нее.
– Я сам его найду! – И выбежал вон.
7
Мне не пришлось его искать. Он ждал меня возле моего дома. Их было двое. Боби со своей презрительной усмешкой надменного ангела, и здоровяк с тупым выражением лица, выше его на целую голову.
Я не приверженец теории Ломброзо, утверждающей, что преступные наклонности индивида можно прочесть по его лицу. Тем не менее на этом лице нельзя было обнаружить никаких следов интеллекта. Холодные мышиные глазки, резко выступающие скулы, здоровенный квадратный подбородок с тяжелой челюстью и брезгливо опущенные губы. По-видимому, это был Рапона.
Меня охватило вдохновение. Вряд ли я могу объяснить, что такое вдохновение, – во всяком случае, это очень сильное нервное напряжение, когда ты совершенно отчетливо видишь, что должно произойти. Мне, например, весь ход моих дальнейших действий был очевиден. От моей бессмысленной ярости не осталось и следа. Я был сама уверенность и трезвый разум.
Боби подошел ко мне.
– Нам нужно поговорить.
Я усмехнулся. Я уже знал, что он именно это скажет.
– Хорошо, – ответил я, – пройдемте.
Я направился к двери. Он меня остановил.
– Нам бы хотелось поговорить с вами здесь.
И это мне было известно. Но я знал также, раз они пришли ко мне, значит, я им нужен больше, чем они мне.
– А я не хочу здесь. Пойдете?
Они переглянулись, затем последовали за мной. Мы молча поднялись на третий этаж. Я пригласил их в комнату. Они сели в кресла, я встал у двери. Моя жена и дочь еще не вернулись. Мы были одни в квартире.
– Так о чем же мы будем говорить? – спросил я.
– Вы очень нетерпеливы. – Боби нагло улыбнулся. – Разве вы нас не угостите?
– Я не привык угощать людей, подобных вам.
Улыбка исчезла. Лицо Рапоны оставалось тупым и тусклым. Он словно не слышал, о чем мы говорим.
– Хорошо, тогда начнем. Вы приятель следователя, не так ли?
– Да. Приятель.
– Один наш парень задержан.
– Знаю.
«Гости» снова переглянулись, Боби продолжал:
– Ведь это благодаря вам меня отпустили под залог.
– Залог внесла Эми, – напомнил я.
Он отмахнулся с досадой.
– Знаю. А можете вы сделать так, чтобы отпустили и нашего дружка?
Я ответил не сразу. Мне хотелось насладиться тем эффектом, который произведут мои слова:
– Нет. – Так сделать я не могу.
Но мои слова не произвели ожидаемого действия. Боби усмехнулся.
– Не спешите отказываться. – Он вытащил из кармана пачку банкнотов. – Ваш труд будет хорошо оплачен.
Теперь пришла моя очередь усмехнуться.
– Вы что, пытаетесь меня подкупить?
– Что вы! Ничуть. Это деньги, которые мы собрали для залога. А от вас требуется просто адвокатская услуга. Это ведь ненаказуемо?
– Оригинальный способ, однако, вы избрали, нанимая себе адвоката.
– У каждого свой способ.
– Но ваш не совсем удачен. И все-таки мне интересно, во сколько же вы меня оценили?
Боби небрежно, словно взвешивая, подбросил пачку на ладони.
– Это не все. Есть еще. Ну так как, согласны?
– Не утруждайтесь, – отрезал я. – Я не меняю свои взгляды.
Оба поднялись.
– Тогда нам больше не о чем говорить, – сквозь зубы процедил Боби. – Но мне кажется, что ваш отказ может стоить вам дорого. Могут быть большие неприятности… Ведь у вас есть маленькая дочка, не так ли?
Это был изрядный промах Боби. Я решился. Самоуверенный юнец не представлял себе, на что может отважиться отец, если угрожают его ребенку.
– Мне кажется, это может дорого стоить именно вам. Это у вас будут большие неприятности. И не спешите уходить. Я хочу еще кое-что вам сказать.
– Что?
– Тебя разыскивает милиция, и, поскольку ты скрываешься, конфискуют залог, который внесла Эми.
Он посмотрел на меня недоверчиво.
– Велика важность! Вот, верните ей! – Он бросил на стол несколько банкнотов. – Вы ведь добрые приятели.
Я поражался своему спокойствию и хладнокровию. Словно это был не я, а кто-то другой, наблюдающий со стороны. У меня даже голос не дрожал, когда я произнес:
– Хочу напомнить также, что за групповое изнасилование мера наказания – пятнадцать лет тюрьмы, а в особо тяжких случаях – смертная казнь. Мне не будет стоить большого труда убедить суд, что случай, особо тяжкий. Девушка получила психическую травму.
Оба насторожились.
– Не было изнасилования! – завопил Боби, от его ангельской надменности, не осталось и следа. – Она сама согласилась!
– Тебе будет трудно доказать подобную нелепость.
Не отрывая взгляда от «визитеров», я повернул ключ в замке и положил его в карман.
– Что вы собираетесь делать?
– Вызвать милицию.
Рапона продолжал стоять словно истукан. Однако его мышиные глазки осторожно меня ощупывали. Одним прыжком Боби достиг открытого окна.
– Слишком высоко, – заметил я, ему. – Три этажа. Больше девяти метров. В самом лучшем случае – сломанные ноги. Не говоря уже о позвоночнике.
Боби заботливо закрыл окно, обернулся, нагло осклабился и цинично заявил:
– А я и не собираюсь прыгать. Я просто закрыл окно, чтобы не слышно было вашего писка.
В руке Рапоны что-то щелкнуло. В кулаке блеснуло длинное лезвие. Такие ножи с пружиной я видел только в заграничных фильмах. Однако насколько сильна любовь к подражанию в преступном мире…
Боби ухмылялся.
– Этот верзила всегда носит с собой нож.
– А я вот никогда не ношу, – парировал я.
Все с тем же выражением безразличия на лице Рапона взялся чистить острием ножа ногти.
– Хватит, поиграли. Дайте ключ! – потребовал Боби.
– Не собираюсь.
Верзила молча двинулся на меня. Он не спешил. Остановился на расстоянии шага. Я почувствовал его дыхание. Бесцветные глазки смотрели на меня не мигая. Я не отводил взгляда – передо мной была сама преступность, жуткая, стремительно прогрессирующая болезнь: кража, изнасилование, подкуп, убийство… И остановить это можно только одним способом. Только одним. Я, конечно, ничего бы не потерял, если бы их выпустил. Не сегодня-завтра их все равно поймали бы. Нет, ничего бы не потерял. Но это был не выход. Кто-то должен был сломить их наглую уверенность в собственном героизме, должен доказать им, что они трусы, отчаянные трусы. Надо было уничтожить их именно нравственно. Но не ошибся ли я? Не увлекся ли собственным бессмысленным геройством? Какое там геройство! Несмотря на внешнее спокойствие, внутри у меня все дрожало от страха. Я не решался взглянуть на острие, приставленное к моему животу. Но решимость и дикая злоба придавали мне силы. Кто-то должен был доказать им, что они трусы. Выбор пал на меня. Каждый на моем месте должен поступить так. Только так.
– Дай ключ! – произнес наконец Рапона.
Голос его оказался неожиданно высоким, почти женским.
Я размахнулся и влепил ему пощечину, потом еще одну тыльной стороной ладони.
– Кретин! – кричал я. – Не заставляй меня пачкать о тебя руки.
Он отскочил. Оба съежились, словно побитые собаки. Зарычали. Видно, такого еще не случалось, чтобы человек кинулся на них с голыми руками. Началась игра нервов. Твердыми шагами я направился к телефону. Набрал номер Камена. Не знаю, что бы я делал, если б его не оказалось на месте.
– Пришли ко мне домой пару милиционеров, – сказал я. – У меня птицы, которые вас интересуют. Немедленно!
Он хотел, чтобы я ему объяснил, что случилось, но я повесил трубку. Нельзя было терять времени. Те двое начали приходить в себя. Этого нельзя было допускать. Я снова напустился на них:
– Вы трусы! – кричал я. – И не просто трусы, а тупые идиоты! Что у вас, совсем мозгов нет, чтобы поразмыслить? Ну, где вы скроетесь? Нет у нас места для таких, как вы. Нет! Вы нам не нужны! Любой может схватить вас за ухо и привести в милицию. Ножами размахивать! Детские игрушки! Шпана!
Несмотря на неподобающие выражения, то была самая вдохновенная речь, произнесенная когда-либо мною. Я не давал им духу перевести. Я пугал их, высмеивал, бросал им вызов и снова угрожал. Они кривлялись, огрызались, рычали, но не решались ничего предпринять. А я держал свои сильно дрожавшие руки в карманах.
– Ну, давайте! Чего ждете? Вас двое, а я один! У вас нож, а у меня нет! Что еще вам нужно? Подумайте! Напрягите свои слабенькие мозги и подумайте! Ну, убежите вы отсюда, а куда пойдете? Кто вас будет терпеть? Кто вас станет прятать? Кто? Сами вы себя осудили! Сами отрезали пути к отступлению! Подумайте! Или я вас обманываю? Дурачу? А? Придумали, что будете делать? Решили?
Я продолжал кричать, а по моей спине струился холодный пот.
Через десять минут, которые показались мне вечностью, я услышал, как у дома остановилась машина. Нужно было, собрав остатки самообладания, спокойно открыть дверь.
С двумя милиционерами вошел Камен.
Когда их выводили, у Рапоны было прежнее тупое выражение лица, но во взгляде Боби было столько злобы и ненависти, сколько мог вобрать в себя человеческий взгляд.
Мы остались вдвоем с Каменом.
– Что это за фокусы? – спросил он. – С подобными типами играть небезопасно.
– Оставь, – попросил я его. – У меня руки дрожат. Давай выпьем по рюмке коньяку.
Я не знал, как пояснить ему мою мысль о необходимости сломить нравственно преступную самоуверенность юнцов.
– Мне не положено, – отклонил Камен мое предложение. – Дежурю. Но завтра я свободен. Встретимся. Сейчас спешу.
Он ушел. Я услышал шум отъезжающей машины. Вытащил бутылку и налил себе полную рюмку. Нервная дрожь в руках постепенно прекратилась. Удалось даже зажечь сигарету.
Жена и дочь вернулись поздно. Коньяка в бутылке осталось совсем мало, и пепельница была переполнена окурками. Женщины принесли с собой знакомое мне ощущение домашнего уюта и тепла.
– Почему ты не пришел? – спросила жена. – Тебя ждали.
– Ты принес жевательную резинку? – спросила дочка.
Может, я был в состоянии опьянения, но мне вдруг показалось совершенно невероятным все, что произошло в этой комнате. В той самой комнате, куда пришли моя жена и дочь. Может, это была игра возбужденного алкоголем воображения и я сам придумал всю эту историю?
А мой похвальный гражданский героизм… Пусть даже так, поступил я правильно…
Удивительна способность алкоголя стирать грань между воображаемым и реальным.
– Ты бы хоть окно открыл, – недовольно заметила жена. – Здесь душно.
И именно теперь, когда я мог быть уже вполне спокоен, я вдруг почувствовал всем своим существом, что лицом к лицу столкнулся с самым ужасным, и испугался…
Я не мог понять…
Не мог понять желания Эми скрыть тех, кто ее унизил. Не мог понять ее отчаянной нетребовательной любви и ее бессмысленной готовности жертвовать собой. Не мог понять зловещего кодекса чести, который повелел Боби втоптать свою любимую в грязь. Не понимал я их алчного желания искать геройства в преступлениях.
Да, я встретился, нет, я столкнулся с отщепенцами нового, незнакомого мне поколения. На этот раз я выиграл, победил. Но я не чувствовал удовлетворения от этой победы, я испытывал лишь огромную тревогу, потому что не понимал… А мне надо было их понять. Ведь к этому поколению приближалась и моя пятилетняя дочь. А я хотел бы понимать ее во всем и всегда, потому что любовь моя к ней не имеет границ.
Может, я кажусь смешным в роли чересчур озабоченного родителя, но не все то, что смешно, заслуживает осмеяния.
Лиляна Михайлова
ОТКРОЙ, ЭТО Я…

Лиляна Михайлова. ОТВОРИ, АЗ СЪМ… София, 1972.
Перевод Л. Лихачевой.
1
Часа в три ночи Мария разбудила меня и спросила, что мне приснилось.
– Кричишь, сердишься. Просто невозможно заниматься. Опять распределение снилось?
А мне снилось, что я стою на дороге и машу проносящимся мимо грузовикам, чтоб меня посадили. Я не знаю, куда мне надо ехать, не вижу и лиц шоферов, потому что солнце бьет мне прямо в глаза. Это от лампы. Мария, прав да, прикрывает ее сделанным из газеты колпачком, но кровати наши стоят рядом, и, когда она занимается, мне всегда снится солнце. В другом конце комнаты спокойно спят две химички – они второкурсницы и еще очень далеки и от солнца и от распределения.
Ночью наша перенаселенная комната становится гораздо красивее. Учебники на полке кажутся настоящими книгами, а пестрая тень тополя превращает в кружево марлевую занавеску. Даже таблица Менделеева, висящая над кроватями химичек, ночью выглядит большим, сшитым из квадратиков ковром.
Надо еще поспать, хоть немного. Нельзя появляться перед комиссией с красными глазами – чего доброго, подумают, что плакала или вот-вот заплачу.
Одеяло пахнет мною. За пять лет оно пропиталось моим запахом. Через несколько дней я сдам его на склад, и комендант общежития, проверив, нет ли дыр и чернильных пятен, отправит его в прачечную. Там одеяло окончательно забудет обо мне, а осенью, чистое и пушистое, укутает какую-нибудь неизвестную мне первокурсницу.
Половина пятого. Комната медленно и печально теряет свое очарование. Книги на полке снова превращаются в учебники по аналитической химии и славянским литературам. Гаснет фонарь за окном, тают тени тополиных веток, и кружевной занавес опять становится застиранной марлей, а ковер над кроватями химичек – потрепанной таблицей Менделеева с чьим-то лихим росчерком на пустых, оставленных для неоткрытых элементов клетках.
Мария во сне пододвинулась ко мне совсем близко. С такого расстояния очень интересно рассматривать ее лицо. Красивая. Просто непонятно, почему ребята с нашего курса не любят с ней танцевать. Мария спит и смешно морщится, пытаясь освободиться от прядки волос, упавшей к ее губам. Распределение ее не волнует, она отличница и имеет право выбирать что захочет: Пловдив, Русе или Бургас. Не слишком-то приятно жить в одной комнате с отличницей – ни посвистать, ни радио включить без спросу, а ночью хочешь не хочешь приходится видеть во сне солнце.
Наши руки лежат на подушках совсем рядом. У Марии рука широкая, с квадратными ногтями, точно такая же, как у ее матери, ямбольской крестьянки в расшитой монистами безрукавке. Она приезжала к нам прошлой весной, просидела полдня на дочкиной кровати, а мы потом целую неделю ели домашнее печенье и отдающие погребом яблоки. Моя мама никогда не приезжала навестить меня, только присылала корзиночки с крутыми яйцами и письма. В последнем сказано: постарайся, доченька, вернуться в Пловдив. Скажи там, в комиссии, дом, мол, у нас в Пловдиве и отец болен астмой. Сама знаешь…
Что я знаю? В Пловдив поедет кто-нибудь из отличников, может даже Мария. А меня, кто знает, куда меня пошлют…
Главное – явиться на комиссию спокойной и с гладкой, как можно более гладкой прической. Начну с того, что мы с Михаилом женаты вот уже четыре месяца, а до сих пор не живем вместе и что если меня не пошлют в город, куда он получил назначение, то… Тут нужно сказать что-нибудь очень сильное и трогательное. Пока, правда, я не могу придумать ничего подходящего, но на комиссии, надо надеяться, что-нибудь соображу. У меня уже так бывало на экзаменах.
С постели я не встаю, а вскакиваю, потому что иначе правый угол пружинного матраца нестерпимо скрипит.
Самое хорошее в нашем студенческом общежитии – это душ. Горячую воду, правда, дают не часто, да и тогда кочегар фокусничает, наверное, ему нравится, что мокрые девушки, завернувшись в халаты и простыни, бегают к нему в подвал объясняться. Холодная вода обжигает кожу, я закрываю глаза и забываю обо всем на свете, даже о распределении. Я думаю только об августе… Михаил сказал, что мы поедем к морю… и будем жить вместе. Поставим палатку, сложим очаг из двух камней… Хлопает дверь, но у меня нет никакого желания открыть глаза и взглянуть, кто пришел.
– Доброе утро. Ты еще спишь?
У самого моего лица сияет белозубая улыбка Сюзанны. Она из Сенегала. Под душем ее красивое черное тело похоже на омываемую дождем статую. Сюзанна знает очень мало болгарских слов, но говорить с ней интересно: могут, конечно, получиться двусмысленности, но уж зато не будет сказано ничего ненужного.
– Сегодня распределение?
– Да.
– Ты куда?
– Куда пошлют.
Сюзанна больше не спрашивает. Может, не знает других вопросов, а может быть, холодная струя тоже напоминает ей поток и чье-то обещание. Прозрачная мыльная пена, ненужная и чужая, скатывается с ее темной кожи. Сердце мое вдруг сжимает грусть-разлучница. Ведь я наверняка уже никогда не увижу эту девушку из Сенегала. Ее красивое тело будет рожать детей, танцевать и отдыхать в густой, словно вырезанной из черной бумаги, тени пальм, но никогда больше Сюзанна не будет так близко от меня, чтоб можно было рассмотреть на ее левом виске три топкие черточки какого-то древнего племенного знака.
Я выхожу тихонько, потому что не хочу, чтобы Сюзанна открыла глаза, ведь, быть может, кипящая струя напоминает ей поток и чье-то обещание.
Выглаженная еще с вечера голубая блузка дожидается меня, расправленная на спинке стула.
2
В такие часы многое забывается… Забываются экскурсии и групповые снимки, на которых ребята всегда лежат впереди, а кто-нибудь из девушек непременно попадает в объектив именно в тот момент, когда нужно поправить волосы. Забываются вечера в стройотрядах и спасительные слова, которые друг шепнул тебе на экзаменах. И сколько еще всего забывается в часы, когда, столпившись у дверей кабинета, где заседает комиссия по распределению, двадцатитрехлетние парни и девушки напряженно ожидают начала своей жизни!
Дверь пропускает нас поодиночке. Хуже экзаменов – туда мы входили по четыре человека сразу. Новое, разъединяющее чувство пронизывает воздух. Сегодня даже самые разговорчивые купили себе сигареты, чтобы поменьше общаться. Нас вызывают по списку.








