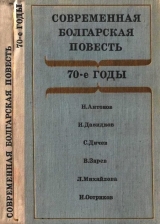
Текст книги "Современная болгарская повесть"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Владимир Зарев,Стефан Дичев,Иван Давидков
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
– В полсекунды, ребята, в полсекунды! Напарник у него новичок. Выронил металл, а наш бросился… оттолкнул того, спас, а сам не успел, металл упал ему вот сюда. – Шофер поднял руку к третьей пуговице на рубашке и забыл ее там.
Я вспомнила, как шипела на вальцах красная раскаленная змея. Как рабочие, насторожившись, ждали, когда в конце линии появится ее голова, хватали ее длинными клещами, и на одно короткое мгновение их тела опоясывала огненная дуга.
– Полсекунды, ребята, всего полсекунды! – стонал надо мной голос Семо. – Словно пуля резанула, и, пока его вытащили, рубашка уже задымилась. А когда я прибежал, не было уже нашего Костадина, увезли его на «скорой помощи», а зачем?.. Все вокруг стоят как потерянные, а тот, спасенный, сидит на цементе и плачет.
Я не могла оставаться в классе. Всем своим существом я чувствовала, что стоит мне взглянуть на парту Костадина, как внутри у меня что-то зазвенит и сорвется. Прижав к груди журнал, я выбежала из класса. Вслед мне неслись сдавленные всхлипы Антонии, это слезами девушки оплакивала смерть Костадина моя мужская I «б» группа.
На похороны я не пошла, только постояла у подъезда нового дома, где Костадин недавно дали квартиру, но так и не нашла в себе силы подняться по лестнице. Потолкавшись в толпе, я остановилась на тротуаре по другую сторону улицы. Не хотела я видеть Костадина и его русые волосы, расчесанные чужой рукой. Я хотела запомнить его в зеленой, шуршащей от каждого движения и вечно выдававшей его куртке, когда, опоздав на урок, он надеялся незаметно пробраться на свое место. В тени акации стоял пыльный грузовик с ямбольским номером, и сквозь щели кузова поблескивали ягоды черешен.
Я долго смотрела на них, чувствуя, что отныне любое воспоминание об этом тягостном дне обязательно вызовет в моей памяти эти алые, сочные, полные жизни ягоды, так весело отрицающие смерть.
Толпа у подъезда становилась все гуще, наверное, это была первая смерть в новом квартале. Детишки, привыкшие, что люди собираются вместе для веселья, сейчас, скопившись в скверике, поглядывали на толпу, не смея начать свои игры.
Откуда-то появился Семо. Я подозвала его и попросила показать человека, из-за которого погиб Костадин.
Плотный, мускулистый паренек прошел совсем рядом с нами. Рыжая щетина на небритых щеках поблескивала, словно кусочки медной проволоки, а все его круглое лицо и серые глаза дымились безысходной, гнетущей скорбью.
Ради каждого из нас когда-то погиб человек. Погиб на войне или в восстании, но мы не знаем его, потому что были тогда детьми или вообще не родились, а пока выросли, время возвысило эту смерть настолько, что она стала для нас и святой историей и долгом – ведь для того павшего бойца именно мы были воплощением его мечты, воплощением его будущего. Но как жить, если вчера, только вчера из-за тебя погиб другой человек, и ты дружил с ним, закуривал из его пачки и знал, какое имя тот выбрал для своего еще не родившегося ребенка.
Паренек ушел, черная лента перетянула его рукав, не давая ему наполниться ветром. Какой-то старик прибивал некролог к потрескавшейся коре акации. И некролог я тоже не хотела видеть. Эту же самую улыбающуюся фотографию девять месяцев назад я вклеила в студенческую карточку Костадина.
– Семо, я уйду, – тихо сказала я.
Шофер взглянул на меня невыспавшимися глазами, но не спросил почему.
Я сберегла те листочки, никому не отдала. «Самый лучший человек из тех, кого я знаю…» Что тогда написал Костадин? И я заторопилась домой. Там у меня в шкафу среди прочих бумаг сохранился кусочек мысли моего молчаливого ученика, несколько написанных его рукой строчек, которые, может быть, объяснят мне его жизнь и его смерть.
Когда человеку впервые приходит мысль о смерти? Наверное, не в те далекие детские годы, когда он ниточной петлей отсекает головку майскому жуку, насаживает на иголку бабочек или до тех пор сжимает в кулачке выпавшего из гнезда птенца, пока не заглохнет чудесный пульсирующий механизм птичьего сердечка. Нет, все это еще не смерть, даже не познание смерти – это всего лишь игра, жестокая игра, при помощи которой маленький человек знакомится с природой.
Нас, детей, смерть сначала удивляет. Так удивляло внезапное исчезновение бабушки, которая по утрам приносила молоко, оставляя за дверью полные бутылки. Два-три дня молока не было, а потом как-нибудь утром появлялся неизвестный тихий человек со знакомым бидоном и объяснял, что он сын той бабушки. И, сделав несколько пустых оборотов, снова начинало вертеться колесо дней, огромных долгих дней, которым в те детские годы не грозил никакой закат. Потом мрачная правда смерти делала еще один шаг к нашим сердцам. Умирал любимый артист. Мы никогда не встречались с ним, потому что жил он в далеком городе или в еще более далекой стране, и наше чувство было не столько любовью, сколько потребностью восхищаться красотой. Но и это еще не было познанием смерти. Если мы не помним тепло рук человека, если не слышим, как звучит его голос, звучит только для нас, мы можем долго грустить о нем и помнить, но наша печаль остается слишком разлитой и общей, лишенной тех тонких-тонких корней, которые навсегда врастают в сердце и мешают времени вырвать ее оттуда. И может быть, впервые мы по-настоящему чувствуем смерть, лишь когда она отнимает у нас того, кто жил рядом с нами, родного, близкого человека со всеми его достоинствами, которые мы снова и снова будем вспоминать с горестной скорбью, и всеми его недостатками, которые, даже побледнев от времени, будут придавать правдивость и жизненную достоверность нашим воспоминаниям.
Я разложила сочинения на столе и сразу же наткнулась на листок Костадина. «…Один и тот же человек может быть когда хорошим, а когда и плохим. Все дело в том, чего хотят от него другие и на какой странице раскрыли его душу».
25
Директор собрал нас и заявил:
– Обращаюсь ко всем, и прежде всего к некоторым товарищам. Этой весной я буду строго проверять заявления с просьбой об отпуске для постройки дома. Хочу предупредить, что прошлогодних историй в этом году я на допущу.
Насчет «прошлогодних историй» меня просветила красивая математичка, когда мы вместе возвращались из техникума. Потом, извинившись за рассеянность, она рассказала о показаниях к употреблению таблеток неуролакс.
– Их принимают при нервном возбуждении, перед выходом на сцену, перед экзаменами.
Да, или перед сбойкой туннеля.
Первым отпуск для постройки дома попросил у меня Димитр Инджезов. В правом верхнем углу заявления я написала: «Разрешаю на три дня».
– Хватит, – довольно вздохнул он. – Как раз закончим фундамент.
Потом заявлении стало уже четыре. Написаны они были слово в слово; похоже, кто-нибудь со старших курсов дал моим «первоклашкам» образец.
– Четыре – это ничего, – успокоила меня Андреева, – я уже подписала восемь.
– А как я буду знать, что в эти дни они действительно закладывали фундамент? Не могу же я требовать, чтобы мне предъявляли разрешение на постройку?
– Да нет, достаточно будет потом взглянуть на их руки, – спокойно проговорила старая учительница.
Вечером в прихожей меня встретил голос Михаила!
– Тебе открытка из-за границы. Жду объяснений.
Открытка была от Стоилчо Антова. Три верблюда среди желтых песков, а над ними безоблачное синее небо. «Привет от жаркой Африки, – написал на обороте плотник, – а больше всего от меня. Прошу заверить мой табель за первое полугодие и перевести меня на заочное отделение».
Адрес был написан по-французски старательно вырисованными печатными буквами.
– Это от моего бывшего ученика, – сказала я, – помнишь плотника, который осенью вместе с сыном полировал перила у нас на лестнице?
– Конечно, – лукаво ответил Михаил, – тот самый, который однажды в воскресенье явился к тебе с ореховой морилкой?
– Ты что, подслушивал? – возмутилась я.
– Нет, просто из-за двери все слышно, но я, между прочим, не говорил, что у тебя есть от меня секреты.
– Какие же это секреты? Просто умолчание. Ты же ведь до сих пор молчишь, что сбойка туннеля должна произойти двадцать девятого мая.
Лицо Михаила внезапно напряглось и стало чужим.
– Вот именно, двадцать девятого мая. Ты отлично осведомлена, но неужели ты думаешь, что твоя осведомленность чему-нибудь поможет?
– Да, – сказала я. – По крайней мере утром двадцать девятого, уходя на работу, тебе не нужно будет притворяться веселым.
– А тебе очень хочется видеть, как я не смогу завязать ботинок, потому что руки у меня будут трястись от страха?
В голосе Михаила незнакомо сверкнули острые лезвия, впились в мягкую оболочку его прежних слов и сорвали ее. Михаил защищал свою гордость от всех, даже от меня. Вот она, самая характерная и самая болезненная черта человека, с которым мне предстоит прожить всю жизнь. Что ж, придется иметь это в виду и, когда потребуется, незаметно гасить ее или терпеливо лечить. Я подошла к Михаилу и положила ладони ему на грудь под расстегнутый ворот рубашки:
– Зачем ты шутишь? Разве я могу представить тебя испуганным? Просто мне хочется, чтобы мы всегда оставались естественными.
Мы проговорили с ним допоздна.
Починенный телевизор соседей беспрепятственно познакомил нас сквозь тонкую стену со всей своей программой, успокоил слушателей насчет завтрашней погоды, которая опять будет солнечной с незначительной облачностью, объявил, что повторение урока английского языка начнется завтра в десять часов утра, пожелал всем спокойной ночи и замолк. Немного спустя, услышав ровное дыхание Михаила, я набросила на плечи кофточку и вернулась на кухню проверять классные работы. Сейчас меня удивил Мариан. У мальчика изменился даже почерк. Я заглянула в конец тетради. На последней странице ученики по моему требованию записывали план сочинения, и часто эти планы помогали мне отчетливее увидеть новое, разбуженное движение их мысли. Под десятью пунктами плана Мариан, вероятно обдумывая, с чего начать следующую строчку, нарисовал два пикирующих самолета. Он и Филипп получили по шестерке. Тетради Антонии и Ивана Дочева лежали рядом. Я вспомнила, что еще до звонка горноспасатель угловатым движением положил их на кучку лежащих на кафедре тетрадей. Вот уже неделя, как он сидел на одной парте с девушкой, и я не знала, радоваться ли мне этому или бояться. Оба получили по четверке с плюсом. Они выбрали одинаковые темы, но было видно, что достоинство шахтера ни разу не позволило ему заглянуть в тетрадь Антонии. Только одному из всей группы пришлось поставить двойку. Может случиться, что осенью ему придется сдавать дополнительный экзамен. Если меня к тому времени сократят, то осенью Андреева или Киранова смогут решить его судьбу более уступчиво. Последнее время я все чаще думала о сокращении. В течение года я не вспоминала о нем целыми месяцами, и хорошо, что это было так.
За окном, в темной весенней ночи, маневрировали поезда, выбирая себе рельсы на следующий день. Из раскрытой балконной двери тянуло запахом молодой тополиной листвы, которую то и дело обдавали клубы дыма.
Утром меня разбудил телефон.
– Тебя, – протянул мне трубку Михаил. – Женский голос.
Звонила Антония. Вероятно, из какой-нибудь городской будки с выбитыми стеклами, потому что было слышно, как рядом проносятся грузовики и покрикивает продавец воздушной кукурузы. Девушка извинялась, что беспокоит меня так рано, и спросила, можно ли ей зайти к нам.
– На десять минут… Хочу посоветоваться… очень важный вопрос.
– Приходи, немедленно приходи, Антония! – ответила я.
– Очередная воскресная консультация? – сонным голосом осведомился Михаил.
Не успела я застегнуть платье, как тихий и неуверенный звонок вызвал меня в прихожую. На пороге стояла Антония. Даже при свете слабой лампочки было видно, как она бледна. Маленькая холодная ладошка дрогнула у меня в руке, и девушка позволила отвести себя в комнату. Она примостилась на самом краешке кресла, словно бы желая уверить меня в краткости своего раннего визита. Другие ученики тоже иногда приходили по воскресеньям, и меня всегда волновал первый, откровенно любопытный взгляд, которым они с самого порога окидывали комнату. У меня было ощущение, что я впускаю их прямо в свою жизнь, что даже заглавия стоящих в шкафу книг раскрывают им мою душу, а выбор глиняных фигурок и картин меняет или дополняет их представление обо мне. Сильнее всего я волновалась, когда знакомила своих учеников с Михаилом, и страшно радовалась, что он им нравится. Однако Антония даже не взглянула на комнату. Вопрос, с которым она пришла, жег ее, и бедняжка, видно, собирала последние силы, чтобы его высказать.
– Я ненадолго. Вы извините, что так рано…
Ее темные волосы были расчесаны только спереди и явно наспех. Спутанное облако на затылке лучше всяких объяснений свидетельствовало о бессонной ночи, о ее напрасных попытках распутать узел этого великого вопроса и о том, что под утро в предрассветном сумраке она вдруг почувствовала себя отчаянно одинокой и решилась позвонить мне.
– Вы ведь знаете нашего воспитателя Георгия Неделчева?
– Еще с университета.
– Он, когда приезжал, рассказал вам обо мне все?
Если бы я знала, что сейчас окажется для Антонии спасительным – отрицание или откровенное «да»!
– Пожалуйста, скажите мне правду, – девушка настойчиво смотрела на меня, и ее глаза, обведенные синими, тоскливыми кругами, заблестели.
– Да, – кивнула я после короткой паузы, чувствуя, как все во мне дрожит, будто стрелка весов, дрожит и сопротивляется этому ответу.
Она была готова к удару и слегка наклонила голову, словно для того, чтобы ослабить его силу.
– Даже и… о том?
– Да, Антония.
– А как, по-вашему, почему он решил вам рассказать об этом?
Было ясно: как бы я ни ответила, в моих словах будет заключена частица ответа на тот больной вопрос, который привел сюда девушку.
– Потому что я твоя учительница, Антония, и потому что я не могла бы ничем помочь тебе, если бы не знала всего, что ты пережила до того, как стала моей ученицей. И потом, нам ведь еще целых четыре года предстоит быть вместе.
Девушка дрогнула, пальцы ее изо всех сил сжали подлокотники кресла.
– В таком случае, наверное, еще нужнее, чтобы вы знали все-все?
Понятно… Антония влюблена и хочет, чтобы я помогла ей распутать сложное сплетение ее прошлого с теперешней любовью.
– Он по-настоящему любит тебя, Антония? – тихо спросила я.
– Мне кажется, да, – так же тихо ответила она, ничуть не удивившись моему прямому вопросу. – Вы его знаете.
– Знаю, Антония.
– А я… должна ему рассказать… о том? – внезапно выкрикнула девушка, и крик этот словно выдернул пружину, до сих пор поддерживавшую ее тело. Оставшись без опоры, девушка бессильно откинулась на спинку кресла, сжала ладонями виски и замерла в ожидании.
Меня охватило вполне определенное ощущение: я хирург, которому вот сейчас, сию минуту предстоит произвести операцию на сердце, и у меня нет времени ни подумать, ни выкурить сигарету.
– Послушай, – медленно начала я, чтобы выиграть хотя бы секунду, – знаешь, как я обрадовалась, когда увидела, что Иван Дочев пересел на твою парту?
Девичьи ресницы дрогнули.
– Мне кажется, ты должна рассказать ему все, Антония. И… о том тоже.
Она быстро взглянула на меня. В глазах у нее горело темное пламя отчаяния. Какое я имела право говорить ей такие вещи? Сможет ли она, охваченная безысходной скорбью, понять меня, если я попробую объяснить, что, начавшись со лжи, вся ее дальнейшая жизнь станет мукой, а любовь выродится в страх и раболепную покорность?
– Скажи ему правду, Антония, скажи теперь, и это будет единственным вашим разговором о прошлом. А если промолчишь, прошлое рано или поздно встанет между вами и вечно будет разделять вас, даже любовь твоя может стать неискренней.
– А если он меня бросит? – глухо спросила девушка.
– Не знаю… Если бросит, тогда, мне кажется, лучше, чтобы это произошло сейчас. – Я понимала, что говорю жестокие вещи и что каждое мое слово ранит Антонию, но иначе я не могла. Хотелось спасти эту девушку от нечистого шепота, который через какое-то время мог бы отравить ее жизнь. От того самого злорадного шепота на лестничных площадках, что так безнаказанно расследует тайны людских неудач и усыновленных детей.
– Ты хороший человек, Антония. Если Иван узнал уже твое сердце, он, может быть, будет долго страдать, но от тебя не уйдет. Потому что, поверь, ты действительно самая хорошая из всех девушек, которые учатся у нас в техникуме.
Она опустила голову и беззвучно заплакала, терзая лежащий на коленях голубой платочек. На безымянном пальце поблескивало бронзовое колечко с прозрачным камешком из простого стекла.
– Пойду сварю кофе, – поднялась я, почувствовав, что ей ненадолго нужно остаться одной.
Когда я вернулась с чашками, Антония сидела на том же месте, но глаза у нее уже были сухие.
– Когда-то моя бабушка гадала на кофейной гуще. – Она печально улыбнулась. – Интересно, что бы они нагадала мне сейчас.
Я заглянула в ее чашку и очень серьезно сказала:
– Она сообщила бы, что, во-первых, за классную работу ты получила четыре с плюсом, что, во-вторых, молодая темноволосая дама только что пригласила тебя обедать, хотя пока у нее ничего к обеду нет и сама она понятия не имеет, чем будет тебя угощать.
– Нет, нет… спасибо, я пойду, – смущенно сказала Антония. – Я только попрошу у вас стакан воды.
Девушка ушла, и после нее в комнате осталась пустая солнечная тишина. Стеклянная дверь спальни тихонько открылась, Михаил остановился за моим креслом.
– Ты опять все слышал? – с усталой иронией спросила я.
– Слышал, – признался Михаил и поцеловал мои закрытые глаза.
26
– Велено на большой перемене всем спуститься в учительскую, – сказала мне Киранова. – Директор будет раздавать ленты на завтра.
– Какие ленты? – удивилась я.
– Ах, верно, ты ведь еще не знакома со здешними порядками. Каждый год перед праздником славянской письменности у нас составляется список тех, кому должна быть выдана лента с надписью «отличник». Для этого вчера директор и собирал журналы. Впрочем, я видела список – на твою группу приходятся две ленты. У меня четыре, – с притворным безразличием добавила она. – А у Андреевой, представь себе, целых семь.
– Я слышала, что у нее действительно хорошая группа, – прервала я.
– Это верно, – тактично отступила Киранова. – Но я никогда не соглашусь с ее «гуманизмом», который только распускает учеников, приучает их считать всех остальных преподавателей придирами и педантами. Подобный гуманизм, по-моему, вообще вреден в современной школе.
До сих пор тень предстоящего сокращения только скользила надо мной, теперь я впервые осязаемо почувствовала ее враждебный холод. Интересно, что Киранова говорила Андреевой обо мне?
Директор превратил раздачу лент в маленький школьный праздник. Он по одному вызывал руководителей групп, вручал им шуршащие полосы бумаги и торжественно пожимал руку. На его светлом, хорошо выбритом лице было видно настоящее волнение. Человек этот поистине умел создавать ритуалы и отдавался им всей душой. Очень скоро я убедилась в искренности его волнения, когда мне пришлось вручать ленты Филиппу и Мариану.
Группа затихла. Я вызвала обоих к доске и подняла ленты над открытым журналом, не зная, с чего начать. В такие минуты в моем измученном мозгу коварнейшим образом бесчинствует легковесный словарь шаблона. Я еле удержалась, чтобы не сказать: «За отличные успехи руководство техникума, в связи с завтрашним праздником…»
Мальчик и пожилой мужчина смущенно переминались у кафедры. Я молча протянула им ленты и, как это десять минут назад сделал директор, неожиданно для себя самой горячо пожала им руки.
Мариан двумя пальцами взял ленту за кончик плодожил на парту, а Филипп старательно свернул ее и спрятал в свой кожаный портфель. Острые складки ленты получились даже на фотографии, которую мы сделали на следующий день на демонстрации. Утро было солнечным, и снимок вышел очень отчетливым: вся наша группа, я в центре, по обе стороны от меня Мариан и Филипп с лентами через плечо, а в первом ряду, прижавшись к белому платью Антонии, улыбалась младшая дочурка Семо Влычкова. Объектив случайно поймал и стоявшего сбоку старого инженера по горным машинам, как раз тогда, когда он украдкой поглядывал на кичливую участницу хора в красочном фракийском наряде. Этот же снимок помог мне узнать еще кое-что, не замеченное во время демонстрации, потому что тогда Киранова совсем сбила меня с толку. Она подняла настоящую панику по поводу того, кто из преподавательниц будет ассистировать директору во время торжественного марша перед трибуной. Я обнаружила также, что из-под отворотов черных пиджаков Филиппа и Семо Влычкова выглядывают золотистые краешки орденов и… что Антония и Иван стоят рядом. Но радость моя по этому поводу оказалась преждевременной.
Когда в понедельник я открыла дверь моего класса, то, не успев еще дойти по скрипучему паркету до кафедры, поняла – случилось то, чего я больше всего опасалась: шахтер оставил парту Антонин и мрачный, как замурованное окно, опять сидел с Марианом.
Прежде всего я взглянула на девушку. До конца своих дней не перестала бы я проклинать себя, если б увидела в ее глазах обвинение, но черные зеницы горели только скорбью и обидой. Через силу я спросила одного ученика – парнишка хотел исправить тройку, – но я так рассеянно слушала его ответ, что, не желая быть несправедливой, пообещала вызвать его еще раз. Потом наскоро объяснила урок и, не дожидаясь звонка, вышла.
В коридоре уборщица возила по длинному полу мокрой тряпкой и чуть слышно мурлыкала себе под нос. Из-под ее косынки торчала красная гвоздика, ритмично подскакивающая при каждом движении. Я представила себе, как, наверное, приятно чувствовать на щеке нежное прикосновение лепестков.
– Что смотришь, Георгиева? Можно подумать, завидуешь мне! – Наконец заметила меня женщина, сунула руки в карманы синего халата и засмеялась, довольная своей шуткой.
Я и правда завидовала ей. Завидовала свежему влажному запаху мозаичного пола, прикосновению лепестков гвоздики, тому, что никто не возлагает на нее тяжкой ответственности за чью-то судьбу.
– Вот я и говорю, Георгиева, нет чтоб кто-нибудь пришел позавидовать мне пятнадцатого, когда зарплату выдают, – лукаво закончила женщина, сводя все на свете различия к своим простым и бесхитростным величинам.
Я пошла было дальше, но голос уборщицы предупредил меня:
– Не ходи в учительскую, там ваша инспекторша приехала, а звонка-то еще не было.
Я знала, зачем она приехала. Надо было помочь директору, который накануне признался Кирановой, что для него предстоящее сокращение – весы с четырьмя чашками, не с тремя, а именно с четырьмя: на трех мы, а на четвертой его совесть. Сравнение мне понравилось, хорошо если б так оно и было на самом деле.
В начале года мне казалось: когда придет этот час, я скажу, что добровольно оставляю техникум и перейду в обычную школу, к детям. Но с тех пор жизнь моя настолько сплелась с жизнью двадцати семи мужчин и одной девушки из I «б» группы, с гибелью Костадина, что уйти сейчас для меня все равно, что вытянуть нитку из крепко скрученной конопляной веревки.
– Добрый вечер. У вас «окно»? – заставил меня очнуться полузабытый голос стоявшей у буфета инспекторши.
Глупо было, имея «окно», расхаживать по техникуму с журналом под мышкой, но она вежливо предоставляла мне возможность вывернуться.
И, стоя на узеньком балконе, в аромате цветущих акаций, я рассказала ей об Антонии. Просто не могла говорить ни о чем другом. Обиженные скорбные глаза девушки горели передо мной, до встречи с Михаилом было еще очень далеко, и вообще я попросту не смогла бы вести остальные уроки, если б немедленно не рассказала кому-нибудь об Антонии и о совете, которым я, может быть, разбила ей жизнь.
Инспекторша слушала меня, опустив голову, и, когда я кончила, коснулась рукой моих пальцев и легонько их сжала. Я вспомнила свое давнее обещание и объяснила, почему тогда, в ее первое посещение, я вызвала парнишку, который получил тройку.
Вечером мы возвращались домой вместе с красивой математичкой. Думая о другом, я не очень прислушивалась к ее словам и лишь время от времени, чтобы не выдать себя, кивала, уловив вопросительную паузу.
– Почему бы тебе не воспользоваться случаем? – повторила она.
Я не слышала, о каком случае шла речь, и виновато попросила пояснения.
– Если вдруг станет известно, что ты ждешь ребенка, сокращение автоматически тебя минует, – таинственным шепотом объяснила математичка и, ободренная моим молчанием, продолжала: – Представляешь, каким ударом это будет для тех двух?
Удар?.. Связанная с еще не родившимся человеком, эта фраза показалась мне смешной и нелепой.
– Чего ты улыбаешься? – возмущенно остановилась математичка. – Я говорю серьезно.
– Сожалею, – ответила я, – но наш ребенок, по-видимому, родится несколько позже.
Я взглянула вверх. Окна наши светились, а на балконе вспыхивал огонек сигареты. За всеми своими заботами я начисто забыла о том, что завтра – двадцать девятое мая.
Утром я приготовила ему кофе с молоком, но рудничный «газик» прибыл раньше обычного, и Михаил не успел допить чашку. Я не вышла проводить его на лестницу, только пожала ему руку и попросила на обратном пути купить хлеба. Мне хотелось, чтобы это утро ничем не отличалось от остальных.
– Как только поднимусь наверх после сбойки, позвоню, – сказал Михаил вместо «до свидания».
Целый день я находила себе работу поближе к безмолвному, словно онемевшему, телефону. Стоило мне уйти в кухню, как я тут же явственно слышала звонок и, обманутая, бросалась назад. Но телефон молчал. В конце концов от непрерывного ожидания в ушах, у меня начался такой трезвон, что я всерьез испугалась, что не услышу, если он действительно позвонит. Я представляла себе, как именно в эту минуту встречаются оба участка туннеля, разделяющая их стена становится все тоньше и в ней вдруг показывается блестящее острие кирки, а кто-то в темноте уже обнимает Михаила и трется небритой щекой о его лицо и как Михаил вырывается из его рук, бежит назад между рельсами и, в своей сколоченной из досок канцелярии стоя, грязным пальцем набирает номер нашего телефона. Или как в это самое время выясняется, что обе части туннеля разошлись в огромной темной толще земли, словно кротовьи ходы, и созвездие шахтерских лампочек гневно ищет лицо Михаила…
До шести часов телефон так и не зазвонил. Даже запирая дверь, я прислушивалась, но в квартире царила холодная, безжизненная тишина, которая мгновенно заполняет каждый оставленный людьми дом.
До сих пор я не могу вспомнить, кого я в этот день вызывала, с кем разговаривала во время перемен, но зато в память мою вполне отчетливо врезалось, как к концу третьего урока дверь класса тихонько отворилась и уборщица поманила меня влажным пальцем.
– Твой-то, Георгиева, только что звонил в канцелярию.
Я шагнула к ней, чтобы ее слова еще быстрее пробежали это маленькое расстояние.
– Позвонил и велел тебе сообщить, что с туннелем все в порядке.
Вероятно, мое лицо подсказало женщине, какой важности весть она мне принесла.
– Я сразу поняла, что это очень важно, – довольно зачастила та, – и говорю кассирше, чего там ждать перемены, пойду-ка я сейчас да и успокою человека.
До конца уроков я поставила целых четыре пятерки. Такой урожай мог грозить мне опасными последствиями, но сокращение вообще выскочило у меня из головы. Я была счастлива и не хотела никого огорчать.
В теплоте ночи чувствовалось первое дыхание лета.
Я шла по улице, и меня обгоняли мои взрослые ученики, торопившиеся кто на автобус, а кто и на рудник. Где-то за спиной заурчал остывший грузовик Семо Влычкова; вздув рубашку, промчался на мопеде парнишка, получивший когда-то тройку на инспекторском уроке. Прошла Антония, и ее белая блузка долго светилась в темноте. Под большой акацией Мариан и Иван Дочев остановились прикурить у Димитра Инджезова, и в кратком свете спички мне показалось, что Иван обернулся в сторону девушки. Тяжело шагая, догнал меня Филипп, из его незакрытого портфеля торчали две буханки хлеба.
Через несколько дней все решится…
Директор и инспектор по болгарскому языку вызовут нас в кабинет, и в сентябре одной из трех уже не придется возвращаться домой теплой осенней ночью и кивать обгоняющим ее ученикам.
Одной из трех. И может быть, мне…
Неужели никогда больше не войду я в класс моей группы, никогда не обдаст меня запахом горячего железа, влажного угля, бензина? Я остановилась и оглянулась. Окна техникума светились. Я полюбила это здание, его большую жизнь и знаю, что всякий раз, когда я, уже чужая, буду проходить мимо, сердце у меня будет сжиматься…
Впрочем, если разобраться, что я сделала для того, чтобы именно меня оставили в техникуме? В эту ночь мне предстояло обдумать все, весь мой первый учебный год – от начала и до конца…
Владимир Зарев
ПРОЦЕСС

Владимир Зарев. ПРОЦЕСЪТ. София, 1973.
Перевод Н. Зяягиной.
1
А по вопросу, ради обсуждения которого мы собрались, скажу:
не уничтожайте искушения, ибо сделаете подвиг спасения весьма легким.
Елин Пелин
Андрей улыбался… От его бледного лица веяло свежестью и ароматом хвои. Я видела свет в его темных глазах, которые словно бы расширило беспокойство и ощущение вины. Его зрачки напоминали зернышки исчерна-коричневого кофе и, казалось, источали тот же аромат кофе. Руки, как всегда, были расслаблены и уверенны…
Андрей мне нравился, но в его присутствии я испытывала какое-то непонятное чувство жалости к самой себе. Порой мне казалось, будто что-то в нем не так, – то глаза слишком колючие, то рубашки чрезмерно яркие, то талия очень уж тонкая. Я надеялась, что Андрей устанет быть таким, каков есть. Я знаю его почти десять лет, и, быть может, как раз в этом и заключается главная причина того, что я так мало знаю о нем.
Когда мы перешли в одиннадцатый класс, у нас стала преподавать химию приземистая, полная и очень злая учительница, которую мы прозвали Молекулой. Для нас не было ничего обиднее, чем уроки химии, потому что одно ее присутствие задевало нас и мешало ощущать себя полноценными людьми.
Однажды в кабинете химии на глазах у всех я высыпала на ее стул пачку канцелярских кнопок, к общей радости всех. Молекула вошла в класс, грузно, в раскачку прошла к столу и, как обычно, села. Ее крик постепенно сменился глупой безысходной тишиной, и произошло нечто неожиданное – она заплакала. От злости ли, от какой-то тайной, скрытой муки или от страха?
Спустя несколько минут Молекула вернулась с директором – симпатичным молодым мужчиной в темных очках, который во всеуслышание заявил:








