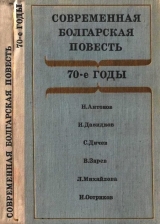
Текст книги "Современная болгарская повесть"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Владимир Зарев,Стефан Дичев,Иван Давидков
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
– Иду домой, – продолжал рассказывать гость, – спина горит от побоев, и думаю: «Всегда найдутся дураки, готовые таскать каштаны из огня. Эх, Борис, Борис, и чего ты лезешь не в свое дело? Зачем обжигаешь пальцы?» И вот пришел я как-то утром в мастерскую отца, поставил стул рядом с его рабочим местом, помешал кисточкой столярный клей и сказал: «Хорошему ремеслу обучил ты меня, отец, зачем же я скитаюсь по чужим селам и дразню дворовых собак?» Разодрал я по листам старую книгу – сухой клей трещал, словно что-то ломалось в моей душе, – взял кривую иглу и принялся за работу… И так по сей день.
– Дай еще бастурмы, – сказал отчим маме.
Она жестом показала, что бастурма кончилась.
Тогда он приставил лестницу к лазу в потолке. Ни самого лаза, ни чердака не было видно – керосиновая лампа в углу у очага еле-еле светила, – и мне показалось, что хозяин дома устремил лестницу во что-то незримое и полез прямо в ночное небо. Походив по небу (шаги его слышались совсем явственно), он стал спускаться… отчим и впрямь спускался с чердака, перекладины лестницы прогибались под его тяжестью, а огромный кусок бастурмы скрипел сушеными ребрами у него под мышкой.
– Так вот и работаю уже много лет, – отпив глоток вина, сказал гость. – Сшиваю страницы книг, иногда успеваю и кое-что прочитать. «Облекаю в кожаные одежды мудрость былых времен» – как сказал один адвокат. А вечером сяду в пивном баре, закажу кружку пива, женские юбки мелькают между столиками, декольте сверкают от света лампы, горящей над стойкой, и глаза мои радуются… Ораторы произносят свои речи в селах, ругают тех, кто добрался до кости раньше их… потом придут другие и начнут поливать этих. Вертится наш безумный мир, а ради чего вся эта суета?.. Случится инфаркт, и тебя понесут ржавыми подковками вперед, прямо к вырытой яме… Многим людям – куда умнее меня! – не удалось переделать мир, так неужели же я разберусь, в чем загвоздка?
– И все же должен же кто-то навести порядок! – не согласился с ним отчим.
– Как же! Лишь еще больше разбередят раны. А у меня в руках золотое ремесло! Возьмись я одни Евангелия святого синода переплетать, и то двух жизней не хватит… Ты, может, со мной и не согласен, но я так это понимаю… так и живу. Вы себе деритесь, ломайте ребра… Простите, я не о вас говорю, – обратился он к сидящим за столом, – а я по вечерам, возвращаясь из пивного бара, буду читать ваши некрологи…
– И наши будут когда-нибудь читать, если их, конечно, напечатают, – попытался возразить отчим. Он сказал это неуверенным тоном, боясь, что по его словам гость поймет, что имеет дело с неграмотным человеком.
– Пусть читают. Они будут знать, что мы получили от жизни то, что смогли, и просто, по-человечески наслаждались земными радостями…
Керосин в лампе кончился. Фитиль коптил. Вино в стаканах густело – в нем оседал мрак поздней ночи, – и переплетчик пил глотками этот мрак, словно хотел ощутить на языке запах неба и дующего с гор ночного ветра.
Единственным светлым пятнышком была спящая канарейка. Она висела на петельке вниз головой, уцепившись тоненькими коготками за холодную проволоку своей тюрьмы…
* * *
Я уезжал с переплетчиком в Софию, чтобы продолжить там свое образование.
Решено было охать ночным поездом – мы надеялись, что в нем будет поменьше народа. Когда отчим остановил лошадь у полустанка и снял с телеги фонарь, чтобы проводить нас в зал ожидания, в его тусклом свете мы увидели целую груду корзин, узлов и оплетенных бутылей. Видно, крестьяне окрестных сел тоже сочли ночной поезд самым удобным. Теперь, слыша в темноте наши шаги, они недоумевали, как же мы все поместимся.
Остановка была короткой. В свете фонаря клубился паровозный пар, а рядом, в темноте, скрипели корзины – пассажиры толкались и напирали, – кто-то кричал: «Эй, подождите, упал кошелек!» И когда поезд, пыхтя, наконец тронулся, я обнаружил, что у меня на куртке не осталось ни одной пуговицы. Я попытался разглядеть в окно удаляющуюся телегу, но ничего не было видно. Только тусклое пятно фонаря – мне казалось, что я слышу в его свете покашливание отчима и ленивый свист уздечки, – все еще светилось в мокром поле, но и оно вскоре исчезло.
Начался бесконечный перестук колес.
Все купе были переполнены. Мой спутник попросил какую-то женщину подвинуться и взять на руки ребенка, который спал на скамье, положив голову ей на колени (у переплетчика нестерпимо ныли опухшие ноги, и ему хотелось расслабить шнурки ботинок), но она, взглянув на его пиджак из английского сукна и малиновый галстук, заколотый булавкой с зеленым камешком, сказала:
– Вы, дражайший, вагон перепутали. В первом классе для вас есть бархатные диваны, там можно разуться и лечь. Нечего было скупиться и лезть в один вагон с бедняками… Я за это место заплатила и глаза выцарапаю тому, кто попробует его занять!
– Ну и ведьма! Упаси господи, – сказал переплетчик, закрыл дверь купе, откуда шел запах мокрых постолов и нестираной шерсти, и оперся об оконную раму.
Поезд остановился на полустанке. В просвете между липами желтело здание вокзала. Стоянка затягивалась, никто не садился. Со стороны паровоза доносились приглушенные голоса. Кто-то отдал команду: «Никому не слезать! Оцепить вагоны с другой стороны!» Щебенка скрипела под энергичными шагами. Стоящие у окна пассажиры зашевелились, и их спины закрыли окно. Я не видел, что происходит на станции, но понимал, что состав оцеплен – солдатами или жандармами.
В тамбуре послышался стук кованых сапог. Дверь в коридор отворилась и, ощупывая светом фонарика полумрак, забитый кепками, платками, детскими шапочками с ушками и грубыми воротниками из пожелтевшей овчины, в вагон вошел худощавый подпоручик от жандармерии, подпоясанный светлым ремнем. Лицо у него было мальчишеское, но надвинутый на самые брови козырек придавал ему строгий вид. За ним шли двое солдат с автоматами.
– Спокойно, господа! – сказал подпоручик, стараясь, Чтобы в голосе его звучал металл. – Всем оставаться на местах и приготовить документы!
Мутное пятно фонарика ползало по мятым удостоверениям личности, пересчитывало пуговицы на пиджаках, поднималось к лицам пассажиров, задерживалось то на скулах, то на бровях и заставляло жмуриться глаза, не привыкшие к яркому свету. Но вот снаружи раздался топот, который все приближался. Люди отстранились от окна, и я увидел, что какой-то человек без шапки, низкого роста (а может быть, так только казалось, потому что он пригнулся) бежит по перрону. Когда ему оставался всего лишь шаг, чтобы вырваться из света вокзальной лампы и ускользнуть от лучей карманных фонариков, которые кружили вокруг него, как осы, грянул выстрел. Бежавший вскинул руки, словно хотел ухватиться за что-то невидимое в воздухе, но оно оказалось непрочным и не смогло выдержать тяжести его падающего тела. Спина его задымилась в том месте, куда попала пуля. Мужчина упал ничком, подол пальто, задравшегося при падении, закрыл ему голову – мне показалось, что спина его начала пылать, но то был край оранжевого свитера.
Услыхав стрельбу, поручик и солдаты выскочили из вагона.
– Верно, это тот, что бежал из Врачанской тюрьмы, – сказал стоявший рядом мужчина в пальто с большим бараньим воротником. – Коммунист. Весь округ подняли на ноги.
Состав медленно тронулся. Убитый все еще лежал на покрытом щебенкой перроне. Фонарики острыми лучами пригвоздили его раскинутые руки, и он казался распятым…
Я вспомнил о том молодом человеке, который спрыгнул с трамвая, чтобы защитить незнакомую женщину. Сейчас он, постаревший, ушедший в себя, стоял рядом со мной, и по обострившимся скулам было видно, что его мучит нестерпимая боль.
Когда свет станции остался позади и он увидел свое лицо, всеми морщинами отразившееся в черном зеркале ночи, проносящейся за окнами вагона, я услыхал, как он тихо, боясь, как бы его никто не услышал, произнес:
– Подлецы!
Может быть, из мрака на него глянули глаза того, кто верил, что сможет уничтожить зло? Не знаю. Я видел только, что стоящий рядом со мной лысый человек пытается ответить на чей-то неумолимый вопрос. Пытается – и не может найти нужных слов…
* * *
В Софию мы приехали на рассвете.
Перешли через мост с поржавевшими железными перилами. Под мостом был глубокий ров, заросший кустами акации. Он походил на канал, только на дне его были уложены рельсы, такие же ржавые, как перила моста. Ржавчина покрывала даже обычно блестящую поверхность, к которой прикасаются колеса, и я решил, что это, наверное, какая-нибудь узкоколейка, где поезда ходят редко.
Мы двинулись по улице, которая сначала шла параллельно с рвом, а потом отклонялась вправо. Миновали деревья с отсеченной кроной – рядом упала бомба. В воронке, затянутой ряской, плавала кастрюля, на ручке ее сидела лупоглазая жаба. Наконец мы остановились у трехэтажного дома. Перед парадной дверью, образуя арку, переплетались кусты мелких вьющихся роз. Бутоны еще не все распустились, и те из них, которым удалось прорвать жесткую корочку из омертвелых лепестков, прихваченных инеем, раскрыли всю свою розовую нежность, озаренную желтым сиянием тычинок.
Переплетчик прошел вперед, остановился у двери, выкрашенной в коричневый цвет с бежевыми разводами, имитирующими древесину, и принялся шарить сначала по карманам пиджака, а потом и жилета – искал ключи. Но дверь оказалась незапертой, и мы стали подниматься по лестнице. Он останавливался на каждой площадке, пока мы не добрались до третьего этажа.
Моя комната оказалась совсем маленькой. Мы втащили кровать – старую скрипучую развалюху с высокими синими спинками, в которой мне предстояло утонуть, подобно рельсам на дне глубокого рва, – стол и стул. Ни на что другое места не хватило. Я засунул чемодан под кровать, повесил пиджак на спинку стула – вешалки в комнате не было – и распахнул окно, чтобы впустить немного свежего воздуха. Меня обдало запахом влажной листвы – молодой тополь касался верхушкой моего окна. Сквозь почти голые ветки я увидел крышу соседнего дома – низенького, вросшего в землю. Краска на стенах облупилась от зимних морозов. За этим домиком тянулся целый ряд точно таких же. В них ютилась беднота. Это видно было по сохнущему на веревках, залатанному серому белью (его уже никаким мылом нельзя было отстирать), по драной обуви, которая стояла у порогов. Дальше, за домами, виднелись луга, побуревшие от осенних дождей; они еще зеленели в болотистых местах, и эта веселая зелень резко выделялась среди глухих меланхолических красок осени. На лугах, так же как у нас по берегам Огосты, темнели островерхие, утрамбованные дождем копны сена, а на горизонте, за копнами, повторяя их очертания, поднимались горы, у подножия желто-золотистые от листопада, а у вершин окутанные туманом. Сквозь туман проглядывала пестрота осенних красок. Краски эти норой становились яркими, порой совсем угасали: ветер то разгонял туман, и воздух становился прозрачным, то собирал его в густые клубы.
– В соседней комнате живет художник. Чудаковатый малость, но вполне приличный человек. Все эвакуируются, а он сидит в городе. Весь дом провонял его красками, – сказал переплетчик, и ноздри его мясистого красного носа расширились. Он попытался уловить неприятный запах, но лицо его осталось безразличным, и я понял, что насморк мешает ему почувствовать терпкий дух скипидара и сохнущих полотен. – Я пустил его только на год, но он вселился, и баста. А ведь я мог бы взять к себе двух, а то и трех таких, как ты, из провинции, – комната просторная, хоть на лошади езди, большие деньги нынче платят за такие комнаты; глядишь, квартиранты получали б посылки из деревни и на столе всегда были бы сливовица и бастурма – в провинции еще всего вдосталь. Я ему говорю: «И чего ты копишь эти картины? Поехал бы и продал. Тут у нас вряд ли кто-нибудь соблазнится красными деревьями и желтыми женщинами, да еще с зонтиками… А вот в провинции народ поглупее, кто знает, может, и купят!» А он смеется: «Ты об этом, дядюшка Борис, не беспокойся! Лучше подумай о крыше над головой. Потому что придет время, явится комиссия и скажет: „Просим в месячный срок освободить помещение, здесь будет открыт музей такого-то художника“. (Его, значит!) Вобьют в стены гвозди – не морщись, говорят, так оно и будет! – и повесят мои картины, а на самом видном месте – это полотно, с зонтиками… Рядом с раковиной – твоя жена всегда сердится, когда видит в ней следы краски, – прикрепят надпись: „Здесь художник мыл свои кисти!“ Может, тебя еще директором оставят, ты ведь у нас человек со связями, устроишься на такое тепленькое местечко. Будешь делиться с посетителями своими воспоминаниями обо мне и без труда зарабатывать на хлеб. Только очень тебя прошу, не выдумывай разные там истории про женщин и попойки! Обо всем рассказывай так, как было…» Смотрит он мне в глаза и смеется. Надо мной ли шутит? Над собой ли? Слушаю и никак не могу понять…
Сообщение о том, что я буду жить рядом с таким человеком, меня смутило. Еще в гимназии я знал одного художника. Он обычно рисовал скалы и сосны над горными потоками. Стены коридоров и классов нашей гимназии были увешаны этими горными пейзажами, которые отличались друг от друга только тем, что одни были в синих тонах, а в других преобладали фиолетовые. Этот художник преподавал нам рисование. Он был самоуверенным человеком и считал, что мы никогда не овладеем рисунком, если не запомним с абсолютной точностью его сентенции об искусстве, которые он, расхаживая по классу, диктовал нам медленно и внятно, а мы сосредоточенно записывали (класс наполнялся энергичным скрипом перьев), стараясь не пропустить ни единого слова. Потом он нас экзаменовал, высмеивал и ставил всем двойки, потому что никто не мог с точностью запомнить и повторить его мудрые мысли. Нас просто в дрожь кидало, когда мы вспоминали, что завтра у нас урок по рисованию.
И вот случай снова свел меня с художником – наверное, таким же чокнутым, как наш бывший учитель. Я его еще не видел, но был уверен, что знакомство будет не из приятных. Если судить по рассказам переплетчика, это тоже был самоуверенный, самовлюбленный человек, свысока глядящий на простых смертных, хотя в его шутке о музее я находил иронию и боль.
* * *
Мы встретились на другой же день в коридоре. Он выходил из узкой, как кладовка, ванной комнаты. Его худое, только что выбритое лицо с ямочками на щеках порозовело от холодной воды. Он шел, слегка покачиваясь, словно пол был скользкий. Я подумал, что, судя по походке, художник родился и вырос на побережье и с детства привык к качающимся баркасам. Но по рукам, белым и гладким, сразу было видно, что он давно не касался не только весел, но и других грубых орудий труда, которыми простые люди зарабатывают себе на хлеб.
Он посмотрел на меня, дружески улыбнулся (улыбка собрала морщинки в углах его губ) и сказал: «А, это вы – новый квартирант дядюшки Бориса? Очень приятно!» Когда он повернулся спиной, я заметил, что подтяжки под его темно-рыжим пиджаком (такой цвет бывает осенью у диких грушевых деревьев) врезаются в плечи. Он немного сутулился. В посадке его корпуса было что-то сосредоточенное, словно он наклонился к невидимому собеседнику и прислушивается к его словам.
Когда по утрам я собирался выйти на улицу, он всегда просил меня купить хлеба и помидоров, при этом долго рылся в ящиках, разыскивая талончики на хлеб. Помню, как я впервые переступил порог его комнаты. Когда я принес ему хлеб, он положил его в угол на подрамники, подвинул стул к мольберту, постелил на него кусок холста и поставил тарелку с помидорами – они горели таким ярко-оранжевым цветом, что казались нарисованными… Он ел помидоры и стряхивал с пальцев желтый сок, ел с охотой, не прибегая к ножу, жмурясь от удовольствия, так едят землекопы или рыбаки, сидящие на досках причала, покрытых липкой рыбьей чешуей, чешуя коробится и серебрится на солнце.
– Так я ел на дунайских пристанях, и хлеб там пахнул рыбой. Ел прямо в лодке, падая от усталости. Я был мальчишкой, и все мне доставляло истинное удовольствие, которое исчезает с годами, – сказал художник, приглашая меня за трапезу.
Хлеба и помидоров хватило бы нам обоим, но, глядя на многочисленные полотна, с которых на нас смотрели десятки глаз, я подумал, что, если художник вздумает пригласить всех этих людей и они возьмут хотя бы по ломтику, мне придется опять бежать в лавку. Но художник их не приглашал, и они снова занялись своим делом: сновали по берегу среди лодок, носили на плечах рыболовные снасти, в которых трепыхались отблески холмов и прибрежных ракит.
– Как видишь, я никогда не бываю один, – сказал художник, проследив за моим взглядом. – Даже ночью, когда меня посещает бессонница, мне есть с кем поговорить.
А бессонница посещала его часто. Я слышал, как по ночам в его комнате скрипят половицы. Со временем я привык к этому скрипу и стал различать, когда художник собирается работать (на другой день он все равно соскоблит краску и начнет все сначала, потому что тона, найденные при электрическом свете, будут его раздражать), а когда, поглощенный своими мыслями, просто ходит из угла в угол… Однажды, возвращаясь поздно, я увидел, как в темном окне, освещенном лишь светом уличного фонаря, движется его седая голова, похожая на облако, подхваченное ветром (волосы свободно спускаются до плеч и возле ушей темнеют старым серебром).
* * *
Его мольберт стоял посреди комнаты – деревянная тренога напоминала мне вышку из лесин, которую ставят у нас в горах, измеряя высоту над уровнем моря.
Он любил, перед тем как начать работу, выстроить вдоль стен подрамники с уже натянутым и загрунтованным холстом и, засунув руки в карманы, прохаживаться среди них, стараясь сосредоточиться.
Белое полотно будило и нем воспоминания о деревенском зимнем утре. Окна затянуты инеем, по серединке стекла мутное пятнышко – глазок, растопленный его дыханием. Со стрехи свисает длинная сосулька и звенит, перекликаясь с песенкой невидимой синички. Он спускается со ступенек родного дома (снег начал подтаивать, и ступеньки скользкие), проходит, наклонив голову, под ветками айвы, которые пригнулись от тяжести мокрого снега, и направляется в сторону холмов. Белый снег слепит глаза, и художник ищет какой-нибудь веселый цвет – сине-зеленую грудку синички или разгорающуюся при полете лимонно-желтую шейку пчелоеда, – но его окружают лишь высокие сугробы и влажные коричневые ветки, очерченные кромкой снега.
Вот слышится голос сойки, такой резкий и тревожный, что воздух колеблется и с веток на тропу сыплется снег. Сойка сидит на кизиловом кусте. Куст от ее крика вздрагивает, и из-под снега появляется кисть красных, мелких, как бусины, ягод. Освободившись от тяжести снега, куст выпрямляется и становится похож на коралловый отросток.
Рядом, за кустом, трепещет сойка. Это не птица, а дрожащий веер – он то закроется и притворится голым сучком, то с резким взмахом снова раскроется и засияет в воздухе всеми цветами радуги.
Сойка попала в силок.
Я вспоминаю, какие мы устраивали в детстве силки, чтобы поймать эту хитрую пичужку.
Мы вбивали в снег колышек где-нибудь рядом с кустом, у которого были длинные упругие ветки. В колышке просверливали дырку, через которую петлей просовывали конопляную веревку. Обоими концами мы привязывали веревку к ветке и, оттянув петлю, вставляли в нее клин, на который клали приманку – чаще всего кусочек кукурузного початка. Петлю натягивали на клин так, чтобы, когда он выпадет из дырки, ветка дернула веревку. Установив наш силок, мы прятались за кустами, поджидая жертву.
Вот сойка, привлеченная кукурузными зернышками, покружила над нашим силком, отлетела в сторонку, подождала, а потом, сделав плавный круг, села на колышек. Склонила головку, пытаясь склюнуть зернышко, но не достала. Тогда она, трепеща крылышками, повисела в воздухе и опустилась на клин. Удар клювом по приманке, клин выпал, сойка, потеряв опору, попыталась взлететь, но поздно – упругая ветка дернула веревку и та петлей затянула птичьи лапки.
На белом снегу валяются оранжевые зерна, пойманная птичка трепыхается и пищит, а мы со всех ног бросаемся к силку.
Нас радовал успех нашей мальчишеской хитрости.
А художнику нужна была яркая игра крыльев на белом снегу – на не тронутой еще белизне полотна.
Сойка трепыхалась у него в груди, пыталась клюнуть его (клюв ее был тяжелым и острым), но художник не чувствовал этого. Он брал в руки палитру, и на полотне появлялись первые цветовые мазки.
В порывистом взмахе его кисти была стремительность птичьего полета.
* * *
Жена от него ушла. Ему тогда было сорок.
Он любил ее и думал, что всю жизнь будет страдать, но годы шли, и образ ее стирался. Если бы не портреты, нарисованные когда-то в часы вдохновения, если бы не ее вещи – бусы и шпильки, – все время попадавшиеся под руку, он мог бы подолгу о ней не вспоминать.
Он упрекал себя в бесчувственности, особенно когда одиночество запирало его в четырех стенах, курил, бесцельно шагал по комнате, окутанный сигаретным дымом, который закручивал и растягивал свои спирали, думал о безвозвратно ушедших счастливых минутах жизни. Теперь ему недоставало того, что когда-то раздражало. Больше того, он испытывал в нем острую нужду. Вспоминал, например, как подчас становилась она невыносима из-за своих причуд. Мария собирала почтовые марки. Она неутомимо разыскивала их, роясь в старых альбомах с открытками. Эти выцветшие открытки с видами горных и морских курортов были отправлены очень давно. На них были марки с зелеными львами, стоявшими на задних лапах, и портретами государственных деятелей и полководцев в тесных мундирах. Часто, закончив свои изыскания в пыльных соседских архивах, она прибегала к нему, неся в длинных щипчиках маленькие кусочки бумаги с зубчиками по краям, она держала их так осторожно, будто это была бог знает какая ценность, и, наклонившись над только что начатым полотном, говорила:
– Знаешь, что я нашла? Сантим!.. Тебе известно, что это такое?
– Нет, – отвечал с досадой художник, – не известно…
– Посмотри, половина марки коричневая, а половина зеленая…
– Плохая печать… У нас всегда так – ничего не можем сделать как следует.
– Плохая печать? Да это же редкость, мой милый! Курьез!
– Если и есть курьез на земле, так это ты! – подняв глаза от палитры, усмехался художник. – Всю жизнь радуешься мелочам…
– И тебе я радуюсь. Может быть, это тоже курьез? – говорила она ласково и касалась его плеча длинными гибкими пальцами. «Такие пальцы бывают только на иконах…» – думал художник.
Она садилась рядом, стройная, окутанная вечерними сумерками; ее синее платье, цвет которого становился в полумраке еще интенсивнее, придавало ей бледность, руки, лежащие на коленях, удлинялись, тихие и опаловые, и он, глядя на нее, думал, что она – это летняя вечерняя отрада, которая ниспослана ему быстротечным временем, чтобы он мог, прикоснувшись, слиться с ней и потом навсегда отдать вечности.
Через несколько лет от ее «курьезов» ничего не останется. Они рассеются среди обычных вещей, потому что нет уже тех глаз, которые озаряли их живым блеском, превращали в сокровища; марки станут серыми, измятыми, государственные деятели и полководцы зябко съежатся в своих потрепанных мундирах.
Художник надеялся, что его иллюзии будут жить дольше. Верил, что кисти и краски спасут его от серых будней, от одиночества, которое подчас заставляло его поворачивать мольберт полотном к степе, чтобы не видеть всю эту бессмыслицу, которой он подчинил свою жизнь. Но кризис проходил. Ножом он соскабливал все, что было нарисовано, и поверх коричневых борозд засохшей краски клал новые мазки. Возникали складки синего платья, вытягивались на коленях нежные бледные руки, какие могут сохраниться лишь в памяти, а вдаль уходили деревья, унося с собой в тишину бесконечности то, что было навсегда потеряно.
Это было время, когда еще не начались бомбежки и рельсы столичного вокзала, где когда-то толпились встречающие с букетами цветов, еще не врезались в небо, сорванные со шпал, похожие на вздыбленную лошадь.
* * *
Характер у него был трудный. Выше всего он ставил свое искусство. Случалось, назовет гостей, а сам поднимется из-за стола и удалится в соседнюю комнату к своим недоконченным полотнам. Жена всячески старалась занять гостей: рассказывала веселые истории, гадала на кофейной гуще, но гости обиженно вставали, гасили в пепельнице сигареты… и в этот момент он возвращался, беспечно брал салфетку, вытирал пальцы (на салфетке оставались следы краски) и весело говорил жене: «Мария, почему у вас так скучно?» Взяв бутылку, он решительно наливал вино в рюмки, а она невольно вздрагивала: сейчас плеснет на скатерть. Но он плавным движением прерывал тоненькую струйку зарчина и, поставив бутылку, провозглашал тост. Хрусталь звенел, гости чокались, а ему казалось, что от этого звона вино становится гуще и пьяней.
– Все это время меня мучил фиолетовый цвет, – говорил он скорее себе, чем гостям. – Три дня искал… а сейчас он поет на полотне!
И он опять чокался, чтобы в хрустальном звоне уловить тот цвет, который, подсыхая, пел на его полотне.
Или в воскресный день встанет вдруг ни свет ни заря и сядет за мольберт. Пишет, соскабливает краски, ходит по комнате, шаркая домашними туфлями… А она, всю неделю ждавшая этого воскресенья, чтобы поехать на прогулку в горы, понимала, что он не в настроении, что у него не ладится с картиной. Она с тоской глядела на улицу – в этот день все люди спешили за город – и на горы: вот солнце, разорвав облако, осветило склоны. Его желтое пятно перемещается вместе с плывущим облаком, становится то матовым, то ослепительно сияющим, а исчезнув, оставляет на склоне между черными деревьями яркий осколок. Это цветущий куст кизила.
К полудню его шаги затихали, и она, тихонько открыв дверь, вносила поднос с кофе. Муж стоял посреди комнаты с кистью в вытянутой руке и был похож на фехтовальщика, готового нанести удар рапирой. Едва коснувшись – полотна, он отступал и снова примеривался к тому месту, куда кисть нанесет свой следующий удар…
Вечером, окончив работу, он взял Марию за руку и подвел к шкафу.
– Хочу, чтобы ты сегодня была очень красивая! – сказал он. – Надень свое лучшее платье.
– Которое? Фиалковое или пестрое? – спросила она, снимая платья с вешалок.
– Здесь сумерки и аромат фиалок… – пропел он строфу из старого шлягера.
Выйдя из дому, они пошли по тополиной аллее, которая тянулась вдоль трамвайной линии, тени деревьев превратили ее в гигантскую лестницу с бесконечными светлыми и темными ступенями. Смеясь и стараясь, как дети, ступать только по светлым полосам, они направились в старую корчму, окруженную высокими акациями, – там, в темной листве, спали горлицы, время от времени вскрикивая во сне.
В корчме играл цыганский оркестр.
В высоких пивных кружках шипела пена, оседая жидким янтарем, и по запотевшим граням ползли капли. Художник танцевал с Марией между столиками. Полы его расстегнутого пиджака задевали за столики и морщили салфетки. Он чувствовал, как тело Марии живет в его руках, пронизанное ритмом музыки, и ладоням казалось, что оно ускользает навсегда.
– А у меня цыганские серьги, – сказала Мария, подняв на него большие черные глаза, наполненные тишиной. – И в крови моей наверняка пылает огонь костров… Но ты меня приручил, мой милый, и я бреду за тобой, как собака за кочевой кибиткой.
Звук скрипок прервался на высокой ноте, словно проржал конь, и они вернулись к своему столику.
* * *
Он знал: если и стоит благодарить за что-нибудь природу, так это за то, что она наделила его способностью радоваться краскам, воспринимать их тончайшие оттенки. Это была радость, к которой далеко не все могли приобщиться. Его чудачества отталкивали Марию и в то же время еще больше привязывали, потому что он открывал ей тайны красоты и они, наполняя душу, становились и ее тайнами.
Он любил вечерами бродить с ней по осенним улицам, мокрым, пахнущим прелой листвой, с туманно светящимися фонарями. Ветки деревьев простирались в мглистое небо, тонкие и грациозные, а кусты, аккуратно подстриженные садовником, были похожи на женщин с пышными прическами.
– Легкомыслие, – говорил художник и сворачивал в узкую улочку, где перед домами темнели груды неубранного каменного угля, припасенного хозяевами к зиме.
Здесь деревья были совсем другие: с потрескавшейся корой, старые и кряжистые. Казалось, они не хотели тянуться вверх, чтобы не заслонить собой низкие покосившиеся домишки добруджанских беженцев, где на тонких пестрых занавесках отражались тени женщин и крупные, словно нарисованные тушью, листья бегоний. У этих деревьев постоянно отсекали нижние ветви, и на их месте оставались обрубки – круглые и узловатые, как кулаки. Но весенний сок напирал, вверх тянулись новые ветви, а пила или топор снова превращали их в обрубки.
– Почти мексиканский пейзаж! – говорил художник, разглядывая деревья со всех сторон. – Дерево, оно, как человек, мыслит и страдает.
Они подолгу бродили по темным улицам, и она чувствовала, что окрестный мрак полон жизни.
Художник поехал писать море и, взял с собой жену. Как-то шли они берегом. Им навстречу, с севера, плыла туча. Она плыла очень низко, но они, увлеченные разговором, не заметили, что близится гроза, и по склону холма стали спускаться к заливу. Земля была здесь кирпично-коричневая, засаженная виноградными лозами. Лозы состарились, горячий ветер сорвал с них листья, только кое-где виднелись засохшие гроздья винограда. Лозы тянулись до самой желтой полоски прибрежного пляжа – его лизали волны, и мокрый песок постоянно менял свой цвет.
Туча росла, устремлялась ввысь; в середине ее взбаламутилась черная мгла, а острый край, коснувшись солнца, стал прозрачным. Из-за горизонта выплыла другая туча, запахло водорослями, и вдали, где у пристани светились окнами домики, маленькие, как спичечные коробки, хлынул дождь. Это было отчетливо видно: солнце позолотило струи и они целую минуту висели в небе, словно не хотели коснуться пыльной земли. Но вот туча закрыла, солнце, и дождь, серый и стремительный, сначала погасил сияние далекого городка, а потом, рождая бесчисленные оттенки синего и зеленого, надвинулся на море. Лозы растеклись по коричневому склону, черно-синие гроздья винограда в минуту расплылись, как чернильные пятна, и растворились в общей мути.
Художник стоял, не в силах оторвать глаз от этого водоворота красок. Эта удивительная метаморфоза природы наполнила его необыкновенным счастьем.
Дождь двигался по шоссе, сокращая его и белый цвет превращая в серый. Еще мгновение – и им в лицо хлынул ливень.








