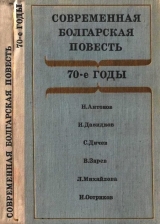
Текст книги "Современная болгарская повесть"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Владимир Зарев,Стефан Дичев,Иван Давидков
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц)
– Ивана надобно? Нет его. Уехал на кузню в Малую Кутловицу…
Тут же отворилось окно соседнего дома. Из него выглянул мальчишка с таким количеством веснушек, что мне подумалось: дунь ему в лицо, и они разлетятся, как пух одуванчиков, который кружит сейчас вокруг морд буйволов.
– Дядя Иван лежит, – сказал мальчик. – Он ногу вывихнул. Иди, у нас нет собаки…
Из погреба третьего дома вышла высокая костлявая старуха, она держала в руках котел с крашеной шерстью. Котел, только что снятый с огня, дымился, шерсть была красная, и пар тоже красный.
– Какой тебе нужен Иван – большой или маленький?
– Оба, – крикнул дед.
– Поехали за песком на реку…
Перед четвертым домом играли двое мальчуганов – видно, близнецы. Краснощекие, курносые, они были так похожи друг на друга, что отличить их можно было только по лямке на штанах. У одного она была желтая и тянулась от левого бока к правому плечу, а у другого красная и болталась незастегнутой. Услыхав голос деда, они выжидающе обернулись в нашу сторону.
– Ванка и Иванчо, кто из вас знает, где ваш дядя Иван?
– Ушел в солдаты! – ответили близнецы в один голос.
Из пятого дома никто не вышел. Но я был уверен, что и в этом, последнем доме Иванова хутора, приютившемся в балке возле самой железнодорожной насыпи, был свой Иван.
– Передайте всем Иванам привет от меня и моего внука! – крикнул дед. – В другой раз, как буду посвободнее, непременно заверну, чтобы выкурить по цигарке.
Он повернул ко мне улыбающееся лицо – дед был доволен, что его шутка удалась, – натянул недоуздок и, с трудом оторвав от травы широкие влажные морды буйволов, степенно зашагал по пыльной дороге…
Сейчас Иванов хутор был затоплен. Вода плескалась под самыми стрехами: лизнет край крыши – и черепичные чешуйки соскальзывают в ее муть, оголяя решетник, увешенный связками желтой кукурузы. На стоге из срубленных дубовых веток, верхушка которого едва показывалась из воды, стоял медно-красный петух, он хлопал крыльями – крылья вспыхивали при каждом взмахе – и кукарекал протяжно и хрипло.
Успел ли вернуться из кузни Иван и где застало его наводнение? Из какого окна выглядывает сейчас мальчик с веснушками? Получили ли близнецы письмо от своего дяди Ивана или он еще пишет его, слюня огрызок химического карандаша где-нибудь в далекой казарме? А может быть, их лямки – желтая и красная – запутались где-нибудь среди веток прибрежных ракит?
Никто не мог мне ответить. Обезумевший петух все кукарекал, не замечая, что вода уже раскачивает стог, готовясь его унести.
* * *
Дом моего отчима, куда я переехал после смерти деда, стоял возле школы. Двор его был с трех сторон окружен дорогами, и казалось, у него есть вторая ограда – из непрерывного скрипа и стука тележных колес. Дом был двухэтажный. Первый этаж служил подсобным помещением. Там на стенах висели уздечки и потрескавшиеся почерневшие хомуты, связки железных обручей от рассохшихся бочек, старая одежда, серпы. На деревянных помостах лежали бочки; на их покатых боках акцизные мелом выводили свои многочисленные подсчеты. Под бочками стояли миски, доверху наполненные вином – из кранов капало, – и в них плавали винные мушки.
Второй этаж всеми окнами глядел на горы – их хребты, синие и величественные, до половины заслоняли, восточную часть неба; они тянулись на юг вдоль горизонта и, достигнув запада, снижались, тонули в легкой дымке, чтобы, коснувшись вод Дуная, совсем исчезнуть. На этом этаже помещались три комнаты и коридор, расширявшийся в глубине, там, где стоял очаг. Над очагом поднимался дымоход, похожий на старинный пчелиный улей. Пол в коридоре был из кирпичей – они были так сильно обожжены, что приобрели фиолетовый оттенок. На каждом кирпиче, истертом ногами многочисленных, живших здесь домочадцев, виднелась надпись «Брусарци» – клеймо фабрики.
Мое первое воспоминание об этом доме связано с канарейкой.
Когда я впервые попал сюда и мама повела меня в комнату, где я должен был оставить свои вещички – несколько рубашек и стопку книг, – я увидел в углу коридора, возле дымохода, птичью клетку, сплетенную из тонкой проволоки. В ней прыгала маленькая желтая птичка, она то раскачивалась на железной петельке, заменявшей ей качели, то подпрыгивала, ударяясь крылышками о стены своей тюрьмы, и пела пискливую песенку.
Я уже видел клетки с канарейками в городских парикмахерских. Раньше, когда я слушал, как они поют, беспечно прыгая над головами мужчин, сидящих с намыленными физиономиями, мне казалось, что это легкомысленные птахи, которые, прожив много лет рядом с болтливыми коллегами Фигаро, наслушавшись их анекдотов, переняли и их веселый нрав.
Эта канарейка была совсем другой. В ее песне, в резких взмахах крылышек, от которых раскачивалась клетка, я слышал отчаяние и обреченность. Клетка с канарейкой висела в самом углу, откуда были видны лишь темный полукруг очага, покрытый холодным пеплом, и дверной проем в конце коридора, наполовину заслоненный плитняковой крышей соседнего хлева. Я решил, что, если клетку перевесить к окну, птичка оживится.
После полудня, когда мама была занята хозяйством, я снял проволочный домик с гвоздя и перенес его в комнату, где были сложены мои вещички. Но случилось непредвиденное: когда я, приколотив гвоздь возле окна, спрыгнул со стула и взялся за клетку, канарейка вдруг выскользнула в узкую щель – видно, я нечаянно рукавом приоткрыл дверцу клетки, – неумело вспорхнула, как это делают неоперившиеся воробьи, когда впервые покинут гнездо, и, ударившись о косяк двери, вылетела в коридор. Я бросился ее ловить. Светлым зайчиком – словно кто-то поиграл карманным зеркальцем – она мелькнула в темном углу, там, где раньше висела ее клетка, и устремилась к дымоходу. Я замахнулся шапкой, воздушная струя сбила канарейку, и она упала на пол. В ту же секунду откуда-то выскочила кошка, и из лап ее полетели желтые перья.
Что теперь будет?
Вернулась со двора мама, поняла, что я натворил, и, побледнев, сказала:
– Повесь клетку на место и ни слова. Когда он вернется, нам несдобровать. Он всех нас убьет из-за этой канарейки… Хотя, кто знает, может, она сама открыла клетку и вылетела. Кто видел?..
Он въехал во двор верхом на коне, пнул ногой створки ворот, и они, тягуче скрипя, широко перед ним растворились. Тяжело спустившись с седла, поразмял ноги, затекшие от долгой езды, подал маме узду и наклонился, застегивая ремешки сандалий.
Мама отвела коня в стойло, привязала уздечку к большому кольцу, ввинченному в толстую балку, и подбросила в ясли люцерну. Конь сначала уткнулся длинной мордой в серые стебли (они взметались, когда он фыркал), а потом, постукивая копытом, чтобы отогнать докучливую муху, повернул голову и долгим ржаньем проводил маму до самого дома. Но мама не спешила войти. Она заглянула в сарай, где был куриный насест, взяла оттуда два яйца и попыталась прогнать с телеги петуха – он провел на ней всю ночь и сильно нагадил, на боковине виднелись потеки, похожие на засохшую известку. Петух подождал, пока мама отойдет, и снова взлетел на телегу.
Когда тот, который должен был нас убить из-за канарейки, направился к дому, мама пошла следом. Я смотрел из коридора, как он приближается, очерченный рамкой дверного проема. Это был высокий (мама едва доходила ему до плеча), осанистый человек с крупной квадратной головой и коротко стриженными волосами – только на затылке у него был длинный каштановый чуб, точь-в-точь как у казаков. Глаза у него были водянистые, а уши – большие, оголенные бритвой, с глубокими извилинами – торчали и казались привешенными к обеим сторонам отекшего, поросшего щетиной лица, подбородок его был словно припудрен рыжим порошком.
Я видел отчима и раньше, но никогда к нему не приглядывался. На этот раз я смотрел на него не отрываясь – так смотришь на траву в том месте, где случайно выронил перочинный ножик. Раньше она казалась просто зеленым пятном, по которому равнодушно скользил твой взгляд, но теперь, раздвигая ее руками, ты замечаешь, что между острыми, тонкими стеблями лежат камешки, цветут мелкие, как бисер, голубенькие цветочки, торчат почерневшие колючки боярышника, валяется прошлогодняя листва диких яблонь, по которой ползают мураши, замечаешь, что это целый незнакомый мир, мимо которого равнодушно проходят люди.
Мне сейчас предстояло узнать хозяина этого дома, – дома, над очагом которого висела пустая клетка.
Он вошел в коридор, его крупная фигура на минуту заслонила свет, падающий из открытой двери, потом свет снова прорвался, обдав его сзади лучами, и я, смущенный, двинулся ему навстречу, чтобы поздороваться.
– Поцелуй руку… – шепнула мама.
Я наклонился, чтобы выполнить ее наказ, почувствовал запах конского пота и поводьев и увидел, что его указательный палец намного короче других – на нем не было верхней фаланги.
Отчим не взглянул на меня и ничего не сказал. Он о безразличным, усталым видом наклонился и долго пил воду из котла, висящего на деревянном крючке возле очага.
Вот он выпрямился (на бороде блестели крупные капли, стекая на грудь) и, верно, озадаченный тишиной, царящей в доме, поднял лицо к клетке. Его водянистые глаза стали стальными, розовые мешки под веками зашевелились. Но прежде чем он открыл рот и спросил, где канарейка, из соседней комнаты вышел Персифон, младший сын его брата. Этот мальчик – круглолицый, с редкими пепельными волосенками и белесыми бровями и ресницами – пришел со мной повидаться и показать купленную на ярмарке губную гармошку. Он стоял и улыбался своему дяде, ожидая, когда тот потреплет его по щеке и скажет: «Персифон, Персифон, не считай в окне ворон», а он ответит: «Я смотрел на ветку, дайте мне конфетку».
Эти стишки про мальчика со злополучным именем сочинила учительница, и все ученики знали их наизусть.
Но на этот раз дядя не произнес шутливых слов, а оглядел племянника с ног до головы. Мальчонка растерялся и так побледнел, что брови слились с белой кожей лица.
– Что ты натворил с канарейкой? – спросил в ярости отчим и притянул Персифона за рубаху. Рубаха вылезла из штанов, оголив выпуклый, как фасолина, пупок. – Это твоих рук дело?
Персифон пошевелил губами, видно хотел сказать «это не я!», но оглушительная затрещина чуть не сбила его о ног, он перевернулся волчком и остановился лицом к стене.
– Ты знаешь, откуда я ее привез, шалопут? Из самого Ксанти, из казармы! Знаешь, как я бегал с ней по вокзалу в Софии, когда началась бомбежка? А!
Мальчуган ничего не знал. Он молчал, уткнувшись лбом в стену, затылок и шея его горели от затрещины, а нестриженые волосы, слипшиеся прядями около ушей, вздрагивали при всхлипах.
– Это я, я выпустил канарейку… Я хотел повесить клетку к окну! – крикнул я отчиму, ожидая, что вот-вот прозвенит пощечина.
Но он не пошевелился.
– А тебя не спрашивают и потому молчи! – бросил он и, взяв Персифона за шиворот, понес его к выходу – босые мальчишеские пятки касались кирпичей…
Я смотрел, как отчим пересек двор, вывел коня и, привязав его к телеге, начал расчесывать спутанную гриву. «Считает он виновным Персифона или эта затрещина должна служить предупрежденьем мне, впервые в это утро перешагнувшему порог его дома?» – думал я.
* * *
В одной из комнат, светлой и просторной, застланной цветными половиками (в нее входили разувшись), висела большая фотография в ясеневой рамке, засиженной мухами. Мне кажется, она висела на этом месте с момента постройки дома, потому что пространство между рамкой и стеной было затянуто густой сетью черной паутины. С фотографии на обитателей дома глядел дородный мужчина. Он гордо, по-генеральски восседал на лошади и был одет в пастушью бурку и постолы – широкие тесемки, переплетающие онучи, доходили до самых его колен.
Это был прадед моего отчима – самый видный отпрыск старинного рода, переселившегося в эти места из северо-западной провинции. Мама говорила, что когда-то у него было более четырехсот декаров пахотной земли и огромная семья. По утрам батраки и цыгане под скрип телег и гомон голосов отправлялись обрабатывать его поля, раскинувшиеся по берегам Огосты. А в полдень сам хозяин пускался в объезд своих владений, чтобы проверить, сколько вскопано земли, сколько снопов поставлено над жнивьем. Белый конь бежал, подрагивая стройной шеей, – колосья щекотали ему брюхо. Высокая пшеница ходила волнами, стараясь затянуть его в свои омуты, и конь, весь мокрый от росы, испуганно ржал, боясь утонуть.
Цыгане первые замечали кудрявую, словно облепленную кукурузными хлопьями, папаху хозяина и принимались копать с таким усердием, что сухая земля дымилась под их мотыгами. Подъехав, хозяин натягивал поводья, приставлял ладонь к бровям и, приподнявшись на стременах, оглядывал батраков, которые стояли, опершись на мотыги, и ждали его брани. Но он молчал и только хмурил брови, что означало: «Поживей, поживей поворачивайтесь!.. Вот придет время платить, тогда посмотрите…» и, оборотившись к ближайшему цыгану, говорил: «Эй, Русто, дай кырчагу водицы глотнуть!» Брал в руки нагретый солнцем облитый глазурью глиняный кувшин, заткнутый кукурузной кочерыжкой, отливал немного и пил, жмурясь, не из носика, а из широкого горла – противная теплая вода булькала и заливала ему грудь…
Таким я представлял себе этого деревенского богатея, глядя, как мой отчим, его обедневший правнук, прилаживает седло к спине лошади, готовясь в объезд своих земель. А их было около трех гектаров – мелкие участки каменистой почвы, оставшиеся от богатых владений после многочисленных переделов. На межах его полей лежали острые, как лемехи, граничные камни – символы неколебимой власти над землей. – Когда надо было вскопать кукурузные поля, он всегда нанимал батрака-цыгана, хотя мы с мамой могли и сами управиться.
В полдень хозяин этой скудной земли появлялся со стороны лугов. Он подъезжал к нам, поскрипывая седлом, останавливал коня и, приставив ладонь к глазам, как это делал его прадед, смотрел, хорошо ли все вскопано. Взглянув на межу, он говорил: «Это мошенник Тошо Качов опять передвинул камни» и, оборотясь к цыгану, добавлял: «Эй, Манго, дай-ка кувшин!» Отлив из кувшина прямо на гриву копя – конь ржал, чувствуя приятный холодок, – отчим приподнимался на стременах и пил крупными глотками из горлышка (мама при этом морщилась: как он может пить эту цыганскую воду?). Наконец, вытерев ладонью обветренные губы, он с видом господина, который может быть великодушным даже к цыгану (не побрезговал и выпил из его кувшина!), ударял голыми пятками в бока усталой лошади и исчезал в лугах – высокая густая трава долго покачивалась за крупом его лошади.
В душе моего отчима все еще жило сознание всадника в постолах, чья выцветшая фотография висела в рамке на стене. Он унаследовал его черты: крупный череп, водянистые глаза, большие оттопыренные уши. В мире произошло множество перемен, но на его жизни они не отразились. Обеднев, он продолжал с размахом вести хозяйство, торговал лошадьми, у которых была плавная поступь и грациозно изогнутая шея, водил их к кузнецу, и тот раскаленным железом выжигал клеймо – большую букву «Л», первую букву его имени, дабы все знали, что лошадь эта принадлежит ему, и если кто задумает ее украсть, то пусть сначала крепко поразмыслит.
Этот след от раскаленного железа, после того как рана заживала, еще долго шелушился. Рыжая шерсть тщетно старалась его прикрыть – из-под нее просвечивала раскорякой предостерегающая буква «Л».
* * *
Да, отчим гордился своим конем. Была у него и трехлетняя дочь. Она родилась в благовещение, и потому назвали ее Благовесткой. Девочка очень походила на отца – его черты, огрубевшие с годами, отразились в детском личике с нежной миловидностью. Только руки у Благовестки были, как у покойной матери – кисти узенькие, прозрачные, усеянные мелкими веснушками.
Девочка росла ленивой и избалованной. Отец ей во всем потакал – он считал, что таким образом защищает ее от возможной тирании мачехи, а новую жену приучает к покорности. Благовестка до полудня валялась в постели, потом выходила во двор, босая и нечесаная, и, потягиваясь, жмурилась на солнышке; намочив ладошку под умывальником, проводила ею по еще сонному личику и, освеженная прикосновением воды, садилась завтракать. Мама ставила перед ней вареные яйца. «Сырые…» – морщилась Благовестка и отталкивала руку мачехи. Мама снова опускала яйца в кастрюльку, и они, лопнув, выпускали белок, который тотчас затвердевая в кипящей воде и становился похожим на кукурузные зерна. «Не хочу яиц! – бросала капризным топом девочка. – Завари чай!» Лицо мамы вспыхивало от гнева (она была самолюбива и не терпела, чтобы ею помыкали), но тем не менее она шла в соседнюю комнату, засовывала, руку в мешочек с шуршащим прошлогодним липовым цветом и, скованная ледяным, испытующим взглядом отчима, которого она в эту минуту ненавидела, ставила на плиту чайник.
Потом она выносила из дому мокрый детский тюфяк и клала его на ограду сохнуть – Благовестка мочилась во сне.
К вечеру тюфяк высыхал, мама вносила его в дом, чувствуя плечом тепло угасшего солнечного дня, и принималась готовить ужин. Она ошпаривала в медном котле зарезанного петуха (его дымящиеся грубые лапы угрожающе торчали кверху), ощипывала его (петушиные перья пахли насестом и трещали, когда их выдирали из крыльев и гузки) и палила под огнем. Желтая кожа корчилась, серела, и с нее капали крупные капли, от которых раскаленные угли шипели и гасли.
Когда ужин был готов, мы садились за стол.
В тот раз мама разделывала петуха на большом эмалированном блюде – жилистое темное мясо заставляло ее то и дело брать нож – и распределяла куски. Отчиму она положила обе ноги (кожа на них полопалась и стала пористой от варки) и белое мясо, жесткое и волокнистое. Сверху она водрузила петушиную голову с зубчатым, как пила, обмякшим гребешком и наполовину отпиленным черным, словно чугунным, клювом. Себе оставила когтистые лапы, шею, топорщившуюся комлями сгоревших перышек, и ребра. Для Благовестки отломила крылья, но, решив, что этого мало, взяла немного белого мяса из миски отчима и, капая на стол желтым жиром, переложила в миску падчерицы. Мне досталась спина, сверху покрытая пупырчатой кожей, а снизу, у ребер, облепленная двумя кусочками легких, похожими на губку, которой в школе стирают мел с доски.
Никто из нас не притронулся к еде, пока не начал хозяин. Вот он взял петушиную голову, и мягкий мясистый гребень зашевелился у него в пальцах, мы тоже склонились над мисками, но его строгий взгляд заставил нас положить вилки.
– Разве так готовят! – нахмурив брови, сказал отчим. – Совсем безвкусно, мясо все выварилось в кипятке. Тебе что, в голову не приходит положить побольше горького перца, заправить чебрецом и петрушкой?..
– Я чебрец положила, – ответила мама, – а перец побоялась… из-за ребенка.
Положила! Знаю я, как ты положила. А о ребенке нечего тревожиться, она с детства к перцу привыкла. Чего отведал при родной матери, то потом всю жизнь вкусно. Что же я теперь, по-твоему, должен к бурде привыкать?
И он неожиданно схватил свою миску и швырнул ее в угол. Мясо разлетелось в разные стороны. Кошка была тут как тут, но грохот летящих следом железных щипцов заставил ее броситься к окну и зацарапать когтями о подоконник.
Мама, растерянная и оскорбленная, вышла из-за стола. Я тоже встал.
А отчим остался сидеть как ни в чем не бывало. Он взял крыло из миски дочери, посыпал его молотым красным перцем и начал обгладывать. Второе крыло он протянул Благовестке и сказал: «Съешь, доченька, кусочек…» Потом он вытер жирные пальцы коркой хлеба и отправился спать.
На другой день, в полдень, мама как обычно вынесла мокрый тюфяк, повесила его на каменную ограду и принялась латать – тюфяк прогнил, и она пришивала к нему лоскуты от старого передника.
* * *
Как-то вечером к нам явился гость.
– Я ваш зять, переплетчик, – представился он моему отчиму и подвинул стул к очагу. – В Софии надают бомбы, воют сирены. Кто знает, цел ли мой дом! А я вот в провинции пью красное, вино и прогуливаю свой ревматизм… Мне не над чем ломать голову. Другие это делают и за меня и за вас. Хлеба нет, зато мужества хоть отбавляй. Громкие слова говорим, а дела хромают – видать, башмаки жмут…
Да, ему они и вправду жали, потому что гость наклонился, расслабил шнурки, и из его старых ботинок, пропахших потом и ваксой, показались слоновьи ноги, одинаковой толщины от колен до голени. К тому же у переплетчика был насморк, он все время хлюпал красным опухшим носом и тер его носовым платком.
Пламя очага плясало под дном сковородки, в которой мама жарила тонко нарезанные ломтики козьей бастурмы, сухие кусочки мяса шипели и выгибались, и к песне очага примешивалась птичья песенка – пронзительный свист прыгал над нашими головами и то плавно затихал, то рвался на самой высокой поте.
В углу пела новая канарейка. Я слушал ее и улыбался, вспоминая тот вечер, когда отчим привез ее из города. Он повесил клетку над очагом, но канарейка была как немая. Мы налили ей воды, насыпали проса – а она все сидела, печально глядя на нас. Тогда я заявил, что берусь вернуть ей хорошее настроение. Я был уверен, что отчим купил ее у какого-нибудь парикмахера (кто другой в городе продаст канарейку?), и поэтому, наклонившись над умывальником, хорошенько намылил лицо; слыша шипенье оседающей пены, я притащил стул и в таком виде уселся под самой клеткой. Канарейка скосила один глаз, потом другой, покрутила головкой, чтобы лучше меня рассмотреть, и принялась вдруг так прыгать и петь, что все рассмеялись.
– Из парикмахерской! – воскликнул я. – Как увидит намыленную рожу, так начинает!
– У Мустафы-брадобрея купил, – подтвердил отчим и уселся, чтобы послушать развеселившуюся птаху.
Он и сейчас сидел за столом, лицом к клетке, наливал вино в стаканы и следил глазами за прыгающим желтым бликом.
– Может, то и баловство, но люблю послушать птичью песню, радует она меня… – сказал он.
– Что другое остается человеку? – ответил переплетчик, отодвигаясь от жарко горящего очага. Стул заскрипел под его дородным телом. – Как я в детстве мечтал об электрическом фонарике, обыкновенном плоском жестяном фонарике с батарейкой! Отец все обещал купить мне его на ярмарке и все откладывал: у нас была большая семья и ему было не до фонариков. Теперь, на старости лет, я часто покупаю те игрушки, которые когда-то казались мне драгоценными сокровищами. Куплю фонарик, возьму его в руки и вижу, что это простая холодная жесть… И все же я радуюсь, выбирая его у лоточника, отвинчивая увеличительное стекло, вставляя лампочку – пусть минуту, две… но радуюсь. Тоже скажешь: ребячество!
В облике нашего гостя не было ничего ребячьего. Это был пятидесятилетний грузный мужчина. Костюм его, с широкими острыми лацканами, был сшит из английского сукна, купленного еще до войны, мелкие пуговки на сером жилете были так густо посажены, что казались ниточкой бус. Его лоб был исчерчен морщинами и благодаря лысине тянулся до самого затылка. Когда переплетчик говорил, все они приходили в движение и собирались в стопку, как лежащие на его столе страницы книг, которые он готовился переплести.
* * *
У него была небольшая мастерская в Софии, рядом с Палатой правосудия. По утрам, когда он шел в мастерскую, покручивая на пальце цепочку с ключами, ему навстречу, зажав под мышкой папки, спешили блюстители справедливости в сопровождении своих клиентов: старых крестьян в потертых бараньих шапках и городских дам в манто с большими пряжками на широких поясах, над дамами витал запах духов. Адвокаты дружески ему кивали, направляясь к железным дверям того здания, в которое входят преступность и ложь, а выходит одна лишь чистейшая правда, воскрешенная красноречием этих неутомимых радетелей.
Переплетчик садился за рабочий стол, включал электрическую плитку, чтобы разогреть клей, вдевал нитку в иглу, кривую, как рыбья кость, счищал со страниц старый клей, укладывал их стопкой друг на дружку и принимался за работу.
Дверь его мастерской, куда можно было попасть лишь через крытую галерею, по обе стороны которой размещались адвокатские конторы, как бы делила мир на две половины. С одной стороны – молчание книг, их мудрая жизнь, скрытая за толстыми переплетами. С другой – будничные человеческие страсти. Город был искалечен бомбами, но люди этого словно не замечали. Они судились из-за земли и нанесенных оскорблений, боролись за ордена и почести. Дантисты спиливали их изъеденные временем зубы и ставили коронки и мосты, которые синели во рту, словно были из жести. Те, что сумели отсудить себе землю или получить сатисфакцию, недолго торжествовали: приходил новый истец – какой-нибудь инсульт или инфаркт, – и прикованный к кровати человек, который успел обзавестись еще одним участком земли, еле шевеля побелевшими губами, умолял близких (те уже прикидывали в уме, как поделить имущество покойного), чтобы его обрядили в черный с синими полосками костюм, а на груди чтобы был орден, полученный за взятие Тутракана…
Адвокаты спешили в свои конторы, крестьяне, поплевывая на корявые, потрескавшиеся пальцы – они всю жизнь лопатили навоз и доили овец, – отсчитывали на их столах банкноты, пропахшие мышиным пометом и нищетой, а переплетчик переплетал книги. Он смотрел, как переплетный нож – эта звенящая от остроты гильотина – плавно опускается на страницы, словно приводится в исполнение приговор, и топкие обрезки, жалкие и ничтожные, как большинство человеческих деяний, топорщатся на полу, чтобы спустя какой-то час их затоптали его ботинки.
В молодости переплетчику был чужд пессимизм. Он верил в свои силы, верил, что сможет бороться со злом и его победить.
Однажды он оказался свидетелем того, как на трамвайной остановке какой-то мужчина бил женщину. Недолго думая, он соскочил с трамвая и встал перед обидчиком. Блузка на женщине висела клочьями, из-под нее виднелась зеленая комбинация, обшитая по краю рваным кружевом.
– Что вам угодно? – спросил мужчина, красный от злости.
– Не смейте бить женщину!
– Да я и тебе расквашу физиономию!
– Попробуйте…
Тот попробовал, и переплетчик отлетел в сторону, чуть не угодив на трамвайные рельсы.
Тогда вмешалась женщина.
– Шли бы своей дорогой, – сказала она. – Это наши семейные дела, что вы-то суетесь?..
Переплетчик поплелся домой с помятыми боками. А супружеская чета продолжала ругаться и таскать друг друга за волосы. На противоположной стороне тротуара останавливались прохожие. Не понимая, что происходит, заходили в зеленную лавку, покупали там пучок редиски или связку свежего чеснока и, помахивая базарными кошелками, шли себе домой.
В другой раз он получил еще один урок.
Тогда он служил разъездным торговым агентом в фирме, продающей швейные машины «Зингер». Ездил по селам Искырского ущелья, Петроханского и Брезнишского края, предлагая свой дорогой товар. Он таскался по дворам, где его облаивали дворовые собаки, и обедал в деревенских харчевнях. Там за столиками, расстелив газеты, сидели крестьяне, чистили вареные яйца (яичная скорлупа валялась на полу и хрустела под ногами) и тонкими ломтиками резали янтарно-желтый шпиг. Он смотрел на них и думал: «Неужели здесь кто-нибудь нуждается в швейных машинах такой известной марки?» – одежду из грубой домотканой шерсти, которую носили местные крестьяне, можно было шить лишь на руках, и то с помощью шила.
Приближались выборы. В одном из сел, под Петроханом, наш коммивояжер узнал, что вечером в здании школы состоится собрание, на котором будет выступать какой-то приехавший из Софии политический деятель. Он поболтался по улицам и, так как деваться было некуда, решил пойти послушать. Когда он входил, крестьяне, стоявшие у дверей, проводили его глазами – верно, приняли его за охрану – и продолжали свой разговор.
Оратор вытер лицо грубым деревенским платком (он был опытным и знал, что это произведет нужное впечатление) и начал речь. Он заговорил о том, как беден этот горный край и как он расцветет, если его особу выберут в народные представители.
– Братья горцы, Демократический сговор[4] надеется на вас, ибо, как говорится в поговорке, только горы рождают истинных мужей. Мужей, на которых мы, устремленные в вожделенное будущее, хотим опереться!
– И картошку еще родят наши горы, только ее поедает колорадский жук, – заметил кто-то.
– Пусть поедает. Мы с ним расправимся! У нас есть способ! – жестко сказал представитель Демократического сговора. – Вы его потом днем с огнем не сыщете…
«Сейчас он пообещает построить мосты или провести в эту глушь железную дорогу» – подумал, улыбаясь, коммивояжер. Но он ошибся. Оратор стал клеймить своих идейных противников. Он так распалился, что пришлось расстегнуть воротничок. Вытирая потную шею (деревенский платок нещадно царапал кожу), подавшись всем корпусом вперед, он рассекал пространство вытянутой вперед рукой. Голос его гремел:
– Господа крестьяне, вы сами знаете, что сделали те, за которых вы несколько лет тому назад так опрометчиво голосовали! Они обещали крестьянам молочные реки и кисельные берега, а, добравшись до власти, разжирели и обо всем забыли… Они разъезжали в колясках!
– И вы не станете пешком ходить! – отозвался голос того же крестьянина, чью картошку съел колорадский жук. – И у вас под задницей будут поскрипывать рессоры…
В зале засмеялись, но оратор сделал вид, будто не слышал, и продолжал:
– Их обуял разврат! Они стали сажать за государственную трапезу своих дядюшек и племянников… Народ голодал, а они ели жареных барашков!
– И вы не станете есть их сырыми! – не стерпев, гаркнул коммивояжер с заднего ряда.
Оратор прервал речь, поднял ногу, словно хотел попрать труп врага, и зловеще произнес:
– Господа, в этот зал проник противник наших идей, – противник всего самого вожделенного, к чему направлены взоры нашего многострадального и героического народа. Мы не должны оставаться к нему равнодушными, господа!.. Мне сообщили, что здесь присутствует агент тех, кто всячески стремится подорвать веру в наши благородные идеи…
Потом, при проверке, оказалось, что именно на неизвестное лицо, сидевшее в заднем ряду, и была возложена задача подорвать веру в благородные идеи представителя от Демократического сговора. Растерянный коммивояжер напрасно старался объяснить, что он действительно агент, но всего-навсего фирмы по продаже швейных машин, – местные эксперты доказали, что его документы подложные.
Он всю ночь просидел в деревенской каталажке в подвале Общинной управы, и только на другой день сторож вытолкал его взашей. Всю дорогу до самой Софии он чувствовал, как на спине его горят саднящие следы побоев, будто то была кровавая строчка гигантской швейной машины марки «Зингер».








