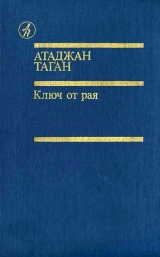
Текст книги "Ключ от рая"
Автор книги: Атаджан Таган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 34 страниц)
Прошла еще неделя, и старому мукамчи стало совсем плохо. Он уже не мог принимать всех приходящих и приезжающих к нему с разных концов степи людей, не мог подолгу разговаривать и с Нуркули, а тем более показывать на дутаре – пальцы дрожали и вовсе перестали слушаться его, не могли воспроизвести и простейшего басы-ма. Айпарча, не отходившая от мужа, только удивлялась, как они быстро успели привязаться друг к другу. Каждую минуту, свободную от помощи по дому и возни с братишками, проводил он в кибитке стариков, помогая и здесь чем можно, и звонкий голос Нуркули они слышали еще с середины аульного хатара и всегда с нетерпеньем ждали его. «Вот и сынок у нас появился, – без тени улыбки говорил ей Годжук Мерген. – Жаль… ах, как жаль, что так поздно… И вот что скажу я тебе, Айпарча. Сама видишь, недолго я здесь, и плакать о том не надо, ибо разлука наша временной лишь будет. Я о другом: возьми тогда мальчика под свое крыло, не дай сбиться с пути… ты знаешь как. А лучше его, я вижу, Салланчак-мукам скоро никто не сумеет сыграть, старые глаза и уши меня вряд ли обманывают…» И ему говорил: «Научиться хорошо бренчать на дутаре, Нуркули, не так уж и сложно, терпенье имей только и верное ухо. Не в одном этом наше дело, вот что помни. Не в том, чтобы сменять один праздник другим, от дастархана к дастархану ездить. Те, кто делает так, – просто наемные музыканты, не больше…
А настоящий мукамчи поет о том, о чем народ думает, чего народ ждет. Он с людьми не только на празднике… он всегда и везде с ними, всей душой своей. Вот когда ты сочинишь мукам, который станут петь все, и не только на праздниках, но и в поле, в степи, – вот тогда ты еще можешь подумать о себе, что ты мукамчи. Но не говори этого никому другому, никогда. И я в могиле своей перевернусь, если услышу, что ты зазнался… Мукамчи всегда слуга людей, мой мальчик, а не распорядитель на пирах. Запомни – слуга…» Мальчик глядел на него блестящими смышлеными глазами и не кивал, а лишь смущался иногда, когда учитель угадывал его мальчишеские, еще только лишь праздничные мечтания и остерегал от лишнего увлечения ими…
А черная курица земли была все ближе, все приближалась – черная курица, точно зерна склевывающая людей… Она приходила долгой и тяжелой бессонной ночью, и Годжук Мерген будто видел ее безмерную глухую плоть, которая скоро отделит его ото всего. Страха особого не было в нем, становилось только не по себе, и все казалось, навязчиво казалось, что мир осиротеет без него, станет каким-то неполным-однобоким – не без него, известного всем мукамчи, а просто без человека, носившего это имя – Годжук Мерген… И ему было жаль и себя, и все, что он оставляет на неведомый произвол времен…
И он с нетерпеньем ждал дня, рассвета, который мог оказаться для него и последним. С помощью соседей Ай-парча выносила его вместе с постелью наружу, на воздух, и он подолгу глядел на синеватые, весенним маревом колеблемые предгорья, на которых ему уж не бывать, в желто-зеленые дали песков, в небеса, невозмутимо голубые, крутым куполом уходящие в свою бездонность.
Жизнь прошла, и была в этом какая-то отрада, которую он не мог ни понять, ни хоть как-то определить.
Приехавших и пришедших проститься с ним было все больше, он видел, как они подымались в аул по дороге, но сил видеться и говорить с ними уже не было. И он попросил через соседей, чтоб они не тревожили понапрасну ни себя, ни его и возвращались по домам. И чтоб то же передали и встречным.
Его привлек однажды дружный, какой-то особенно остервенелый лай аульных собак. Он медленно перевел глаза на тропу и увидел прямую высокую фигуру черного гедая, невозмутимо шагавшего среди озлобленной своры прямо к их кибитке. Собаки, видно, чуяли в нем звериный, ненавистный им дух пустыни, наскакивали, но ни одна из них не осмелилась схватить его даже за полы одежды.
Горластая собака не оставит дом без гостей, вспомнил Годжук Мерген поговорку и тихим голосом поприветствовал подошедшего гедая.
– Мы не нашли лекарства… – вместо ответа сказал гедай и тяжело, устало сел против него прямо на песок. – Мы не нашли.
. – Мне его уже не надо, добрый человек…
– Оно нужно было не столько тебе, сколько нам, – сурово сказал гедай, глядя ему прямо в глаза. – Но мы не нашли его. А ты плох…
– Плох, – согласился Годжук Мерген, с последним интересом всматриваясь в того, кто так и оставался для него загадкой. – Но что говорить об этом…
Скорая на все Айпарча уже постелила дастархан, принесла и разлила по пиалам чай, предложила и коврик гостю, но тот даже и не взглянул на него:
– Садись и ты с нами, повитуха. Последний привет хочу я передать тебе от подруги.
– От подруги? От какой, добрый человек? У меня их много в окрестных аулах…
– То знакомые, а подруга у тебя была одна, и ее больше нет. Гюльджемал умерла.
– Гюльджемал?! – еще больше удивилась Айпарча, тревожно глядя на него и пытаясь припомнить. – Но такой среди моих знакомых вроде нет… Но подожди, добрый человек, подожди…
– Вот ты и вспомнила. – Какое-то удовлетворение проступило на темном хмуром лице гедая, глаза его остро блеснули из-под свалявшейся бараньей шапки. – Вы забывчивы, как земля, женщины. Все, кроме твоей подруги…
– Как, та Гюльджемал, жена терьяк-кеша, курильщика опиума?! Но разве она жива?..
– Черная Нищенка умерла. Пяти дней не прошло, как погибла она…
– Нищенка?! Так это она?!
– Она. Она, опаленный цветок пустыни. И ее уже нет. Ее зарубили нукеры в белой выездной кибитке Рахими-хана.
– Но как же так…
Изумленная, растерявшаяся Айпарча переводила глаза с гедая на мужа, который слушал, не проронив ни слова, полузакрыв глаза, – видно тоже пытаясь вспомнить те такие далекие времена, ту частую гостью в их кибитке…
– Я один знал, знаю тяжкую жизнь ее, – не обращая, казалось, внимания на все, что происходило с хозяйкой, продолжал гедай. – Это ее первую сватал Караул за своего брата – за тебя, Годжук Мерген. Это она, приученная мужем, тоже стала курить тайком опиум… и страсти и пороки ее могли принять и вместить только пустыня, только последняя свобода пустыни. Так велела передать она, когда ее уже не будет. Я передаю. И это она, усыпив телохранителей, сумела как-то попасть в белую походную кибитку хана, где в его заветном сундучке хранилось лекарство, нужное нам. Что там случилось, кто застал ее, я не знаю пока. Но это ее в ее засохшей от крови мешковине тайком зарыли нукеры в распадке между барханами. И над ней, раскопав, хохотали и скулили шакалы.
Они долго молчали: гедай, уставившийся на никому не нужный дастархан, яшмаком закрывшая рот Айпарча с глазами, полными слез, и старик, у которого уже все было позади…
– Прощай, великий мукамчи, – гедай, тяжело опираясь на посох, встал. – У меня есть еще одно дело: предупредить твоего брата Караула, что Акназар, сын Гюльджемал, спустится сюда с гор через четыре дня у Камня Аллаха… Пусть справедливость восторжествует.
– Откуда ты знаешь это? – прервал свое молчание уже не удивлявшийся ничему старик, глазами успокаивая опять встрепенувшуюся было Айпарчу.
– Степь знает все. Степь знает и об этом человеке, бежавшем еще подростком от своего деда и бабки с ватагой каких-то разбойников. Два раза мать настигала его, но приготовленный яд лежал у материнской груди, и сыпать его в пиалу надо было материнской рукою… Она завещала свое отродье мне, и я о нем позабочусь. Хоть ты и спел над ним свой Салланчак-мукам… – добавил он. И, пронзительно глянув, глубоко поклонился, повторил – Прощай, великий мукамчи. Прощай и ты, повитуха.
– Прости тебя небо…
И долго виднелась среди уходящих волнами в вечность песков его прямая черная фигура, все уменьшаясь, темной уже черточкой, точкой сквозя там, – пока и ее не поглотила безмерная пустыня.
18Старожилы не могли припомнить весть, которая бы так всколыхнула и опечалила степь, скорбно прокатись по ней до самых дальних и глухих ее углов, войдя в каждую мазанку, в каждой кибитке отстранив килим, – весть о том, что их старый мукамчи при смерти… По дорогам и тропам потянулись в предгорный аул, приезжая и приходя, ото всех сторон люди, не жалея о прерванной работе, о потерянном времени, не считаясь с дорожными тяготами. Многие хотели увидеться напоследок, попрощаться с человеком по имени Годжук Мерген.
Жители аула, земляки мукамчи, встречали их, всех тут ждали готовая пища и кров, – встречали, но передавали пришедшим большую, последнюю просьбу его: не съезжаться, не устраивать пышных похорон ему, а жить как жили, не тревожась особенно и его понапрасну не тревожа… И они, поклонившись неприметной среди других кибитке его, разъезжались, разносили встречное известье, просьбу, которую не выполнить было нельзя…
Багтыяр-бег, слыша день ото дня ухудшавшиеся вести, оставил караван в одном из селений и поспешил в предгорный аул на коне. И чем ближе он подъезжал к нему, тем больше видел людей, едущих и бредущих туда, встречал возвращавшихся… Люди шли и шли, и никогда, пожалуй, местная степь не видела столько их, – но не оживляли они теперь пустыню, не вносили с собою того особого, деятельного человеческого присутствия, которое подчиняет себе все: пески, далекие синие отгорья, живое и неживое под высоко раскинувшимися небесами. Ибо это было не переселение или еще какая-либо рабочая человеческая нужда – это было скорбное шествие, и ему не было конца… И эта непритворная всеобщая печаль людей поразила Багтыяр-бега. Он, повидавший немало героев и злодеев, великих и малых мира сего, переживший многие бунты и торжества народные, рожденья и смерти, – он впервые видел, чтобы одно чувство, печаль эта, подступавшее горе это так охватило всех. Да, всех и каждого, ни единого из них не оставив в стороне… Но если целый народ, все – злые и добрые, лукавые и простаки, глупые и умные – все так верят в этого человека, всеми помыслами с ним, то не свет ли добра он и для других народов? И для народа Багтыяр-бега тоже, а значит, и для него, человека по имени Багтыяр, волей рока заброшенного на чужбину?.. Ведь истина, ведь понятия хорошего и плохого одинаковы для всех, живи ты по эту сторону гор или по ту…
Люди шли и шли… Конечно же это была не сплошь зеленая долина Мургаба, где люди на каждом шагу; но здесь, в Каракумах, встречать или догонять в каждые час-два по человеку значило, что дорога полна людьми.
Порой они сходились по нескольку человек и шли или ехали вместе. Прибился на ночевку к нескольким таким всадникам и Багтыяр-бег. Он уже особо не опасался, что его опять подкараулят на тропе, и про себя даже усмехнулся простодушию туркмен во главе с черноусым: на их месте он, подозревая про лекарство, распорол бы все халаты и одеяла, расшил седла, все до мелочей бы про-верил-просмотрел, обыскал, даже свалявшуюся шерсть на верблюдах… песок обшарил бы далеко вокруг, в рассуждении, что могли и выбросить потихоньку. А они хоть горячи и горды, но простодушны порой до наивности. Да, он уже убедился, что ни арабская замысловатая хитрость, ни тем более китайская коварность сюда, в этот народ, не дошли. Дети земли, трудом измеряющие все… да не таков ли и твой народ, Багтыяр-бег? Тому, кто сам зарабатывает хлеб свой, некого обманывать.
– А вы разве не слышали, что говорят встречные? – спросил он первым делом попутчиков.
– Слышали. Но мы и не будем тревожить нашего мукамчи. Мы только передадим или сами скажем тетушке Айпарче, что мы здесь. И если что надо для него, мы готовы.
– Я тоже, – хмуро сказал уже зрелый, с рубцом через всю правую половину лица скотовод-кочевиик. – Я только поклонюсь издалека благословенной кибитке, вместилищу наших душ, от всей моей семьи. Восемнадцать лет назад он спас нас от рабства на чужбине. Один догнал и остановил шайку бессердечных людей. Как нашел он у них сердца, уговорил – до сих пор не знаю… А они были работорговцами и сначала хотели его убить. Его уже повели за бархан…
– За бархан?! – гневно переспросил кто-то.
– Да. Но он сказал им: «Разве бархан отгородит вашу неправду от моей правды? Или вас от глаз аллаха? Но ведите, раз надумали вести. Живите с моими муками в ушах. Одно хочу: чтоб о вас хоть кто-нибудь пожалел над вашим последним ложем. Чтобы хоть мой мукам долетел, пожалел…» Я был мальчик, но помню эти слова. А они были туркменами. Их предводитель начал ругаться, но остальные не захотели вести нас дальше. И оставили нас посреди песков, уехали. Мы шли назад целый день, обессилели совсем, и тогда мукамчи подвел к отцу свою лошадку и велел зарезать ее, иначе мы из песков не выбрались бы. А сам ушел за бархан, чтоб не видеть… он любил свою лошадь. Жарили мясо на палках, вялили. Так мы вернулись, и я все помню, хоть был маленьким.
– И он что, совсем не испугался… когда повели его за бархан? – Багтыяр-бег испытующе смотрел на кочевника.
– Зачем – «не испугался»? Испугался. Он весь побледнел, потому что бархан был рядом. Он – человек…,
Они расположились на ночлег в ложбине, наломали в саксаульнике сухих веток, вскипятили воду для чая.
– Нет, его не убили бы, – сказал, продолжая разговор, другой путник. – Стоило ему лишь вынуть свой дутар и заиграть… Это не простой дутар. Нет, не простой. Люди говорят, что ветер стихает, когда он начинает звучать. Что болезнь отступает… что даже смерть сама не любит его звуков, боится. Это говорят люди, видевшие и слышавшие его, а они-то знают.
– А ты разве не видел его, нашего мукамчи?
– Нет, правоверные, не довелось… Всю жизнь мечтал об этом, но мы живем далеко отсюда. Один раз, давно, он был и на нашем стойбище, но я тогда был с отарой в отгоне. Я даже плакал, узнав… да, плакал. А теперь вот решил. Я упрошу тетушку Айпарчу, чтоб хоть взглянуть на него. Я тоже играю на дутаре – но что мой дутар…
– А говорят, самый обыкновенный у него дутар…
– Неправда! Тот, кто так говорит, полон зависти… да, зависти и злобы! Таким никто у нас не верит!
– Он просто человек, вот что я помню… – задумчиво проговорил мужчина со шрамом. – Он никого не обидел, никогда.
– А теперь умирает… Говорят, ему ищут какое-то особое лекарство? Такое, какое только у шаха, может, есть… Но шах не любит его. Рассказывают, что он сказал: «Как, эта туркменская птичка еще не сдохла?!»
– Не врут ли? Даже гызылбаши не смеют порочить его, не хотят ссориться с нами… А он умирает. И мы ничего не можем сделать…
Угрюмое молчание наступило у костра. Это было братское молчание, и невольная жалость и сочувствие к ним шевельнулись в душе Багтыяр-бега – и еще зависть… Да, они на своей земле, они одно оплакивают, свое, – а он?.. Они провожают в свою высокую память, в свои легенды и предания большого, родного им человека, – а он, Баг-тыяр? Что, кроме козней и склок ханского или даже шахского двора, ждет его среди чужих людей, среди чужих душ? Что-то тебе делать надо, Багтыяр, как-то возвращаться к родному…
– Все бы отдал, чтоб найти то лекарство… – человек со шрамом неотрывно смотрел в огонь костра, говорил медленно. – Весь скот свой, пожитки… кибитку бы продал. В долги бы залез. Внаймы пошел. Вай!.. как мальчишка, жизнь бы отдал!
– Да такого лекарства, наверное, и на свете-то нет…
«Что ж ты, Багтыяр, молчишь? Помоги им. Все в твоих руках – помоги… Или тебе дороже, нужней еще одна торжествующая ухмылка Рахими-хана?»
– Такое лекарство есть. И жизнь за него отдавать не надо… – Под недоумевающими взглядами попутчиков Багтыяр-бег полез рукой к себе за пазуху, в кармашек под мышкой, достал коробочку и положил ее на старенький килим, служивший им дастарханом. – Вот. Правда, его немного. По на первое время хватит…
Долгое – очень долгое, показалось Багтыяр-бегу, – молчание прервал кочевник-скотовод:
– Ты не смеешься над нами, иноплеменник?! Ты хорошо подумал?.. Вот этой руки боятся все нары в нашей округе…
– А разве я похож на человека, который может шутить этим? – Багтыяр-бег твердо, чуть холодновато поглядел ему в глаза. Силу своего взгляда он знал тоже. – Я вас не обманываю, добрые люди. И затем и еду туда. Затем и спешу.
Растерянность и удивление на глазах сменились в них пока еще недоверчивой, но радостью:
– Добрый человек, да откуда ты?!
– Это лекарство… оно же очень редкое, да?
– Неужто поможет?!
Багтыяр-бег переждал первые беспорядочные вопросы и восклицания, сказал:
– Не спрашивайте меня ни о чем. Чем меньше об этом будет знать людей, тем лучше… для вашего же му-камчи лучше. Не знаю, сильно ли оно поможет ему. Знаю только, что лекарство в этой коробочке – то самое… Вот все, что могу я вам сказать. Верьте, я неравнодушен к вашей беде. Мой народ тоже терял своих больших людей…
При последних словах кочевник, не отрывавший от него глаз, загоравшихся то надеждой, то недоверчивостью и даже враждой, встал:
– Если так, иноземец, то время дорого. Сидеть здесь теперь, когда… Ты готов ехать сейчас?
– Согласен с тобой. Времени мало.
– Тогда седлаем. Утром мы должны быть там…
19И еще неделю дало Годжуку Мергену небо. Неделю раздумий, высоких, в свою бесконечность уходящих небес и какого-то порой полусна – зыбкого, будто покачивающего старого и усталого мукамчи на своих волнах… Или в колыбели своей под родной ему тихий посвист степного кочующего ветра.
Иногда Айпарча с соседями ненадолго допускали к нему тех, с кем был он дружен особенно давно и крепко. Он говорил с ними мало, больше смотрел и слабо улыбался, радуясь за них, еще крепких, уверенных в своих движениях и в себе. И они уходили, запомнив навсегда, что провожал он их, прощался с ними именно с этой молчаливой слабой улыбкой.
Весна проходила, ночь выдалась душная. Все оклавы, все метки на них были пересчитаны, перебраны памятью. Все Салланчак-мукамы спеты. Весна проходила, наступила глухая беззвездная ночь, и он почему-то знал, что ночь эта – последняя… С берегов Лебаба простерлась она до седого Хазара и дальше, поглотив собою мирные аулы и стойбища, людей и стада, текучие пески и кремнистые вершины, – поглотила и усыпила без сновидений, без единого шороха. Один он не спал, ибо последней была эта ночь. Он тонул в ней, он лежал на ее дне и слушал, но она ничего не говорила ему, ничего не было в ней, кроме безмолвного обещания, что другой ночи не будет…
Он попытался вспомнить еще что-нибудь, но все уже было перебрано и словно уложено на дно глубокого чувала, приготовленного к дороге. Он попытался было представить, что будет после него, как люди будут вставать с каждым восходом солнца и продолжать свою вековечную работу, встречать свои праздники и бедствия, – и представил, но это ничего не дало ему, не вызвало даже зависти к ним; одно только сожаленье… и жалость к ним шевельнулись в его душе. И тогда окончательно понял, что сделал он тут все, что уж собран и готов, все готово в нем и собрано в ту неразъединимую с тьмой земли дорогу, которой не будет конца… И ждал он лишь солнца.
Рано утром сквозь наплывающее забытье он услышал глухой торопливый топот копыт – там, на въезде в аул. Он приближался, будя застойную тишину спящего селения, отзываясь разрозненным лаем собак во всех его концах, направляясь сюда, к последнему пристанищу мукамчи. Его Айпарча, будто вдвое постаревшая за эту весну, торопливо поднялась, вышла навстречу нарастающему конскому топоту – и вот он у самой кибитки замолк, сменившись приглушенными голосами, приветствиями.
Он не мог расслышать, о чем они там говорили, разобрал только дважды повторенное слово – «лекарь», «тебиб»… Неужели они еще надеются чем-то помочь мне, тягостно подумал он, неужели ничего им не ясно?.. Один из лучших тебибов степи уже давно жил в ауле, у соседей, пытаясь облегчить болезнь Годжука Мергена, и хоть с успехом лечил между делом аульчан, но против его старости был бессилен. Неужели им непонятно, сколь неотложная, сколь нужная усталому телу и духу дорога ему предстоит?..
Откинув килим и впустив свет розовой зари, вошла спутница всей долгой-долгой жизни его, старым материнским лицом склонилась над ним:
– Годжук, родной, известие радостное принесла тебе… Привезли то самое лекарство!..
Он смотрел на нее долго и сказал:
– Вынесите меня.
Незнакомые мужчины, от которых терпко пахло конской сбруей и полынью степей, бережно вынесли его вместе с постелью наружу, на воздух, под высокое, рассветными красками занявшееся небо. Эта бережность, эти внимательные, каждый взгляд его ловящие глаза их тронули мукамчи, но как-то мимолетно. Пришел тебиб, и статный, в добротной одежде и с умным, чем-то знакомым лицом мужчина достал из-за пазухи и отдал ему небольшую коробочку.
Тебиб долго разглядывал, даже попробовал на язык ее содержимое, поковырял серебряной палочкой и эту палочку внимательно осмотрел; и наконец произнес:
– Да, это оно… Это спасение!
И мгновенной радостью осветились напряженно ожидавшие вокруг лица и глаза. Но мукамчи тихо, очень тихо сказал:
– Не надо.
Его не поняли, и тогда он повторил свою просьбу и без огорчения увидел, как вытянулись их лица, как нахмурился тот статный, с умным властным лицом. Да, это лицо было знакомо ему, только он не мог вспомнить, где и когда видел его.
Годжук Мерген указал ему глазами на место подле себя, и тот сразу понял, осторожно присел.
– Я где-то видел тебя… добрый человек. Ты кто?
– Да, мы встречались, славный мукамчи. Я советник Рахими-хана, имя мое– Багтыяр…
Старик удовлетворенно прикрыл глаза, кивнул, что-то вроде улыбки тронуло его запавшие губы:
– Я слышал про тебя… Ты умен… незлобив… Мне рассказывали. Ты привез лекарство?
– Да, мукамчи.
– Не надо. Что лекарства… Но ты, иноземец, не на своем… месте. Лечись сам. Будь достоин себя.
– Обещаю, мукамчи. Еще я хотел сказать тебе, мукамчи, что туркмен хотят натравить на шахские отряды. Хотят чужими руками взять столицу, чужой кровью купить власть…
Старик открыл глаза, ясно глянул, шевельнул губами:
– Рахими?..
– Да, бахши.
– Расскажи брату. Он будет здесь. Будет скоро.
– Расскажу. И вот… – Багтыяр-бег, замешкавшись рукой в кармане, достал наконец и положил на безвольную ладонь старика обе половинки своего ножа. – Вот что еще, кроме лекарства, привез я тебе… пока что лишь от себя. Только от себя.
Мукамчи поднес их к глазам, увидел и нахмурился было. Но вот понял и, глядя благодарно и ласково, сказал с трудом, язык уже его не слушался:
– Вот за это спасибо… чужеземец. Я верю тебе. Спасибо… – И повторил: – Будь себя… достоин. Иди.
– А лекарство, о бахши? Может, все-таки…
– Нет. Время его ушло. Иди. Айпарча…
И опять родное материнское лицо склонилось над ним:
– Да, мой Годжук?..
– Айпарча, ты не забыла отдать… отдать дутар Нур-кули?
– Нет-нет, разве могу я забыть…
– Отдай. А мы… мы встретимся. Моя смерть – это чье-то рожденье, да… Да, так. Сыграйте потом надо мной его. Его, Салланчак-мукам…
Он замолчал, прикрыв глаза, тихо и часто дыша. Потом забеспокоился, открыл их, поглядел в небо:
– Солнце. Я ждал его… когда же солнце?..
Они расступились, открывая путь взгляду на восток. Краешек светила уже показался там, в сухой сквозной дымке горизонта, озаряя неярко ее и песчаные волны пустыни– волны, уходящие к престолу мира, в вечность.
Эти волны качали на себе, укачивали век за веком, захлестывали государства и столицы, несли на гребнях своих пыльную пену орд-завоевателей, влекли собою переселенческие арбы и торговые караваны, хоронили и вновь возрождали оазисы. И они же звали теперь с собой, качали-укачивали и его, маленького среди них, как младенец в зыбке, Годжука Мергена – звали к невянущей зелени древней родины, к ее неиссыхающим родникам, исцеляющему от всех скорбей воздуху, в безмятежный свет… И он, сделав здесь все, с легкой душой подчинялся им, и его укачивало и несло все дальше и дальше, все легче, невесомей, беспамятнее – по дороге, с которой не возвращаются.
Но он вернулся, и он в нас, как вернулись все, прошедшие во тьме, чьи следы, казалось бы, навечно зализал песок времен, чьи имена поглотила забывчивая земля, а дыханье давным-давно развеялось под бесстрастными небесами. Они не только во вздохе ветра, в крике полуночной птицы, в мерном дрожании струн дутара, рассказывающих о былом. Они в нашей крови, и есть ли что другое, связующее надежней, несмотря на все прихоти времен и нравов?..
Подтверди это, славный мукамчи Годжук Мерген.








