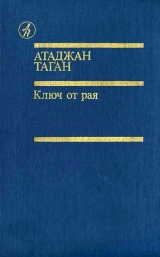
Текст книги "Ключ от рая"
Автор книги: Атаджан Таган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
Перебирая палки-оклавы с метками человеческих жизней на них, далеко унесся мыслями старый мукамчи. Из забытья вывел его детский голос с порога;
– Ата, саломалейкум!..
Старик повернул голову ко входу, пригляделся. Мальчик лет семи робко поглядывал на него, не решаясь пройти дальше.
– Валейкумэссалом, сынок! – Он обрадовался, что появилась наконец-то живая душа возле него. Всю жизнь провел он с людьми и не любил даже краткого одиночества – кроме разве что случаев, когда складывался, рождался в душе новый мукам. – Что же ты остановился? Проходи и садись, будь гостем, раз пришел. Гость – это дар судьбы, и не должен он стесняться. – И шутливо добавил: – Пусть хозяин суетится, а не гость…
Мальчик учтиво, как его учили, поклонился и прошел в кибитку, сел перед хозяином.
– Кто же ты будешь, сынок? Что-то не помню я тебя средь ребятни аула.
– Мама сказала, ата, что ты меня вспомнишь…
– А кто же твоя мать, кто отец? Откуда вы?
– Мы приехали вчера только… мы будем теперь в вашем ауле жить. Как твое здоровье, ата? Мама мне сказала… Велела мне спросить, можно ли ей с отцом прийти к тебе сегодня?
– Конечно, сынок. Мой порог никому не заказан. Но кто же вы?
– Мы… мы дехкане. А мама сказала, что ты все вспомнишь, если я скажу… – Мальчик поднял глаза к туйнуку, старательно припоминая. – Если я скажу про несъе-мукам[118]118
Несъе-мукам – буквально: песня в долг, взаймы.
[Закрыть]…
– Несъе-мукам?!.. В долг? Кому же это я мог дать песню в долг?.. Ах, вон оно что! А я уж и совсем было забыл про это. Да, был такой Салланчак-мукам, спетый в долг… Так ты, выходит, сын ее?! – Годжук Мерген тихо и счастливо рассмеялся. – Ах, как порадовал ты меня, сынок!.. Ты живешь, мальчик мой, и что мне еще надо?! И у тебя есть братишки, сестренки?
– Да, ата. Целых двое. Но они маленькие еще.
– Целых двое?! – Старый мукамчи сам радовался как ребенок. – Надо же! Да-а, я спел колыбельную над тобой, когда тебя, сынок, еще и в помине не было… Дай мне хотя бы дотронуться до тебя. Какой ты большой, совсем уж джигитом стал…
И поднял свою немощную руку, ладонью коснулся теплых волос немного растерянного, удивленного и почтительно глядящего на него мальчика…
…Шла по туркменской степи весна, ярким и скоротечным цветением устилая свой путь, свежий, еще не истомленный зноем ветер шумел в нарядных от первой зелени саксаульниках, призывно свистели птицы. А люди работали, торопясь не упустить весну, подготовиться к нелегким испытаниям лета, не менее беспощадного здесь ко всему живому, чем зима. Люди чистили колодец, оберегая воду – защитницу, покровительницу всей здешней жизни. Молодой Нуркули-ученик, всего две недели назад женившийся, спускается на веревке в колодец, чтобы привести в порядок обвалившуюся в одном месте его стену. Опускается на глубину тридцати человеческих ростов, а колодезный мастер Махмуд-уста и его помощники понемногу отпускают веревку. Стены колодца выложены-переплетены салемом – толстым саксауловым и иным хворостом; и, кажется, нет им, идущим вглубь, конца… И вдруг там, во тьме, где должны быть вода и дно, рождается и нарастает какой-то зловещий гул, а вместе с ним надсадный скрип стен… Не впервой спускаться Нуркули в глубину, в самое водоносное чрево матери-земли, – но впервые слышит он эти неведомые и грозные глубинные звуки. «Махмуд-ага, колодец стонет!.. – кричит он, не сдерживая уже страх свой, вверх, к недостижимо далекому, кажется, теперь, окошку неба, весеннего света… – Он стонет, уста!..» – «Да-да, слышу… мы поднимаем тебя, сынок, – держись!..» Но гул и скрип разрастаются, захватывая все и глуша, будто это сама вселенная скрипит и расшатывается вся… зловещие струйки песка текут, змеятся, сливаются в тяжелые потоки, рушатся на него, затмевая последний свет, – и с тяжким вздохом, с хрустом и треском сминаемого салема проседает земля и замолкает. Замолкает навек…
Будто сам все это видел, испытал на себе Годжук Мерген – так явственно слышат уши гул этот утробный, жуткий, видят глаза тяжелые, захлестывающие потоки песка… Да, не приведи аллах никому увидеть это, рассказанное ему совсем еще молодой женщиной. Он встретил ее, возвращаясь домой из дальней поездки, на улице одного из аулов вдоль гор. Он только что въехал в аул и изнемогал от долгой жажды, а она шла с кувшином на плече от источника. Считалось неприличным просить напиться воды у девушки или молодой женщины, но Годжук Мерген мог оправдаться возрастом своим, а еще более – жаждой.
– Сестренка, – сказал он, подгоняя заморенного коня и равняясь с ней, – ты бы напоила старика… Все во мне пересохло, даже и мысли…
Услышав чужой голос, женщина вздрогнула так, что это было заметно и под темной, какой-то траурной паранджой. Но дело было вовсе не в цвете одежды, нет. Годжук Мерген каким-то иным чутьем отметил другое – как идет она понуро, чуть сгорбившись, как занята чем-то своим, нелегким, если даже не услышала копыт его коня… Так ходят люди в несчастье.
Она молча и быстро, будто испугавшись, подала ему кувшин, оглянулась вокруг.
– Да ты не бойся меня, дочка, – сказал он жалеюще перед тем, как прильнуть к долгожданной воде, – я старый путник, только и всего. Все кости свои порастряс на этой неровной земле предков…
И, напившись наконец, утерев лицо полой своего халата и все глядя внимательно на нее, сказал:
– У тебя, я гляжу, какое-то горе… Поделись, сестренка, легче станет.
– А… а вы не Годжук Мерген, агам[119]119
Агам – старший брат мой.
[Закрыть]?
– Почему ты так решила?
– Не знаю… У вас дутар за спиной. И в том самом красном чехле, о котором все говорят. Мукамчи все знают, как Ходжу Насреддина… Только я не видала ни разу.
– Ну, куда мне до Ходжи Насреддина, милая… Мой дутар в тысячу раз тише его остроумия, а с его добротой никому не сравниться… Так ты пригласишь меня к себе, чтобы мы с конем хоть немного отдохнули друг от друга?
– Конечно, о благой мукамчи!..
Никак не мог привыкнуть Годжук Мерген к тому, как возвышают люди его имя. Он как мог обрывал подобные речи, уходил от них, порою хитрил, лишь бы избавиться от этих лишних и никак ему, просто человеку, не подходящих пышных словес и лести. Сама душа его тихо и упорно сопротивлялась всему, что вольно или невольно отодвигало, отстраняло его от людей, пыталось поставить его выше их. Это было бы прежде всего несправедливостью, а ее он не любил больше всего на свете… Но сейчас он лишь усмехнулся, качнул головой.
– Вы смеетесь… Я что-нибудь не так сказала, агам?
– Ты меня величаешь, как величают какого-нибудь муллу, когда боятся, что он сдерет за обряд втридорога… Я не мулла, дочка.
– Ой, я не хотела…
– Значит, не величай никак. Так что стряслось у тебя, милая?
И она, сбиваясь иногда, сдерживая подступающие слезы, рассказала ему о гибели мужа, о его так рано угасшей, считай – непрожитой жизни…
– И вот Махмуд-ага поставил мою кибитку рядом со своей, и все они помогают мне, но… Но уста, как и двое моих братьев, свято чтит шариат, и уже третий год живу я не на этой земле, как в гостях. Видно, век мне, агам, сторожить тут наш с Нуркули потухший очаг…
– Но что ж они, не знают нашей поговорки: «Муж умер – жене талак»?..
– Знают… Но они чтут шариат, – с безнадежным вздохом повторила Айджемал, дочь Пурли, как назвала она ему себя. – И я сама не хочу, боюсь… не хватало мне еще небесного проклятья. Такая, видно, судьба у меня, агам…
– Ну, на судьбу есть аллах… А что, Махмуд-уста дома сейчас?
– Нет, какое там… Бедняга целыми днями ищет воду, роет землю, чтоб не пропасть с голоду. Возвращается домой лишь раз через три пятницы. Боюсь, что и его проглотит какой-нибудь проклятый колодец, как Нуркули. Останусь тогда совсем одна, братья ведь далеко… Ой, что же это я несу перед закатом солнца?! Прости и помилуй, о аллах…
И в испуге – чур меня! – схватилась за ворот платья.
– Так, значит, не скоро он вернется?
– Через неделю, не раньше… Только прошу вас, агам, ничего не надо говорить ему, просить… совсем заругает меня он тогда.
– Но ты-то сама как, дочка? Неужели так уж думаешь просидеть здесь всю жизнь, доить чужих верблюдиц и шевелить угли в чужом очаге? Или ты, в расцвете своем, не хочешь замуж, не хочешь детей и какого-никакого счастья себе?
– Не хочу, о агам… боюсь, – потупилась и тихо сказала опять молодая женщина. И, помолчав, добавила: Ничего, я уже привыкла. Как-нибудь проживу…
Да, судьба ее, до конца дней определенная шариатом, была как лист бумаги: наверху написано имя ее и загубленного жизнью мужа – а дальше пустота, одиночество, в лучшем случае – старость приживалки при невестках, волей-неволей сварливых от тяжелой жизни… Беспощаден шариат к слабым мира сего, навеки приковывая их, женщин, к горю своему, не к человеку уже, а лишь к имени, к вздоху, давно рассеявшемуся над тяжелыми песками пустыни…
– Нет, дочка, ты несправедлива к себе, а значит, не права… Уже не знаю, прав ли шариат, об этом не мне судить, – но зато уверен, как в своем дутаре, в том, что и Махмуд-уста, и твои братья не правы. За ними нет справедливости жизни, вот в чем дело, и ты сама чувствуешь это, знаешь, иначе бы не была так несчастлива. А справедливость в том, что ты на земле живешь всего лишь раз, и надо эту жизнь прожить не как-нибудь, а с пользой для себя и для всех. Справедливость в том, что ты имеешь право не только на одни несчастья, но и на счастье тоже, человеческое и материнское. Справедливость в том, что земля наших предков, как никакая другая, нуждается в твоих сыновьях и дочерях, в дехканах и скотоводах, в покровителях и защитниках. Ты разве не знаешь, что когда-то наши предки жили в чудесной, вечно зеленой стране, где не было ни этого лишнего зноя, ни холодов, где вволю воды для всех, а горный воздух благоуханен и исцеляющ?! Знаешь, дочка… Но коварные завоеватели прогнали туркмен в эти бесплодные губительные пески, в безмолвную пустыню. Что же нам оставалось делать, как не принять эту землю, не назвать ее родной… Да, она родная нам, кровью и потом нашим обильно полита за столетья, заселена и обжита, на ней уже века произрастают наши сады и хлеб, наши надежды на лучшие времена. А ты есть ведь семечко ее садов, зернышко ее хлеба… и что бы сказали твои предки, увидев твое зернышко не в борозде от кетменя, а в придорожной пыли без пользы пропадающее?! Что они думают, глядя сейчас на тебя с высоты их мира?..
Он говорил с ней мягко, как с маленькой, опасаясь спугнуть ее веру в слова свои, в справедливость того, что он сумел понять за свою долгую жизнь, что давно стало его собственной верой. И даже сквозь паранджу видел, как растерялась она от неожиданных для нее слов столь почитаемого всеми человека… Как, неужели ж этот старик, умудренный своими годами, не знает до сих пор суровых заповедей шариата? Такого не могло быть, конечно; но страшновато было видеть молоденькой женщине, как он просто и спокойно, ничуть не боязно отодвигает этот роковой для нее запрет – так дехканин отстраняет ветку в своем саду, чтобы пройти туда, куда ему нужно… Конечно же Айджемал знала и видела, как пренебрегают этой заповедью родственники. Но чтобы такой человек, как мукамчи Годжук Мерген, поступал точно так же… С детства слышала она, какой он добрый и справедливый, и ей всегда казалось, что живет он, должно быть, примерно и старательно, не нарушая ни один из законов этой жизни…
– Лишая счастья себя, ты лишаешь счастья и свою землю, свой народ… Ну сама представь, дочка, что станется, если таких, как ты, будет много в нашем краю? Сколь тяжела тогда станет жизнь, и без того тяжелая и скорбная?.. Нет… для нашей земли женщина понужнее мужчины будет, без ее спасительных рук засохнут на корню старые роды и племена, остынут очаги, хлеб очерствеет… Разожги свой очаг, Айджемал, не бойся. Люди поймут, а предки заступятся за тебя. И я буду готов ответить за тебя не только перед любым муллой, но и перед самим аллахом…
Только так, чувствовал Годжук Мерген, надо было говорить с ней, только на этом, внятном ей, языке…
– Я понимаю, бахши-ага… спасибо, я понимаю. Но мои братья и Махмуд-ага…
– Об этом я и хочу позаботиться. Хватит ли чаю у тебя для гостей, хозяюшка?..
– Хватит, бахши…
– Тогда позови-ка соседей. Они, я думаю, не откажутся послушать мой дутар. А я рад буду увидеть их и, при случае, словечко замолвлю за тебя…
– Вай, как неловко мне… Такой почет – и моей бедной кибитке… Здесь найдутся куда богаче, приличней вам, бахши-ага.
– Моя кибитка ничем не богаче твоей. Что же ты стала? Иди же.
– Я… Я не знаю, бахши, как можно говорить то, что вы хотите сказать. Я пропаду от стыда. Я боюсь.
– Мы все боимся, дочка, но от этого судьба не становится к нам добрее. Ничего, милая, – и он добро усмехнулся ей, кивнул подбадривающе: – Иди. Люди у нас хорошие, поймут…
Весточка о том, что Годжук Мерген в ауле, мгновенно разрослась и стала всеобщей вестью. Сбежались, сошлись все, кто мог. Да, он сам пришел к ним – тот, кого чуть ли не на руках носили из аула в аул, кого к иному богатею приглашали чуть ли не с помощью вооруженных всадников… Он приехал сам в беднейшую из кибиток аула на своем смирном старом коне, у которого из всех лошадиных добродетелей осталась только одна – терпеливость. Приехал, мало заботясь о том, чтобы предупредить их, избегая всякого шума, как приезжает любой усталый путник, каких много в степи… Такие мысли читал Годжук Мерген в почтительных и восторженных глазах собравшихся людей, и ему, как всегда, было и неловко от этого, и радостно, что музыка в его разрозненном еще народе так единит их…
За общим чаем перед кибиткой, пока на многих домашних очагах аула готовилось угощенье, время летело быстро: есть о чем поговорить, что неторопливо рассудить работающему от зари до зари народу… Не один мукам прозвучал, не одна новость степи была рассказана, когда наконец Годжук перешел к главному сейчас для него, для молодой хозяйки чаепития:
– Меня часто спрашивают о заботах и печалях нашей земли. Мне говорят: ты много ездишь по ней, много видишь и слышишь – какая боль наша самая больная? Какая печаль всего печальнее? И я отвечаю: боль наша, не утихающая ни днем ни ночью, – проклятая рознь, насылающая роды на роды, выжигающая селения и милосердье в сердцах… А печаль… Сколько ни ездил я, но ничего печальнее потухшего очага и невозделанного поля не видел. И вот я в который раз сижу у потухающего очага, едва согревшего нам чай, и вижу плодородное, но заброшенное, забытое водой поле… Вы пригласили сейчас меня спеть Салланчак-мукам над двумя сразу колыбелями, и я рад не слезать с коня, лишь бы почаще оглашал нашу бедную степь первый младенческий крик. Но в этой кибитке, первой приютившей меня в вашем ауле, колыбели висеть почему-то заказано. Но поле это, куда плодороднее многих иных, будто проклято кем – для чего и зачем оно проклято?! Какая польза в том земле нашей, что оно будет пустовать до скончания дней?
И где справедливость, мать истины?! Я не вижу ее, и душа моя в печали, в тоске.
Годжук Мерген обвел глазами притихших людей, словно желая убедиться, до всех ли дошел смысл сказанного. И продолжал, уверенный уже, что его поймут.
– Я сейчас пойду в жилища тех, кого посетила радость отцовства и материнства. Но сначала мой дутар исполнит колыбельную в этой кибитке, которая по чьему-то неразумению лишена этой радости… Он еще ни разу не звучал над пустой колыбелью, но сегодня я изменю обычаю. Передайте Махмуду-уста, передайте братьям этой молодой женщины, что Годжук Мерген сыграл им Салланчак-мукам в долг… И не столько я сам, сколько земля наша оскорбится, если долг этот не будет возвращен. Так слушайте же несъе-мукам…
…И вот он перед его глазами, возвращенный долг.
– Ах ты, радость моя!.. – тихо смеется Годжук Мерген и гладит теплые, пахнущие детством волосы мальчика, доверчиво и с любопытством глядящего на столь известного во всех краях, но такого немощного сейчас на вид старика… – Как же зовут тебя?
– Нуркули, ага.
– Нуркули… Ты уже, должно быть, помогаешь во всем дома, присматриваешь за своими братишками?
– Да, бахши-ага. И еще у меня дутар есть!..
– Дутар?! – изумился старый мукамчи. – Так ты что ж, уже и играть на нем умеешь?
– Умею. Отец учит меня, он знает все твои мукамы. А я и свои сочиняю, только они коротенькие…
– А ну-ка, ну-ка… – Годжук Мерген даже взволновался, таким неожиданным и отрадным было все это для него. – Сними-ка мой дутар… да-да, сними и неси сюда.
– С перламутровым грифом?! – у мальчика дыханье перехватило от страха и счастья.
– Другого у меня нету, сынок… А теперь вынь его из чехла. И сыграй мне свой мукам, Нуркули.
Мальчик торопливо освободил дутар от чехла и замер, очарованно глядя на переливавшийся перламутром гриф. А старого мукамчи одолевало иное нетерпение, которому он не мог еще подобрать названия, объясняющих слов…
– Играй же, сынок, не бойся…
Необычно длинные и, сразу видно, чуткие пальцы маленького человека пробежали по струнам, словно выискивая что-то для себя, тронули один звук, другой… Они еще были несколько неловки, не вполне будто уверены в себе, эти тонкие пальцы, но уже были хозяевами дутара, и он покорялся им, отзываясь тихо, подбадривающе. Вот сделали они несколько ударов по струнам – какувов, вот мгновенно ответили на звук басымами – прижатием их к грифу. И вдруг затрепетали над струнами, замелькали – и отделилась от них, волною пошла по кибитке музыка… Она была совершенно незнакома старику, немного непривычна; но это было не баловство, не упражнения мальчишки, берущего иногда дутар и подражающего взрослым, – это была музыка…
В степи по весне не сочтете цветов.
Под осень в садах не сочтете плодов.
Немало красавиц знавал белый свет.
Но лучше тебя, мама, все-таки нет.
В степи очень много горячих коней
и сабель блестящих, что лезвий острей,
и храбрых джигитов не счесть, наконец.
Но всех ты храбрей и отважней, отец.
Полузакрыв глаза, маленький человек замер на мгновенье, словно отделяя уже спетое от окончания, и его тонкий, еще рвущийся голосок опять зазвенел, довершил песню:
Мать очаг разожжет и замрет у огня.
Мой отец оседлает в дорогу коня.
Пусть в пути не оступится резвый тот конь.
Пусть в родном очаге не погаснет огонь.
Старый мукамчи с радостным удивлением, как редкую находку, разглядывал мальчика. Обычно за дутар брались в юношестве, в человеческую весну, когда сердце теснит множество первых страстей, мир велик и прекрасен, а один взгляд девушки вознаграждает за все твои ученические старания… А тут впервые, кажется, встречает Годжук Мерген мальчика, не просто подражающего другим мукамчи и перепевающего старое, но уже сочинившего свой, пусть еще по-детски наивный, мукам. И была уже в этом чистом, как его голосок, мукаме своя стройность и своя, ни у кого не перенятая музыка…
– Ай, молодец!.. Ты порадовал меня вдвойне, Нуркули, втройне… И много у тебя своих мукамов?
– Еще нет, ага. – Мальчик старался сдержаться, радость от похвалы и смущение попеременно отражались в его больших блестящих глазах. – Мой отец говорит, что… Что много мукамов сочиняют только плохие му-камчи.
– Он прав, твой отец, торопиться не надо. А ты мне споешь сейчас все свои мукамы… да-да, все! И если ты захочешь, я научу тебя кое-чему, потому что на дутаре надо учиться играть всю жизнь… Хочешь?
– Хочу!.. Мама давно-давно мне говорит… мама тоже хочет давно, чтоб я играл на дутаре.
– Давно? Вот и хорошо, мой мальчик. Вот и хорошо. А теперь подстрой-ка немного дутар, Нуркули. Как ты думаешь, какая струна подводит сейчас? Только не торопись, прислушайся…
– Вторая – да, ага?..
– Правильно! И что ты будешь делать с ней – подтянешь или отпустишь?..
А женщина все стонала там, и мальчик иногда удивленно прислушивался к этим еле слышимым, странным для него звукам; и, ничего не поняв, опять склонялся над дутаром.
14Никто, кажется, не интересовался небольшим караваном, пересекшим границы владений Эсен-хана и вот уж неделю делавшим привалы то здесь, то там. Туркмены всегда были гостеприимны и любой торговый караван, появившийся в их краях, считали за благо, ибо торговцы не только привозили нужные товары, но и по-своему соединяли их разбросанные, разрозненные великой пустыней человеческие жилища, оделяя новостями большого мира. Багтыяр-бег предусмотрительно захватил с собой десяток тюков самых дешевых, но необходимых в аулах товаров, и его подручный успешно торговал ими, – между тем как сам он не занимался, казалось, ничем, проводя время в беседах за туркменскими дастарханами…
Одна из ночевок им предстояла в ауле, двумя рядами– «хатарами» – протянувшемся по небольшой долине с ручьем, за которой сразу же начинались пески. На въезде в долину они обогнали медленно шагавшего по обочине высокого нищего, в долгополой черной, донельзя ветхой одежде, в глубоко надвинутой на глаза бараньей шапке, с посохом в темной костлявой руке. Багтыяр-бег не увидел, нет – почувствовал его тяжелый взгляд на себе, и ему сразу стало неуютно на этой белесой от пыли, просоленной чужой земле: «Сколько уже на ней живу, а привыкнуть не могу… Да, чужбина остается чужбиной, рассыпь по ней хоть золото. Даже неприветливость соплеменников предпочел бы я приветливости этих туркмен… своя соль слаще чужого шербета. Неужто всю жизнь тебе жить вдалеке от родины?..»
Не успели они еще снять тюки с уставших верблюдов, как пришел хорошо одетый старик и пригласил их, гостей аула, на свой праздник: он достиг возраста Магомета, ибо как раз в шестьдесят три года и закончил пророк свое земное существование и был призван к себе аллахом… Отказ отведать готовой пищи был бы величайшим оскорблением, на всякий случай тонко намекнул старик, но отказываться никто и не собирался, все были рады отдохнуть от долгого перехода.
Перед кибиткой старика, куда сошлись и съехались гости со всей, в два-три дня пути, округи, дымились очаги, из огромных черных казанов шли запахи знаменитого туркменского «чектырме» – густой мясной похлебки, горкой сложены были в ожидании раздачи большие деревянные миски-керсены… Многое тут было в диковину для Багтыяр-бега, хоть и успевшего пожить в стране туркмен более десятка лет, но не побывавшего еще ни за одним простонародным дастарханом, ибо ниже байских застолий опускаться себе не позволял. И, пожалуй, зря он это делал, потому что еда была хоть и не очень изысканна, но вкусна и здорова, а эти туркмены приветливы и добродушны на удивленье… Он и его спутники были посажены в ряду самых почетных гостей, и внимания к ним проявляли не меньше, чем если бы они были лучшими гостями хана. Только здесь было не угожденье слуг, боящихся наказания, а простая и искренняя заботливость, и он не первый советник могущественного Рахими-хана, а никому не известный купец со своими спутниками…
После угощений следовали всякие зрелища, а их опять сменяли угощения. Багтыяр-бег с интересом разглядывал людей, следил за происходящим и особенно оживился, когда объявили местную борьбу «гореш». Он и сам когда-то увлекался борьбой, – правда, своей, у себя на родине; видел он, как борются и здесь, но сейчас его заинтересовало именно то, что тут не было каких-то особенных борцов-пальванов с могучими плечами и широкой грудью, чаще всего ханских нукеров. Нет, в этот круг выходили обыкновенные скотоводы-кочевники и земледельцы, кузнецы и копатели колодцев. Все знали здесь цену друг другу, характер и ухватку, и их соперничество в борьбе длилось от праздника к празднику, иногда многие годы, если не десятилетия – так это понял Багтыяр-бег из разговоров и криков толпы, подбадривающей своих любимцев, и не мог оставаться равнодушным. Не сказать чтобы приемов борьбы у них было много, но зато была природная хватка и ловкость, что он больше всего и ценил в этих состязаниях.
Оставшийся победителем всех схваток рослый и грузный мужчина расхаживал по кругу, а зазывала насмешливо кричал:
– Ну что, не осталось смельчаков сразиться с нашим Батманом?! Предлагаем и гостям размять животы перед очередным блюдом… хотя сам я ни дома, ни в гостях не хотел бы побывать под этим быком!..
Дружный смех ему был ответом. Но тут из гостей поднялся невысокий, на кривоватых сухих ногах, но довольно широкоплечий человек и вышел в круг, оглядываясь и улыбаясь. Кто-то узнал его, крикнул:
– Ханвели, куда ты?! Не оставляй свою семью без кормильца!..
– Да-да.„лучше сядь с нами и выпей айрану. Ибо чем ты от нас отличаешься, что выходишь в круг?!
На сухощавом смуглом лице Ханвели опять сверкнула улыбка:
– Пусть я буду последней телкой в стаде, если окажусь под этим быком!..
– Ну и ну! Он желает быть телкой!..
– Наш жеребенок хочет лягнуть нара[120]120
Нар – верблюд-самец особой сильной породы.
[Закрыть]. Тогда тебе придется очень высоко подкинуть свой зад, Ханвели!
– Ха-ха-ха!..
– Беги из круга, пока не поздно!
Ничуть не обижаясь на эти грубовато-добродушные выкрики и смех, Ханвели еще раз расправил под поясом халат:
– А спрошу-ка я вашего пальвана Батмана, пел ли над его колыбелью свой Салланчак-мукам Годжук Мерген?
– Нет, вроде бы не пришлось, – сказал один из аксакалов, и Батман кивнул, подтверждая его слова.
– А над моей спел! И потому я не боюсь выходить в этот круг, земляки.
– Только-то?! – насмешливо воскликнул сосед Багтыяр-бега, если судить по одежде и повадкам – местный бай, не решившийся, видимо, отказаться от приглашения почтенного старика. – Маловато!..
Багтыяр-бег еще только, можно сказать, начал свое путешествие, а уже успел несколько раз услышать от людей имя старого мукамчи. Но особенно удивило это его сейчас, здесь, где, казалось бы, не было никакой особой надобности упоминать его. И это при том, что имени Эсен-хана, их куда как известного притеснителя, ему еще от них слышать не приходилось – как, впрочем, и упоминаний о шахе… Да, прав Рахими-хан: велико почтение населяющих пустыню людей к этому имени, и если бы вправду удалось заставить работать это почитание на их замыслы… Велико, хотя вряд ли оно поможет этому смельчаку с кривыми ногами.
Между тем бойцы наконец сошлись, сцепились руками и закружились по утоптанному пятачку. Батман все пытался оторвать своего соперника от земли, силы на то было у него достаточно, но все никак не хватало ловкости. Вот оторвал было, крутанул, верткий Ханвели казался в его руках брыкающимся мальчишкой… Но тут Багтыяр-бега словно в спину толкнули, он оглянулся. На него смотрели тяжелые тусклые глаза темноликого нищего… А-а, шайтан! – в сердцах воскликнул про себя советник, никогда вроде не бывший трусом, и вновь обернулся к кругу. Но было уже поздно понять, как умудрился Ханвели оказаться при падении сверху… Толпа удивленно и ликующе вскричала, никто в ней не ожидал такого конца схватки:
– Вот тебе и жеребенок!..
– Когда он успел, а?!
– Тысячу лет жизни тебе, Ханвели-кель[121]121
Кель – плешивый.
[Закрыть]!
– Возьми себе эти годы, косе[122]122
Косе – безбородый.
[Закрыть]! – ответил, легко вскочив и одернув халат, победитель. – Нет, не выходит из меня телки…
Много бы дал советник, чтобы увидеть, как сумел этот невысокий с залысинами туркмен очутиться сверху. Он искренне увлекся происходящим, он одним воздухом дышал с этими простыми и открытыми, добродушно-насмешливыми людьми, он готов был и сам отпускать грубоватые насмешки, подбадривать любимцев, а то и выйти в круг, чтобы в переплетеньях рук почувствовать силу соперника и вспомнить свою, былую… если бы не этот взгляд в спину. Он обернулся опять, будто ненароком скользя глазами по лицам. Нищий исчез. Зато на него глядел теперь стройный черноусый, в самой силе мужчина – глядел будто бы равнодушно, но слишком поспешно отвел глаза… В чем дело, что им от тебя нужно? Или, может, ты ошибаешься, Багтыяр? Но ты ведь привык доверяться своему умению чувствовать опасность, и оно тебя не подводило… Ладно, там будет видно. Если б не это и не твое тайное задание, то можно было бы сказать, что давно ты не чувствовал себя так свободно, раскованно, как среди этих людей. Не надо скрывать свои мысли и дела, как при ханском дворе, не ждать ежечасно подвохов, не быть под недремлющим оком хозяина…
– Но как он мог так опозориться? – качал головой и сокрушался Майли-бай, так его все называли. – Ай, Батман, Батман… Оказаться под этим пришлым!..
– А не дутар ли Годжука Мергена тому виной? – нарочно спросил Багтыяр-бег.
– Все может быть… – надулся бай. И, встрепенувшись, оглянулся кругом, понизив голос: – Вообще-то сказать, дутар волшебный, не иначе… Сколько раз мы испытывали на себе его шайтанову силу! Сам высокочтимый Эсен-хан не связывается с этим дутарщиком. Но, слава богу, не у нас одних празднество…
Вот наконец и упомянули хана, подумал советник, а сам спросил:
– А разве ты не слышал про свадьбу Годжука Мергена?
– Свадьба?! Но он же старик, больной…
– Вот-вот, о том и речь! – захохотал чем-то. довольный бай, откинулся на подушки, опять заговорщически огляделся. – Разве не знаешь ты о женитьбе мукамчи на всем известной старой карге по имени Смерть?! Самая подходящая для него невеста, да и жених уже того… созрел. Аллах милостив к нам!
– Я здесь чужой человек, иноплеменник, и мне непонятно, почему вы не любите мукамчи…
– Посмотрел бы я, как вы – с малой, надо думать, долей вашего имущества в тюках каравана и в этой добротной одежде, – как вы любили бы его, живя здесь, по соседству с ним… В своем хозяйстве, своими слугами не распорядись! Слушаются не бая, не хана, а его! Собери всех мусульман, имеющихся на нашей туркменской земле… собери, и если этот человек скажет им: «Вон, видите того муллу, который уткнулся лбом в землю и кричит «аллахи-экбер»? Подойдите к нему и дайте пинка ему в зад», – и что они, вы думаете, сделают? Откажутся? Как бы не так – исполнят!.. Дадут в зад хоть кому, только укажи он! Но аллах милостив, этот человек вообще-то довольно смирный, иначе бы… Но лучше без него, почтенный путник.
– Может, потому и силен он так, что лишний раз не расходует свою силу? Что бережет ее в народе для дел других?..
– Что? – не понял бай. Подумал еще, но так и не понял его мысли, раздраженно сказал: – Не знаю, не знаю… но лучше без него.
«Да, большого ума родители тебе в наследство не оставили, бай… Но такой пригодится. Думаю, он не много будет стоить казне Рахими-хана».
– Да, Майли-джан, я бы тоже не хотел быть его земляком. Беспокойный сосед…
– Беспокойный и… И никогда не знаешь, что он сделает! Лет десять назад у меня родился сын, и я пригласил этого старика спеть на торжестве свой Салланчак-му-кам… Так тут примято. И подарил ему верблюда, да какого – нара!.. Пусть помнит и воспевает щедрость Майли-бая! Так что же ты думаешь, караванбаши[123]123
Караванбаши – предводитель каравана.
[Закрыть] что он сделал?!
– Меня зовут Багтыяр.
– Так что же ты думаешь, Багтыяр-джан?! Он отдал его по пути в свой аул какому-то паршивому чигирчи – так у нас зовется работник, подымающий с помощью осла и привода воду из колодца… Немыслимо! Нар, правда, был своенравный и упрямый, не хуже того осла, – но ведь это же нар! Одного мяса сколько! И обо мне же еще пускают слухи, что я в своего отца, Шами-бая… То есть будто прижимист. Ну не-ет!.. С отцом моим в этом не сравниться. – Бай весело захихикал, вспоминая, покрутил головой. – Ходят байки, враки, что будто бы он, когда я родился, отпустил в честь этого с привязи кошку, – а держал затем, кабы она чего не стащила съестного… Вранье! Но вот когда у меня заболело колено и надо было наложить на него свежее курдючное сало, то барана он так и не решился зарезать… Да, он завязал натуго морду барашку и отрезал кусочек прямо так, с живого… Но я не из тех! И для сына своего не то что барашка – пара не пожалел, лишь бы жизнь его была… ну, под силой этого дутара. И ты знаешь, Багтыяр-джан – защищает!.. Ничем еще и никогда не болел мой наследник, жив-здоров, не сглазить бы. Нет, что-то есть в этом дутаре…








