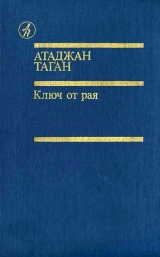
Текст книги "Ключ от рая"
Автор книги: Атаджан Таган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)
Понятие о времени изменилось. Блоквил и не представлял, какими длинными и вместе с тем какими короткими окажутся дни его в этой яме с осыпающимися потихоньку краями. С мягким шорохом осыпается песок. И так же тянется день-ночь, и не заметишь, как сливается с такими же, как и вчера, днем… ночью… Да и сами названия сливаются в этом постоянном шорохе времени: вчера… сегодня… завтра… слова, утратившие смысл. Когда ему сказали, что уже февраль, что он уже просидел три месяца, он поверил, но осознать этого не смог. И, лишь выбравшись из ямы, распрямившись, вздохнувши полной грудью, увидел, что действительно февраль вокруг. Ветер с юга гнал синее небо и запах миндаля, ветер с севера нес мокрый снег; холмы еще в снегу, но песок вокруг уже подсыхал. Черепахи ожерельями зеленых камней окружали такыры. Верблюды линяли. Туркмены скинули четвертые халаты, остались лишь в трех, но все еще теплых. На песках золотел уже молочай и ярко разгорались маки. Впервые так остро почувствовал он всю меру своей общности со всем этим, что его сейчас окружало… Что ж, Франция… прекрасная страна, но она – мизерная частица беспредельного мира.
Подкормив, пленников погнали в Мары на рабский рынок. Блоквила и тут подняли чуть попозже, везли на лошади, по-видимому, очень надеялись получить за него намного больше, чем за обычного пленника.
Когда добрались до Мары, на большой площади уже началась торговля людьми. С каким-то нездоровым интересом, как бы и о собственной участи позабыв, вглядывался Блоквил в это страшное дело. Люди продавали, словно скот, людей. Все достижения человеческого благородного духа меркли перед этим, все мировые памятники культуры рушились в пыль и прах. Человек – царь природы – как слеза на реснице: так легко его стряхнуть в пыль и в грязь.
Купцы хивинские, купцы бухарские, на лошадях, разукрашенных серебром и парчой, были озабочены: как бы не переплатить. С одной стороны, рабов действительно на этот раз нагнали много, и можно цену сбивать до последнего, с другой же стороны – не дашь цены последней, ведь перекупят, уведут товар из-под самого носа. Надменные купцы собирались по чайханам кучками, по двое, по трое, шептались, договаривались, приглядывались к пленникам. А широкая площадь вокруг кишела народом, как муравейник. Ведь помимо рабов, пользуясь случаем, дехкане из соседних аулов навезли винограду, персиков, дынь, привезли сюда и соль, и рис, и пшеницу. Но главный товар был, конечно, рабы.
Было еще рано, но в азиатской синеве парило неподвижное солнце, теперь оно так и будет висеть неподвижно до самого вечера, когда, оставив наконец оцепенение, быстро покатится к холмам, к дувалам, краснея все больше, теряя лучи, исчезая.
Основные торги еще не наступили. И в чайханах, подобрав ноги, богатые купцы в чалмах, в папахах, тюбетейках неторопливо пили чай. На подносах лежал виноград. Тени акаций пятнали ковры и паласы. Богатые купцы из Бухары, из Хивы, которые привели сюда тяжелогруженые караваны, не торопились. Пусть немного схлынут мелкие торговцы. А те, привязав лошадей в тени глиняных дувалов, теснились шумно у лавок: покупали и сами продавали. Покупали кушаки, халаты, кривые сабли, седла. Продавали соль, изюм, хлеб, насыпали в хурджуны отборный рис, торговались до хрипоты. Устав торговаться, садились на корточки, доставали табакерки и сыпали под язык купоросный нас. И снова торговались. Наконец развязывали кушаки, где лежали деньги. Когда мелкая торговля схлынула, начались главные торги.
Высокий старик в новой папахе, опираясь на сучковатую палку, поднялся на солончаковый холм и дал знак маленькому, толстенькому человечку. Человечек оказался глашатаем. Он заткнул правое ухо, словно именно через правое ухо и могла произойти утечка звука, широко раскрыл рот и пронзительно закричал, обращаясь на персидском к пленным:
– Дехкане весом до пяти пудов, пройдите налево!
Пленники, которые уже устали ждать, оживились, затолкались, потянулись налево, не обошлось и без курьезов. Один пленник замешкался, ему кричали:
– А ты чего же!
– Да у меня живот, – тот хлопал себя по воображаемому животу.
– Через твой живот спину чесать удобно, все позвонки видны, идем уж с нами, налево!
И вскоре все, в ком было до пяти пудов, собрались по левую сторону холма. А глашатай, опять закрыв ладонью правое ухо, еще пронзительнее закричал:
– Всем мастеровым подойти во-он к тому тамариску!
Мастеровых немного оказалось, мирное мастерство и война – вещи несовместимые. На месте остались лишь те, в ком больше пяти пудов, эти силачами считались, цена им хоть и поменьше, чем мастеровым, все же высокая будет. Только-только поделились, среди силачей возникла драчка, двое сцепились. Их вытолкнули, подвели к холму, и старик в папахе строго спросил, зачем дрались.
Оказалось, что эти двое хотели скрыть свое ремесло. Один хорошо делал косы, за две цены идут на базаре. Другой быков умел кастрировать. Того, что косы делает, старик к мастеровым отослал. Умение же быков кастрировать, видно, не показалось старику настоящим мастерством. Во всяком случае, немного подумав, он пленника отправил обратно к силачам.
И началась торговля. Купцы подходили и вновь отходили, щупали мускулы у пленников, в рот заглядывали, качали головами, хлопали руками о полы халатов, воздевали руки к аллаху, умоляя снизить немыслимую цену, призывали в свидетели первого встречного, что такой цены не было, нет и быть не может. Призывали в свидетели самого пленника – не было уже сто лет такой цены за простого раба!
– Скажи, скажи ему, уважаемый, ведь ты ж не стоишь столько, сколько требует за тебя этот хитрец, ты ж не знаешь никаких ремесел, ноги твои слабы, с мешком муки в пять пудов ты не пройдешь и ста шагов… вот и зуб у тебя шатается… и левый глаз с бельмом…
Шум, крики, споры – торг разгорался. Блоквил с самого начала был поставлен в сторонке, и движения купцов вокруг него если и не были такими шумными (в основном-то напоказ), как вокруг других, то были конечно же более напряженными. Все купцы знали уже о бумаге, что хранилась в посольстве в Тегеране. Не зная же сути бумаги, намного преувеличивали ее значение. На базаре были пленники очень именитые, они так же стояли в сторонке. Были такие, что удостаивались чести сидеть с самим шахом за одним обедом, были отдаленные родственники шахской фамилии– выкуп за них будет изрядным. Но и у этих – именитых, держащихся среди пленников особняком, – не было бумаги! Слово «бумага» вокруг него произносилось чаще других, как магнит это слово притягивало купцов, каждый мечтал заполучить такого необыкновенного пленника.
Большие круги вокруг него все сужались, вот уже Блоквил был плотно окружен кричащими, спорящими купцами. Один уверял, что это племянник французского короля, другой же клялся, что этот желтоволосый пленник никакой не племянник французского короля, а просто-напросто колдун. Одним словом, купцы ругались, спорили, перебивая сами у себя и без того высокую цену. И цена росла и росла. И туркмены из села Гонур, знавшие наверняка, что француз никакой не племянник королю и уж конечно не колдун, даже эти уважаемые яшули, услышав о баснословной цене, поверили сами в магическое слово «бумага»! Ну, а поверив, естественно, стали до того надменны и неприступны, что купить у них француза уже не было никакой надежды. Но купцы ведь богаты. Они плевались, ругались, отходили, обещая больше ни за что не подойти, и вновь оказывались тут же. Таинственная бумага где-то во французском посольстве в Тегеране, за семью замками, с гербовой печатью, с какими-то неразборчивыми подписями каких-то больших людей – все дело было в ней.
Вот подошел молоденький купчик в щегольских узконосых сапожках из нежного зеленого сафьяна, на нем был модный халат и пуховый пояс, обсыпанный сверкающими блестками. Черные усы нафиксатуарены, торчали в разные стороны и были настолько длинны, что видно их с затылка. Купец приветливо поздоровался с братьями Эемурадом и Бердымурадом – хозяевами Блоквила. На француза же и не глянул.
– Назови цену! – обращаясь к старшему, сказал купец и плетью слегка дотронулся до Блоквила.
– Цена десяти рабов!
– Нет, – зашептал в самое ухо старшему брату, – ты скажи мне окончательную цену, понимаешь, дорогой Бердымурад, окончательную, я же покупаю!
– Окончательная – цена десяти рабов, неокончательная– цена девяти рабов.
– Да сейчас рабов что песка! – и, поигрывая плетью, усатый отошел.
В самом деле, чего-чего, а после разгрома многотысячного войска персов рабов на марыйской земле хватало. Но поскольку постоянного рабского рынка в Мары никогда не было, то местные туркмены и не представляли, что это такое – торговля рабами. Купцы обхаживали их изо всех сил, ссылались на долгий, полный опасностей путь, который они проделали со своими караванами, на затраты, которые понесут, с рабами возвращаясь. Ну, а главное, сговорившись, упирали на то, что сейчас рабов предостаточно и в Бухаре, и в Хиве. Особенно в Бухаре, так как бухарский хан их много захватил в последнем походе.
Вот так, цену сбивая, и покупали рабов по дешевке. Одни братья еще держались со своим пленником-фран-цузом, и все больше купцов вокруг них крутилось, всем хотелось урвать лакомый кус.
Снова усатый подошел, уж очень ему хотелось привезти в Бухару необычного раба, удивить там всех. Не все ли равно, кем он позднее окажется – колдуном ли, племянником ли французского короля. Сразу видно птицу по полету – такого раба еще не бывало! Усатый, приблизившись, на этот раз спросил не хозяина, а самого раба:
– Какую цену ты сам на себя установишь?
Общение с туркменами ограничивалось несколькими фразами, и Блоквил обрадовался возможности поговорить с человеком, владеющим персидским языком, он усмехнулся и сказал:
– Если я сам буду себя оценивать, пожалуй, не хватит никаких денег.
– Хватит, хватит, – купец похлопал себя по пуховому поясу, – еще и останется! – И, понизив голос, произнес: – Вокруг тебя собралось много покупателей, но все они одна бестолковщина, поверь мне, я же хочу тебя выручить, спасти, мы вместе уедем потом на твою родину, ты будешь свободен…
– Выходит, я буду свободен?
– Вот именно, вот именно, ты правильно понимаешь!
– Но… но за это благородное дело не жаль отдать цену и двадцати рабов, когда просят всего лишь за десять.
Передернувшись в досаде, усатый купец отошел. Но тут же подошел другой покупатель – купец из Хивы.
Да, Блоквил был необычный раб! И синебородые яшули из села Гонур решили, в конце концов, не расставаться с ним, дело, видно, слишком серьезное, продешевить тут – раз плюнуть. Будешь потом локти кусать, да поздно. И они посоветовали братьям поскорее домой возвращаться, связываться непосредственно с Тегераном, где лежит за семью замками таинственная бумага, и уж получить за пленника по справедливости все, что причитается. Нет, ни копейки больше они не хотели, аллах тому свидетель! Ну, а продать за бесценок – обидно. Они ведь не богачи, чтоб за бесценок продавать, а сколько он стоит – десять рабов, двадцать рабов, – кто ж без бумаги знает! В общем, приняли мудрое решение – не продавать. И, очень довольные этим, отправились обратно.
Покидая базар, Блоквил стал свидетелем странного эпизода, и поразившего его в самое сердце, и рассеявшего несколько мрачноватые мысли после этой страшной торговли живыми людьми. Мужчина и старая женщина подвели к старейшинам юношу-пленника. Мужчина хотел его продать, старуха же не соглашалась.
– Я знаю тебя, Болджы-эдже, – ласково обратился к ней один из старейшин, – у тебя же нет ни скота, ни земли. Зачем тебе раб?
– Бедняжку увезут и продадут, а мать у него совсем слепая, он и воевать-то поехал, чтобы ее прокормить. А потом… мы столько дней с ним делили хлеб-соль, ну, что – у меня действительно нет ни скота, ни земли, буду держать его… просто так, может быть, потом как-то все разрешится и… он вернется к своей слепой матери, бедняжка… ему нет и семнадцати…
– Бедняжка! А с кинжалом на нас пошел!
– Может быть, и был у него кинжал, но поднять на человека он его не смог бы, это я вам точно говорю, старая Болджы! Ради аллаха, отдайте мне его в сыновья, у меня же никого нет… я заплачу, заплачу, – старуха быстренько развязала узелок, руки тряслись у нее при этом, и вытащила серебряное ожерелье, – вот-вот, нате, я носила, когда молода была.
Старейшина взял ожерелье, повертел в руках, вздохнул. Ему показалось, что он видел когда-то на молодой Болджы это ожерелье. Какая же она была красивая в молодости, да и он когда-то был джигит что надо!
Он вернул ожерелье старухе. Потом рукой махнул; мол, забирай без всякой платы. И оба они – юноша-перс и старая Болджы, – от счастья сияя, быстро взявшись за руки, покинули базар. Словно мать с сыном, словно две родственные души в этом океане песка. Блоквила этот эпизод потряс, ему судьба не обещала ничего подобного, хотя кто знает… Ведь действительно один лишь аллах знает, что потеряешь ты за первым барханом, что найдешь за вторым…
Блоквил не знал, радоваться ему или печалиться, что он не продан и возвращается обратно в село Гонур. Все ж неизвестно, что ждало его, попади он в Бухару или Хиву. А тут… по-видимому, опять яма. Но это все уже испытано им, понятно и… в общем-то не так и страшно.
По мере того как караван взбирался на бархан, все шире открывалось пространство перед ним, все отчетливее разливался вечерний свет и чище становились звуки. Казалось, и земля, и голубые небеса звенят на одной умиротворенной ноте, и эхо ее заполняет все вокруг. Уже показалось село Гонур, стадо верблюдов поодаль на красноватой земле было подобно завитушкам-иероглифам, смысл которых надо было разгадать. От этою зависела его судьба, возможно – жизнь. Что ждет его в той жизни, куда возвращался он? Приближался быстро вечер, и свет угас, заструился. Людей еще нельзя было разглядеть, но Блоквил уже думал о них. О странной горстке, закинутой в пустыню, отрезанной от… от Парижа, от Сены… вообще от всего мира. Солнце опустилось, и небо на западе стало быстро краснеть, на востоке густели, наливались синие сумерки, где-то на краю села завыла собака, потянуло дымком, уютом. И Блоквил почувствовал, как сильно он устал за этот день.
Почти всех пленников распродали, по пять, по шесть, не более, теперь их оставалось по марыйским аулам, в Гонуре же – один Блоквил. Положение его стало более сносным. Во-первых, его перевели в сухую землянку, старое одеяло дали, кусок кошмы, в очаге весело пылал огонь, потихоньку налаживался какой-то быт. Во-вторых, он чувствовал себя посвободнее, мог ходить по всему селу и его окрестностям. Правда, никаких сведений ни из французского посольства, ни из самого Тегерана не поступало. Но он ждал. А что еще оставалось делать?
Не слыша никакой другой речи, месяца через два-три стал немного понимать по-туркменски. Его хозяин, молодой Бердымурад, был человек тяжелый, затяжка с ответом из Тегерана сделала его еще более вспыльчивым. Остальные же жители аула относились к Блоквилу хорошо, называли «муллой Перенгли». Первыми же, конечно, к нему привыкли дети, они же частенько сопровождали его, когда бродил он по окрестностям, расспрашивая, как называется по-туркменски эта птица или это дерево. А когда однажды он вправил руку маленькому Чарыяру, упавшему с лошади, дети подружились с ним еще больше.
Кормили не очень хорошо, и в первое время он постоянно испытывал чувство голода. Но «мулла Перенгли» видел, что туркмены за редким исключением и сами едят ту же пищу, и не мог роптать. А через полгода привык и уже наедался, да и вообще пища, как таковая, все меньше занимала его. Куда больше занимали люди, что его окружали теперь. Долгими зимними ночами, под вой ветра, под тоскливый вой шакалов многое передумал «мулла Перенгли». Вспоминал беспечную молодость, ветреных, таких же, как и он сам, друзей, всю прошлую жизнь, возможно, и яркую в сравнении с той, что была вокруг. И все же эта прошлая жизнь теперь отсюда, из низенькой землянки, из черных каракумских песков, казалась неправильной, ненастоящей. Одну лишь матушку, так рано умершую, вспоминал он как что-то цельное, истинное и очень жалел, что мало любил ее в свое время. Да теперь уж не вернуть.
Он смастерил светильник, залил его жиром и теперь по вечерам зажигал его, ложился – руки за голову – и глядел на тени, отбрасываемые пламенем очага и светильника. Он думал: зачем воюют люди? Зачем огромное человеческое общество поделено на десятки тысяч обществ: персов, французов, туркмен и многих-многих прочих? Зачем одно общество нападает на другое – завоевывает, грабит, уничтожает? Какое-то смертельное колесо начинает двигаться, и огромная машина уже преисполнена безудержным духом разрушения, начинает причинять страдания. Потом начинают причинять страдания в ответ, уповая на то, что возмездие – единственное лекарство, которое может быть применено к насилию. Получается какая-то дурная бесконечность. Покопавшись в университетских знаниях, вспомнил он, как давным-давно один афинский солдат в ионийской армии азиатских греков случайно поджег Сарды. Город, построенный из легковоспламеняющихся материалов, сгорел дотла. Персы же были убеждены, что это была не случайность, а настоящий акт агрессии, и это накладывает на них священную обязанность отомстить Афинам. И с этого в глубь истории уходящего времени начинают собирать последовательно одну за другой чрезвычайно широкие военные экспедиции. Вроде этой, в которой он так опрометчиво принял участие! Раскаивался уже много раз, да что в пустом раскаивании толку!
Афины были сожжены до основания, вся их территория опустошена, все живое погибло. Особенно опустошительными были разрушения персов при Ксерксе[104]104
Ксеркс – персидский царь, сын Дария I (V век до и. э.).
[Закрыть] и Мар-донии[105]105
Мардоний – полководец царя Ксеркса (V век до н. э.).
[Закрыть]. Причинив неисчислимые страдания, разрушив все, что можно было сжечь и разрушить, персы остановились лишь тогда, когда не хватило сил продолжать агрессию, которую они называли справедливым возмездием. Точно так же называл нынешнюю военную авантюру и Кара-сертип!
Естественно, что в свою очередь желание отомстить персам за этот гигантский разбой вызвало среди греков любовь к свободе, которая всегда была их отличительной чертой. Этим же, оказывается, отличаются и туркмены! А он-то думал, наивный, что этот темный народ не только сразу покорится завоевателям, но еще и с благодарностью воспримет ту культуру, те нововведения, которые они несли с собой. Да он ведь сам считал, что те карты, которые он собирался здесь составить, пойдут на общую пользу мировой цивилизации! Глупец он с поседевшими рано волосами, наивный глупец!
К народам, мечтающим о свободе, рано или поздно являются полководцы. У греков появился Александр Македонский. Опустошения, сопровождавшие его походы, были огромны и ужасны. «Муллу Перенгли» вдруг поразила такая простая мысль: если бы всю мыслительную энергию, которая была затрачена в этих походах на создание механизмов, причиняющих муки людям, несущим им гибель, направить на развитие подлинного благополучия, насколько же счастливее стало бы человечество! Ведь это же так ясно! И, однако, проходят века за веками, а какой народ был удержан от военных неистовств примером разрушения прекрасной Аттики персидскими полководцами Мардонием и Ксерксом? Кого удержал еще более ужасный пример уничтожения целой персидской империи Александром Македонским?! А разве ж предлог для этой второй системы грабежа и насилия, системы Александра Македонского, не возникал непосредственно из первой?! Разве ж возмездие имело какой-то другой результат, нежели увеличение вместо уменьшения в мире массы коварства и зла, жестокости и фальши! И этот бесславный поход принес то же самое, слепой наивностью было – поверить во что-то другое!
А впрочем, не совсем уж наивным был он – Блоквил, ведь ждал же он чего-то подобного, ждал и крови, и насилия, и страданий, но все это как бы его совсем не касалось, у него же гербовая бумага, он как бы здесь посторонний, он же не воевать сюда приехал, а… вполне с мирными целями, составлять карту колодцев, арыков, источников воды. Ах какая красивая наивность! Если не сказать больше. Разве ж не ясно тебе было уже там, в Тегеране, что твоя карта нужна завоевателям, чтобы легче покорять этот свободолюбивый народ, чтобы лучше потом управлять им!
Однажды вечером он так же лежал, заложив руки за голову, и бесконечно размышлял об этом походе персов против туркмен, о собственном позорном участии в нем, вообще о несовершенстве человеческой природы. Времени теперь у него достаточно. Долгими зимними вечерами под вой ветра хорошо было вот так лежать и безо всякой суеты все-все обдумывать, как жил до этого, как дальше жить будет… В этот вечер к нему на огонек неожиданно пожаловал Мухамедовез-пальван.
– Эссаламалейкум! Мулла Перенгли!
– Волейкумэссалам! Мухамедовез-пальван! – Он очень обрадовался гостю.
И, поздоровавшись, они уселись друг против друга. Блоквил уже понимал немного по-туркменски, но Мухамедовез-пальван не спешил с разговором, достал трубку, набил табаком, а Блоквил поднес уголек, заодно и свою раскурил трубку, вспомнив, что лишь благодаря Муха-медовез-пальвану осталась у него эта хорошо обкуренная трубка, помогающая коротать долгие вечера.
Блоквил все ждал, что скажет Мухамедовез-пальван. Но тот покурил, помолчал и, попрощавшись, откинул кусок кошмы, служившей дверью, ушел, так и не сказав ни слова. «Зачем тащился сюда этот немолодой уже человек? – ломал себе голову Блоквил. – Шел ночью под злой вой ветра две версты по непролазной грязи, зачем?!» Покурили, послушали неясные ночные звуки и вот… ушел, странный человек.
И еще раз пришел, примерно через неделю. И опять поздним вечером. Опять курили, сидя друг против друга, молчали. На этот раз, чтоб как-то начать разговор, Блоквил вспомнил первый день своего появления здесь, в ауле, когда сумасшедший так перепугал его своей змеей.
– Зачем ему змея?
– Змея? – неторопливо переспросил Мухамедовез-пальван и сладко выпустил дым из обеих ноздрей, – змея это змея… – и замолчал надолго, Блоквил уж подумал, что не дождаться ответа, но Мухамедовез-пальван продолжал: – У нас – туркмен – всего двести имен, а у змеи их тысяча, и каждая змея хранит свое имя в глубокой тайне. Если ты узнаешь ее имя, она склонит голову перед тобой! – он многозначительно поднял палец и окончательно замолчал.
Мухамедовез ушел, оставив после себя медленность походки, рукопожатие мозолистой руки и молчание, которое все больше начинал Блоквил понимать.
Бердымурад – непосредственный хозяин Блоквила – мечтал за него получить хороший выкуп и разбогатеть, но он должен был и отвечать за пленника, кормить, поить, а ответа из Тегерана все не было, а ведь уже и лето кончалось, опять настала осень. Бердымурад все более мрачным становился, и так-то он был человеком не очень разговорчивым, а тут и совсем перестал разговаривать с Блоквилом. Но француз не очень обижался на него, понимал, что вспыльчивость его быстро проходит, а в душе он не только добр, но даже бывает нежен со своей женой Аннабиби. Порою до сентиментальности, что редкость большая для туркмена. Это последнее заметил он в Бердымураде, когда собрались как-то в просторном доме Мухамедовез-пальвана послушать бахши, который на дутаре исполнял песни «Кер-оглы».
Послушать бахши – народного певца – впервые довелось Блоквилу, и за это он был опять-таки благодарен Мухамедовез-пальвану, который постоянно помнил о нем, делал все, что в его силах, чтобы скрасить хоть немного нелегкую жизнь пленника, чтобы сделал он – Блоквил – еще хотя бы маленький шажок на пути к истине.
Высокий, плавающий как бы в поднебесье голос певца и монотонные, как серые бескрайние песни, звуки всего двух струн дутара захватили Блоквила целиком. На скатерти-дастархане стоял и плов, и таз с шурпой, но люди не притронулись к еде, зачарованные прекрасной песнею бахши. «Как мало, оказывается, людям надо!» – подумал Блоквил, незаметно оглядывая сидящих. И вот тут и заметил среди напряженно-счастливых лиц туркмен, как увлажнились глаза у резковатого, сурового Берды-мурада. «Э-э, да это жизнь тебя сделала таким!» – радостно догадался Блоквил и все простил ему в своей душе, отныне сделавшейся чистой, как родник.
Бердымурад по-прежнему не разговаривал с французом, не отвечал при встрече на приветствие, приказания передавал через других. Чаще всего через жену свою, статную молодую Аннабиби. А возможно, в какой-то мере одной из причин такого холодного отношения была и сама жена, которая к Блоквилу относилась очень дружелюбно, изредка подкармливая голодноватого француза. Но дружелюбно к нему ведь относилось большинство населения аула. «Мулла Перенгли, – ему кричали дети, когда шел он по улице, – расскажи о своем Перене!» «Мулла Перенгли, – с жалостливым вздохом, протягивая лепешку, говорила какая-нибудь хозяйка, – попробуйте горячего чурека». Когда Блоквил вправил руку маленькому Чарыяру, он долго сидел у изголовья мальчика, ласково уговаривал, чтобы не плакал, спел даже песенку, какую в детстве пела мать Блоквила, и Чарыяр, рассмеявшись, уснул, забыв о боли. И это тоже не прошло без внимания у жителей аула Гонур, все доброжелательнее, все понятнее они становились. Да и Блоквил уже почти свободно говорил по-туркменски, узнал многие обычаи, и жизнь вокруг, казавшаяся раньше такой однообразно скучной, приоткрывалась перед ним во всей сложности, во всей противоречивости, являла такие грани, что он – дитя XIX просвещенного века – только диву давался.
Сельская община – аул, в котором жил Блоквил, была основой общественной организации Туркмении во второй половине XIX века. Но и тут общество делилось на слои, положение которых было весьма различным. Это вначале ему показалось, что все здесь живут одинаково, присмотревшись же, увидел, что здесь, как и во Франции, люди делятся на богатых и бедных. Основных слоев в ауле было три. Первый слой – иг: полноправных общинников, как их здесь называли, «чистокровных», владеющих не только пастбищами, но и колодцами. Туркменская ж пословица гласит, что здесь родит не земля, а вода. Это были богачи. За ними шли гельмишеки, занимающиеся в основном издольщиной или владеющие небольшими участками земли. Это был средний класс, примерно такой, к какому относился сам Блоквил. И третий слой – слой кулов и грнак, то есть рабов и рабынь, положение которых было тяжелее, чем у Блоквила.
Это были три основных слоя. Между ними появлялась еще и прослойка ярымов, родившихся от смешанных браков между свободными и рабами. Положение их было незавидным.
Вообще патриархальность витиевато, как и положено на Востоке, здесь переплелась с жестоким рабством. Здесь до сих пор сохранился сапошник – общинная собственность на землю и воду. Здесь земельный надел – су – получал каждый женатый мужчина. Но этим в основном ведь пользовались баи, сосредоточивая в своих руках несколько наделов, путем женитьбы малолетних сыновей. Большой калым за невесту их не смущал, ведь баи богаты, а лишний надел окупится с лихвой. У бедняков же, как правило, не было возможности калым заплатить, лет до тридцати – сорока без жены оставались. А значит, и без надела земли, в бедности. Да, нелегко жили люди вокруг. Как и везде. И, все пристальнее вглядываясь в людскую жизнь, видел он, что черствость, жестокость обязательно соседствуют с жалостью и состраданием. И это открытие согревало его в долгие месяцы плена.
А время шло и шло. Уже и год минул. Переговоры о его освобождении затянулись. Суетливая нетерпеливость, с которой ждал вначале результатов, уступила место душевной сосредоточенности. Не так он жил! Это было ему ясно. А как жить дальше? Конечно, узел можно разрубить, поехать паломником, как мудрый Мухамедовез-пальван, в Мекку и Медину, или… стать йогом, или… остаться здесь навсегда, с этими людьми, которых успел полюбить…
Но чаще всего ночные размышления его при неверном свете коптилки были не очень конкретны: узел, конечно, можно разрубить, но ведь хотелось развязать. Но как? С томительным вниманием заглядывал в себя и… почему-то вспоминалась вдруг собака, зачем-то безжалостно загубленная Кара-сертипом… и самого Кара-сертипа было жаль. А впрочем, он ведь отстрадался уже, как и Тереза-бедняжка. Сегодняшняя боль вокруг стала близка Блоквилу, сегодняшние страдания вокруг. Теперь и скорпиона он палкой не убьет, подцепит щепкой, выбросит за дверь. А в последнее время и не выбрасывает – пускай себе, не тронет, если его самого не трогать. Какая-то гармония, вместе с чужой, со всех сторон кричащей болью, уже входила в его душу. И опять поражала такая, в сущности, простая мысль: зачем было ездить в разные страны, стремиться в музеи, замирать в благоговении перед редкими памятниками, когда сама Природа так близко от нас – ее детей – выставила все, что делает нас и лучше, и счастливее?
А то, что лучше стал душой за этот трудный год, то это ж несомненно. И даже стал счастливее! Хотя, наверное, в это и трудно поверить. Но он-то твердо знает, что это так. Ибо почувствовал главное: человеческая душа, хотя бы и его собственная, оживляющая сейчас это бренное, полуголодное, прикрытое лохмотьями тело, наверняка в своей изначальной предназначенности осталась тем же – животворящим принципом любого самого низкого звена в бесконечной цепи бытия. Иначе чего бы ей, твоей душе, болеть чужой болью? Той же собаки, паучка, скорпиона… Как было больно маленькому Чарыяру, выпихнувшему руку, и больно матери его за страдания сына. Как самому тебе было больно, когда хозяин наотмашь ударил свою жену Аннабиби!
А было так. Блоквил давно подметил, что Аннабиби примерно в одно и то же время, около трех часов пополудни, разводит огонь в тандыре и начинает печь свои лепешки. Если же в это время идет мимо прохожий, Аннабиби обязательно угостит его горячей лепешкой. Таков уж обычай. Блоквил освоил многие обычаи, и этот ему очень нравился. Выглядывая из своей землянки, которая была метрах в двадцати от тандыра, Блоквил выжидал еще с полчаса, затем говорил себе: «Пора!» Набивая трубку табаком, он не спеша начинал приближаться к тандыру за угольком, как бы для трубки. А вместе с угольком всякий раз получал изрядный кусок горячей, поджаристой, ароматной лепешки. Какой хороший обычай у туркмен!
Правда, обычай требовал, чтобы прохожий отломил от лепешки лишь два куска, пусть и в пол-лепешки, остальное же с благодарностью надо было вернуть хозяйке. Но очень уж была вкусна на этот раз лепешка. Или Аннабиби улыбнулась ему сегодня очень дружелюбно, не потешалась, как раньше, над его туркменским произношением. Как бы там ни было, но только забыл про обычай Блоквил, спокойно отправился к себе в землянку. И тут же вышел Бердымурад: оказывается, он все это видел. Он подошел к жене и наотмашь ударил ее по лицу. Ударил так, что с головы ее слетел борук и упал на спину. Кусок застрял у Блоквила в горле, лепешка горькой показалась… Только вот за что ударил муж жену: за лепешку или за улыбку? – этого, пожалуй, не разгадать. Чужая душа потемки.








