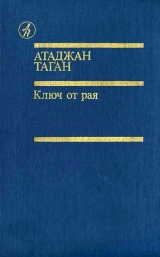
Текст книги "Ключ от рая"
Автор книги: Атаджан Таган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 34 страниц)
Неподдельное изумление понравилось вдруг принцу, он покачал с улыбкой головой. «Эти туземцы ну как дети!»– подумал, почти физически ощущая груз той нелегкой миссии, которой теперь облечен. Да, придется много затратить усилий, чтоб что-то путное сделать с этим неразвитым народом, принц будет строг, но он будет и справедлив. И, вздохнув, скучающим голосом принц стал объяснять чабану:
– Человека, что ты видишь, чабан, зовут Блоквил, очень далеко от ваших краев есть страна одна – Перен[100]100
Перен – Франция.
[Закрыть]. Ты хоть слыхал, чабан, про такую страну – Перен?
– Перен? – приставив руку к уху, быстро переспросил старик. – Перенистан? Слыхал, слыхал, а как же, конечно, слыхал…
– Ну, а если слыхал, то это человек оттуда, Перенг-ли – из Перена.
– Перенгли! – старик обрадовался:, узун-кулак– большое ухо – беспроволочная почта уже донесла, что с армией персов едет большой ученый, который знает все науки, Перенгли. – Знаю, знаю: Перенгли – ученый человек, – повторял он обрадованно.
Принц хмыкнул и спросил:
– Твой ли дом, чабан, виднеется там вдали? И овцы, что ты гонишь, твои ли?
– Дом мой, – старик ответил кратко, – овцы бая.
– Говорят, туркмены народ гостеприимный, – усмехнулся принц. – Что скажешь на это, чабан? Или врут люди?
– Туркмены гостеприимны, – старик пристально на них взглянул, – только к очагу приглашают… после приветствий. – И, тяжко вздохнув, ответа не дожидаясь, зашагал, опираясь на посох, к своим кибиткам.
А всадники, весело переговариваясь, – за ним. Когда ж приблизились к кибиткам, из правой вышел стройный юноша и почтительно поздоровался с гостями.
– Сын? – вскинув брови, поинтересовался принц.
– Старшенький… Мамед-джан.
Из левой кибитки с молочником в руках вдруг молодая женщина появилась. Увидав же незнакомцев, быстро юркнула обратно.
– М-м-м… – глядя вслед ей, произнес принц, успев, однако, разглядеть и белые руки юной женщины, и чистые, по-утреннему влажные ее глаза, и то, как метнулась она, словно молодая лань, в свою кибитку, – и принц, чуть сморщив нос, словно бы с осуждением строго поглядел на старика. А тот и правда почувствовал вдруг неясную вину и торопливо заговорил:
– Это невестка, невестка, она вернулась недавно из отчего дома… после кайтармы… мы тоже, если даст аллах, может, дождемся внука перед смертью…
– Вот как, – произнес в раздумье принц, соскакивая с коня, и, глядя в землю, медленно повторил, – значит, вот как…
И тут же, словно только что разглядел старшего сына чабана, стоящего перед ним, принц порывисто протянул юноше руку. Мамед обрадовался: до этого ведь никогда не приходилось здороваться с такими нарядными, красивыми людьми. Юноша доверчиво протянул обе руки, и они тут же скрылись в огромных, цепких ладонях принца. После этого принц долго пребывал как бы в задумчивости, а все в молчаливой почтительности ждали. И старик чабан, и стройный красавец Мамед, и свита… А принц стал расхаживать вокруг коня, стал напевать и, зная, что нет у него ни голоса, ни слуха, напевал все громче. Напевая, к колодцу подошел и, придерживаясь за ветку борджака, в колодец заглянул. И, словно заглядывая в колодец впервые в жизни, долго качал головой, не то удивляясь, не то осуждая… а все стояли и молчали. Потом, закусив нижнюю губу, долго кибитки разглядывал. Все это выглядело не очень естественно, как-то неискренне. И старик задумался. Обычно в подобных ситуациях он, дав сыну поручения, сам вел гостей в дом. Теперь он думал о том, как бы благополучно спровадить незваных гостей. Не нравились они ему. Особенно после того, как невестка не вовремя выглянула из своей кибитки. И на невестку он теперь сетовал: «Нашла время, когда выглядывать!» И на сына сетовал, который крутился тут же, беды не чуял, спрашивал в нетерпении: «Что надо делать, отец, как гостей встречать будем?» Сам себе старик не нравился, он видел теперь, что все вокруг ведет не к добру. И то, что овцы далеко разбрелись от брошенного колодца, – не к добру. Даже то, что насвистывает так беззаботно младший сын, – это тоже не к добру.
Вот и не поворачивался у него язык пригласить гостей в дом. А вместо этого вспомнил старый чабан сегодняшний сон. Сон был тоже нехорош, но старик сейчас пытался как-то растолковать сон этот самому себе, чтоб уяснить, чем же именно он нехорош. Во сне он видел свою старуху, которая десять лет тому назад умерла. «Старик, – будто бы спрашивает она его, – отчего ты так грустен?» – «Ай, – отвечает будто бы он ей, – вечно ты что-нибудь придумаешь, старая. Отчего это я должен быть грустен, если у меня все есть. Есть еда и питье, есть кибитки, которые укроют в случае непогоды. Есть два сына и невестка. Скоро родится внук, и на всем свете не будет тогда человека счастливее меня… Плохо, что нет тебя, а то порадовалась бы вместе с нами». Но старуха только головой покачала, усмехнулась, и с каким-то обидным сомнением в глазах исчезла.
Рано утром, закончив чтение намаза, старик тайком наблюдал за невесткой, занятой своими делами. Да, невестка заметно округлилась, живот явно выпирал, месяцев через пять у него будет внук, и будет тогда старик самым счастливым человеком! Отчего ж во сне старуха так грустно качала головой?! Пытаясь сейчас отогнать мрачные подозрения, он прошептал: «Во сне все наоборот». Но это не помогло, страшные мысли не покидали его. Общее молчание как-то затянулось, старик хотел уже нарушить его, уже подбирал первую фразу. Но тут принц вдруг решительно направился к кибиткам. Остальные пошли за ним. Мамед не увидел ничего дурного в том, что гость без приглашения направился к дому, старик же задрожал всем телом, рука сама по себе потянулась к ножу, но тут же схватил себя за ухо, чтоб как-то дрожь унять, колотившую его все сильнее. Принц, краем глаза следящий за стариком, замедлил шаг, чтобы сказать:
– Меня зовут, чабан, Хамза-Мирза. Знакомо ли это имя тебе? По тому, как ты побледнел, вижу, что знакомо. А это мои славные командиры. Это – Махмуд Мирза Аштиани, а это – Кара-сертип, его подвиги, надеюсь, известны всем туркменам, я прибыл сюда с огромным войском, так что… – принц покачался слегка на носках перед старым чабаном и закончил: – так что тебе придется… расстаться с половиной отары.

Старику показалось, что принц хотел сказать что-то другое, совсем не про овец, и, моля судьбу, чтоб речь шла действительно лишь об отаре, затягивая непроизвольно страшный разговор, переспросил:
– Говоришь, половина отары?
– Да, – высокомерно отвечал принц, – именно так – половина.
– Если аллах позволит, то можно съесть и всю отару.
– Вон как? – принц вскинул тонкие брови: – Ну, а если аллах не позволит?
– Это один аллах знает, – старик сложил смиренно руки.
– Ну, а если это знает лишь аллах, – принц зевнул, решив, что пора кончать комедию, – тогда давай, чабан, войдем в дом.
– Пошли, угостим чем богаты, – и чабан гостеприимно показал на правую кибитку.
– Ах, старик, старик, разве ж ты забыл туркменскую пословицу: «Справа – заминка, слева – радость!» И мы, прибывшие сюда на большое дело, разумеется, предпочтем из этих двух впервые встретившихся нам на туркменской земле домов конечно же левый! Пусть нам сопутствует удача, а? Старик? Долой сомнения, не так ли!
– Сомнения лишают веры, о гость достопочтенный! – воскликнул старик, уже не очень соображая в лихорадочной смуте, душу охватившей. – Но там, где гостя принимают от чистого сердца, даже дурные мысли добром оборачиваются.
– Вот как, – принц прищурился, и легкая усмешка тронула бескровные губы, – что ж, верные слова, старик… тебе зачтется, – и решительно протянул руку к пологу левой кибитки.
– Да нет же, нет! – старик суетливо забежал вперед и встал перед принцем. – Мы не потому не приглашаем дорогих гостей в эту кибитку, что «справа – заминка», а лишь потому, что эта кибитка у нас женская, и… нехорошо заходить в дом, где находится женщина, хан-ага… – голос старика задрожал.
А голос принца, наоборот, словно окаменел, был строг и громок.
– Да ты что, старик! – Поддержав его за локоть, внезапно ласковым голосом заговорил тут принц: – Я не нуждаюсь в твоем богатстве… У меня, поверь, хватает своего. Да мне стоит лишь чихнуть – и сорок таких кибиток будут здесь стоять, да что там сорок – сотня, тысяча! Мы… мы просто хотим зайти, поздороваться, кибитку осмотреть… и все.
И старик успокоился, благодарил уже аллаха, удержавшего его руку, потянувшуюся к ножу. А о ноже все же помнил: тут он, за поясом. Дай, аллах, чтоб и дальше так все кончалось хорошо… а уж он накормит славным ужином гостей, барана не пожалеет!
И полог был откинут, и вошли. Невестка переоделась, в углу сидела в старом платье, накрывшись паранджой. Накрылась хорошо, но все же немного была видна нога, тряпье лишь подчеркивало упругость, юность белого тела. Принц задышал заметно и, сделав шаг вперед, слегка нагнувшись, быстро сказал:
– Лицо, лицо хочу увидеть.
– Увидеть лицо никак нельзя, – спокойно произнес Мамед, ничего не подозревающий еще.
– А что, если мы это сделаем, у тебя не спросив? – ласковым голосом произнес принц, оборачиваясь с жесткой усмешкою на губах к Мамеду и от этого становясь очень похожим на кошку, играющую с пойманной мышкой в смертельную игру.
Старик, беду на пороге чуя, сильно оттолкнул сына и торопливо заговорил:
– Конечно же можно, не обращайте, хан-ага, внимания, юноша погорячился, уж простите его как-нибудь. Да, туркмены до самого возвращения невестки заворачивают ее в бархат, такой уж обычай наших отцов, и не нам его менять. Но друзья-товарищи парня все же могут смотреть лицо невестки. Так что будем считать, что вы тоже товарищи моего сына Мамеда.
– Отец! – воскликнул Мамед.
Но старик, внимания на него не обращая, к невестке обратился.
– Детка, повернись сюда и… покажи дорогим гостям свое лицо. Повернись, повернись, моя хорошая, – ласково уговаривал он, – а я даже и не взгляну на твое лицо, повернись! – Мольба и стыд были в его словах, он чувствовал себя самым несчастным на свете человеком, наверняка не было среди туркмен свекра, обратившегося о такой позорной просьбой к своей невестке.
И она – невестка, – забившись в угол, теперь не знала, что и делать. Женщина, ни разу в жизни не заставившая себя просить дважды, не знала, что ей делать, разрываясь между свекром и мужем и в то же время женским чутьем понимая, что свекор прав.
– Да она у тебя никак глухая! – захохотал, желая принцу угодить, Кара-сертип.
Принц кивком головы одобрил грубую шутку и сделал еще полшага к невестке. Но тут Мамед стремительно нырнул под руку отца и оказался между женой и принцем. Туда же, в угол, ринулись телохранители, но их опередил старик, быстрее всех там оказался, коротко крякнул, размахнувшись (принц в страхе отшатнулся), но старый чабан ударил сына и со слезами в голосе воскликнул:
– Огульджерен, невестка моя, твой свекор не думает о твоем позоре, сделай так, как я говорю, сделай, сделай, заклинаю тебя во имя аллаха! – он трясся перед ней как в лихорадке.
Сын в изумлении стоял, все еще держась за щеку. И Огульджерен все поняла, откинула паранджу. Старик, схватившись за пояс, запрыгал от позора на его седую голову: думал ли он когда-нибудь дожить до такого? Тут вскрикнула Огульджерен, принц уже тянулся к ней руками. Мамед бросился на помощь к жене и тут же грузно стал оседать. Телохранитель был начеку, играючи свалил Мамеда, в висок ударив точно. Вот и забыл обо всем старик, выхватил свой верный нож, чтоб детей защитить. Да только силы с годами уж не те, и проворен не так, лет двадцать – тридцать скинуть бы, а так… ку-у-да… В глазах потемнело, а когда очнулся – лежит рядом с сыном. Принц держит правую руку на весу, с руки медленными каплями стекает кровь. Какая-то сонная улыбка бродила на тонких губах принца, внимательно разглядывавшего свою руку. Вокруг стояла гробовая тишина. Тех, что оставались снаружи, и привлекла эта внезапная тишина, они стали подходить к решетке, заглядывать внутрь. Среди подошедших был и француз.
Заглянув в кибитку, он поражен был красотой Огульджерен. Забившись в угол, она совсем забыла про открытое лицо, большие влажные глаза ее сверкали, она порывисто дышала, черные волосы оттеняли прекрасную бледность щек, на нижней губе осталась капля крови. И, эту каплю вдруг разглядев, принц внезапно почувствовал настоящее удушье.
– Постой же, сучка, – зубы его стучали, как в ознобе, – я превращу твои пухлые губки в пасть собаки, лизавшей с благодарностью кровь своего хозяина!
Мамед весь дернулся от этих слов, вскочить пытался, но острый кинжал, упершись в бок, остановил его. Движение юноши не прошло незамеченным.
– Привяжите обоих к тяриму[101]101
Тярим – решетчатый каркас, стена кибитки.
[Закрыть]! – приказал принц. – Пусть-ка посмотрят спектакль, который дают настоящие принцы.
– Что это за спектакль принцев? – спросил француз генерала Кара-сертипа, стоящего рядом. – Я что-то никак не пойму.
– Если еще не понял, – с непонятным французу восторгом отвечал генерал, – сейчас поймешь, сейчас все-о-о поймешь. – Кара-сертип потирал в возбуждении руки. – Гляди, гляди, ну, гляди же, – чуть не плача шептал он в самое ухо французу, приподнимаясь на носки, чтобы получше разглядеть то, что делалось в кибитке.
А там отца и сына поставили по углам, заломили руки и крепко привязали к тяриму. После этого принц стал расхаживать между привязанными мужчинами и забившейся в угол дрожащей Огульджерен, ходил и смотрел себе сосредоточенно под ноги. Потом вдруг быстро подошел к старику и сильно дернул его за бороду. Что может быть позорнее для туркменского яшули![102]102
Яшули – уважительное обращение к старшему.
[Закрыть] Старый чабан заплакал и стал просить аллаха о смерти, но аллах не слышал, и старику пришлось испить чашу позора до конца.
По знаку принца дюжие телохранители, похохатывая, подталкивая друг друга, засучили рукава и пошли в угол, где, скорчившись, дрожащая, готовая уменьшиться до невидимых размеров, сидела Огульджерен.
– Проклятые изверги! – пронзительно закричала она. – Если вам меня не жаль, пожалейте хотя бы ребенка, который еще не родился!
Первый раз за всю жизнь старик услышал крик своей невестки. И в этом крике не было стыда, в нем боль за его будущего внука. Старику показалось, вместе с матерью кричит сам младенец. Месяца три, месяца четыре ему всего-то, и вот – он должен умереть, так и не узнав, чей же он внук. Умереть, еще не родившись. А самые близкие ему люди стоят привязанные к тяриму и ничем помочь не могут. Никогда не услышит старый чабан желанное слово «дедушка». И дрогнуло мужественное его сердце. Словно ртуть поднялась, замутила голову. Застонал старик:
– Алла-ах, аллах-джан! О милостивейший аллах! Пожалей хотя бы невинного младенца, джан-аллах…
Стены кибитки задрожали, казалось, от этого стона стены готовы были развалиться. И только человек не сжалился над человеком. Рука черноусого нукера уже опять тянулась к Огульджерен. Старик закрыл глаза. Но рука не успела коснуться, молодая женщина с такой силой толкнула черноусого, что тот отпрянул, зашатался. Принц Хамза-Мирза, увидев это, зло рассмеялся: «А ну, попробуй с другой стороны!»
Черноусый бросился на Огульджерен с другой стороны, сейчас уж он ей покажет, отомстит за позор, за то, что так зло смеется над ним его повелитель. Но и опять он цели не достиг, отброшен был в угол кибитки и долго не мог в себя прийти. Ведь на этот раз его толкнула не женская рука, а пнул Мамед – защитник, муж. Собрал все силы и пнул, когда черноусый оказался вблизи. Другой слуга ударил плетью Мамеда по лицу, еще хотел ударить, но принц знаком приказал – не надо.
Теперь за дело взялись двое слуг. Один слева, другой справа кинулись на Огульджерен разом. И как она ни отбивалась, одному из слуг удалось схватить ее за волосы. Теперь, словно верблюдица, отдавшая свои поводья, она была вынуждена склониться в ту сторону, куда ее сильно тянули за волосы…
Гулибеф де Блоквил, как истинный парижанин, ринулся было в благородном порыве на помощь, но тут же и поник. У шаха Насреддина осталась бумага, запрещавшая ему вмешиваться в любые действия персов. И все же не бумага его сейчас остановила. И без бумаги понимал Блоквил: ворвись сейчас со своим красивым пистолетом в кибитку, слетит ведь его русая голова, не задумываясь, срубит ее черноусый нукер-телохранитель. И, вздохнув, Блоквил взял под руку генерала:
– Пойдемте, генерал, прогуляемся немного.
Тот выдернул руку и странно поглядел на француза: мол, с ума ты, что ли, сошел, тут сейчас столько интересного будет, а ты!
Голубые глаза генерала, с жадностью смотрящие внутрь кибитки, подернулись масленой пленкой, усы топорщились, дрожали от удовольствия. Сам он привстал на цыпочки, все тянулся, тянулся, уже почти парил… он уже был там, в кибитке… Тогда француз изменил тактику и сказал:
– А как вы думаете, понравилось бы господину командующему, если бы он вдруг увидел, что мы подсматриваем за ним?
– Почему же подсматриваем? – грубовато переспросил Кара-сертип. – Мы же просто смотрим.
Но чувствовалось, что Кара-сертип не уверен, и француз продолжал:
– Да, конечно, мы просто смотрим, но ведь если бы принц пожелал, то пригласил бы нас в кибитку, а так… получается, что подсматриваем.
– Да, – пробормотал генерал, и на его низком, чуть сплющенном по бокам лбу появилась одинокая морщина.
Он почти не сопротивлялся французу, крепко держащему его за локоть. Как только они отошли от кибитки, Блоквил спросил с серьезной деловитостью:
– Как там насчет пороха, генерал? Его, надеюсь, у нас достаточно?
– Хватит, – угрюмо отвечал Кара-сертип, вытирая с лица обильный пот, выступивший от волнения.
– Ну, а все-таки? – не отступал француз. – Нельзя ли поточнее узнать, сколько верблюдов загружено порохом?
– Больше тысячи.
– А-а… поточнее нельзя ли, мой генерал?
– Поточнее? Сегодня у нас что?
– Пятница.
– Пятница? Очень хорошо. Так вот, количества пороха хватит от этой пятницы до следующей пятницы, если мы будем непрерывно стрелять днем и ночью из всех тридцати трех наших пушек! Да что нам ломать голову из-за этого? Ты, господин, хоть и много учился, туркмен не знаешь, и потому лишь кажется тебе, что идешь на опасный бой. Да чтобы поставить на колени Мары, совсем нет необходимости вот так ломать голову, – и Кара-сертип оглянулся на кибитку, из которой доносился шум борьбы, крики мужчин, визг и вой несчастной женщины.
Потом грозный окрик принца: «С женщиной справиться не можете – что же будет с вами, когда встретятся мужчины!» И снова шум, крики, протяжный женский вой, от которого Кара-сертип задрожал в возбуждении, а Блоквил, увлекая его все дальше, говорил:
– А я ведь и в самом деле думал, что мы идем на опасный бой.
Генерал покривился в досаде:
– Да говорю же тебе, ты ошибаешься – племя туркмен не знает, что такое настоящая война, что такое железная дисциплина, не знает тактики, а тем более стратегии современного боя.
– А почему?
– Почему? – генерал с усмешкой поглядел на француза. – Да ты сам подумай, откуда у народа, у которого нет ни одного генерала, будет разумение о таких высоких материях, как тактика, как стратегия. Нет ни одного генерала, – и Кара-сертип многозначительно покачал пальцем перед носом француза, – а тем более нет и быть не может полководцев, подобных нашему принцу Хамза-Мирзе.
– Ну, хорошо, и все-таки я не могу понять, чего же добивается шах Насреддин, ставя Мары на колени?
– И не поймешь, – самодовольно ухмыльнулся Кара-сертип, – потому что не перс, а француз, француз, не испытавший подлых ударов от этих нечестивых туркмен. Да ведь они же чуть ли не каждый день нападают на нас, грабят аулы, увозят наших женщин.
– Итак, за отдельные пограничные набеги, которые сплошь и рядом случаются на любой границе, причем, заметь, мой генерал, набеги как стой, так и с другой стороны, не правда ли? И вот за это теперь надо покорять навсегда целый народ? Может быть, лучше бы провести переговоры?
– Ха! Переговоры! Переговоры с туркменами! Дипломатия! – презрительно скривил губы Кара-сертип. – Бей, жги, уничтожай – вот лучшая дипломатия! И Мары будет на коленях. Ты еще, француз, не знаешь туркмен – это ж темные, трусливые людишки, да если бы мне дали всего две желтые бомбы и тысячу, да нет, пятьсот всего солдат, я бы и с ними стер Мары с лица земли, да я бы…
Тут из кибитки донесся крик, мало похожий на человеческий, и генерал на полуслове оборвал себя. Губы его расплылись в улыбке, глаза стали маслеными, он всей душой был там, в кибитке, с принцем заодно, заодно с насильниками-телохранителями. Это так явственно было написано на его лице, что небезопасное желание дразнить и дальше генерала и тем хоть как-то наказать его за соучастие – пусть лишь в душе – в страшном преступлении– это желание усилилось в Блоквиле, стало почти нестерпимым. Он жестко произнес;
– А как же несколько лет тому назад эти темные, трусливые туркмены разбили огромное хивинское войско? А за год до этого у Кара-Кала разбили самих персов, а? Неужели господин генерал забыл об этом?
Кара-сертип не знал, что ответить, он стал оглядываться по сторонам, словно там искал ответа, и, увидев мальчика с ножницами в руках, грозно крикнул: «Эй, как тебя зовут?»
– Иламан.
Кара-сертип хитро взглянул на француза и многозначительно, как будто в этом и скрыт был ответ на коварный вопрос, произнес с расстановкой;
– Оказывается, этого маленького туркмена зовут просто – Иламан.
Французу осталось лишь с легкой улыбкою пожать плечами. А когда они вернулись, из кибитки уже выходили запыхавшиеся, раскрасневшиеся, но весьма довольные собою и вообще окружающею жизнью принц и его верные телохранители. Принц, встретившись глазами с французом, не опустил своих, лишь прищурил надменно:
– Господин, как нравится тебе воздух Туркмении и вообще…
– Хороший воздух, – сдержанно отвечал Блоквил, – если б еще вода, то это был бы рай на земле.
– Поэтому мы и ждем от тебя, Гулибеф де Блоквил, подробнейшей карты всех здешних колодцев, арыков, источников воды, здесь родит не земля, а вода! Тебе обещано за это солидное вознаграждение, и я думаю…
– Если позволите, я отвяжу этих… несчастных.
– Освободи, освободи, – усмехнулся принц и, похлестывая слегка плетью по голенищу сапога, вразвалочку направился к отаре жирных овец, которую уже начали делить.
Быстро темнело, и Блоквил, зайдя в кибитку, не сразу разглядел людей. Бесформенной, изломанной грудой белело поруганное тело несчастной Огульджерен. Француз разыскал лохмотья платья и немного прикрыл наготу. Потом подошел к старику и перерезал веревки. Старый чабан закачался и, чтоб не упасть, схватился за решетку тярима. Француз хотел помочь, но старик с ненавистью выдернул руку и прохрипел проклятье.
– Я не виноват… – пробормотал Блоквил, направляясь к Мамеду.
Перерезая веревку, чувствовал тяжесть на сердце, ибо перед ним было не лицо, а черная маска. Но Блоквил никак не мог и предположить, что же произойдет дальше, а стоило лишь освободить человека от пут, как стал он падать, и Блоквил не успел удержать. Когда же нагнулся, пощупал пульс, все стало ясно – сердце не выдержало позора.
Блоквил, выйдя из кибитки, огляделся. Над Хорасанским хребтом зажглась вечерняя звезда, тишина с небес опустилась, густели прохладные тени. Предчувствие истины, которая где-то совсем рядом, охватило Блоквила. Он замер, вслушиваясь с напряжением в себя, всматриваясь в себя, но ничего, кроме страстного желания жить, жить, жить… в себе не обнаружил… Принц с приближенными скакал к белому шатру, раскинутому на самой вершине холма. Его красный плащ в сумерках сделался черным. Такая же черная смута переполняла все существо француза. Совсем не таким представлялось начало военной экспедиции там, в Тегеране.
Когда в середине апреля торжественно выступили из Шах-Севента, Блоквил часа на три задержался в посольстве и потом нагонял армию уже один. Дорога была пустынна, небо высокое, прохладное. И в то же время словно бы какое-то напряжение было явственно разлито вокруг. Или всему причиною была дорога, бегущая перед ним, еще не оправившаяся после только что прошедших по ней многих тысяч людей. Попадались часто то тряпка, то подкова, лужи мочи, обрывки ремней. Но вот то вдали, то вблизи из кустов стали выходить на пустынную дорогу простые дехкане с мотыгами на плече. Спрашивали несмело, вся ли армия уже прошла или будет еще идти. И тут увидел Блоквил, что простой народ боится собственной армии, грабящей без разбора и чужих, и своих. Невеселый этот эпизод позабылся было во время похода, где все впервые было для француза. И вот… вспыхнул подобно вечерней звезде над Хорасанским хребтом… А над хребтом уже зажглась звезда, вторая, третья вспыхнула за ней… за сумерками ночь спешила. От колодца с ножницами в руках шел к дому маленький Иламан. Чтоб не услышать детского крика, который непременно раздастся, как только Иламан войдет в кибитку, Блоквил вскочил в седло, пришпорил лошадь. Показалось и этого мало, он сильно хлестнул плеткой, но крик догнал его и еще долго-долго потом стоял в ушах.
Хорошо отдохнув и оставив часть провианта у развалин Порсугала, персидское войско налегке стало быстро продвигаться в глубь страны и уже шестого июля 1860 года оказалось на левом берегу Мургаба в самой непосредственной близости от крепости Мары. Дул афганец, и в течение тринадцати дней, кроме легкой перестрелки, военных действий не было. В ночь же на 19 июля туркмены покинули вдруг крепость, и принц Хамза-Мирза, поставив впереди войска многочисленных музыкантов, развернув боевое знамя, торжественно вошел в город. Этот день решено было отныне считать днем поражения непокорного Мары, и многие вилайеты Персии с пышной торжественностью отметили победу.
Правда, основные силы туркмен, покинув город, ушли без потерь на запад, в пески, и следы их затерялись в барханах. Так что шах Насреддин вряд ли будет доволен захватом пустого города. Это хорошо понимал принц Хамза-Мирза, но предпринимать какие-то действия не спешил.
Сорок тысяч человек ело, пило, играло в кости, нарды, а в основном бездельничало. О какой-то санитарии никто при этом не заботился, так что вскоре жить в крепости стало невмоготу. Принц приказал перенести свой шатер в самый центр загородного военного лагеря, расположенного на небольшой песчаной возвышенности.
Огромного количества еды требовали и многие тысячи лошадей, ослов, верблюдов, мулов. Потравив ближайшие пастбища, они уходили все дальше от лагеря и… многие не возвращались. Может быть, становились легкой добычей туркмен. Хотя самих туркмен пока и не было видно. Где они? Возможно, далеко, а возможно, и за соседним барханом. Что там в сумерках померещилось тебе, воин? Черная колючка – саксаул – или туркмен со своим мушкетом? Что там катится бесшумно в неверном лунном свете – перекати-поле или смерть твоя, войн, в образе босоногого туркмена с кривым кинжалом? Персы вели праздный образ жизни, устраивали состязания бордов, петушиные бои, но тоскливая враждебность песков навевала все больший ужас, и все чаще по ночам во сне кричали те, кому приснилась смерть. И вскоре стало худшее сбываться.
Дело в том, что леса вдоль Мургаба уже сильно поредели, завоеватели вырубили их на дрова. И теперь приходилось уходить все дальше за дровами – карагачом, саксаулом. И вот тут-то окружали внезапно туркмены незадачливых дровосеков, брали в плен, а если те оказывали сопротивление, рубили головы. Кара-сертип, разумеется, знал об этом, но рассказывать принцу, до сих пор пребывающему в каком-то легко возбужденном, этаком воздушно-голубом состоянии, отнюдь не собирался. Кара-сертип лишь распорядился увеличить отряд дровосеков до двадцати человек и дал ему две пушки. Но туркмены окружили и этот отряд, наголову разбили, а пушки уволокли с собой в пески. На этот раз пришлось поставить в известность принца. Кара-сертип пережил неприятные мгновения, левое веко принца стало дрожать, подергиваться от гнева, но он сдержал себя прй французе, который по утрам возобновил с принцем легкие занятия французским языком. Принц с кислою улыбкою пожал плечами.
– Но ведь туркмены не умеют стрелять из пушек, зачем же им они?
Через месяц уже и лагерь за городом из-за нечистот представлял нечто ужасное. Зловонье, усугубленное невероятною жарою, вызывало тошноту даже у бывалого Кара-сертипа, что ж говорить о бедном французе! Ему – выпускнику Сорбонны, изящному ценителю Шелли и Монтескье, любителю путешествовать в мягком дилижансе по культурным странам Европы, вся эта азиатская экзотика теперь казалась несусветной чушью. Обещанная награда после окончания экспедиции уже не представлялась столь привлекательной, как там, в Париже. Да и начало не предвещало ничего хорошего. И совсем непонятно было, о чем думает принц. Ведь уже три месяца, как вышли из Шах-Севента, уже месяц, как они здесь, на земле Мары – и непонятно: победили все-таки они или нет.
Потянулись дни, однообразные, как марыйские пески, казалось, нет и никогда не будет просвета в их унылой жизни, казалось, свежий ветер никогда не разгонит тошнотворных испарений, которыми пропитан лагерь. Но однажды ранним утром француза разбудил странный шум в южной части лагеря. Юг был почти не укреплен, туркмен ведь ждали с запада. И вот на юге возник этот странный шум, разбудивший Блоквила, шум нарастал, уже доносились крики, вопли, стоны. И когда Блоквил выскочил из палатки, расположенной неподалеку от шатра принца, поразительная картина предстала перед ним. Продолжением сна – не иначе – воспринимал он то, что увидел. Четыре всадника вскидывали и опускали сверкающие сабли – и перед ними налево и направо, словно порубленный камыш, валились персы. Чтобы получше видеть, Блоквил взбежал на холм повыше, к самому шатру. Да, да, он не ошибся – то был не сон! Четыре человека напали на многочисленное войско и косили оцепеневших людей. Казалось, оторопь всех охватила перед такой, ни на что не похожей, прямо-таки нечеловеческой отвагой – вчетвером напасть на целое войско! И Блоквил следил как завороженный…
А уже слышны были их возгласы: «О аллах!» – с которыми рубили смельчаки своих врагов. «О аллах!» – шептали умирающие. «О аллах!» – воскликнул появившийся рядом Кара-сертип. Ноздри его раздувались, усы топорщились, в глазах загорелась ярость, тяжелые руки сжимались и разжимались, старый вояка с чувством повторял:
– Прекрасно! Вот это удар! В самую душу. Ах, какой удар – разрубил до седла! Э-э-эх!!!
Ему бы коня сейчас, он бы им показал! Но всадники вдруг изменили направление, резко свернули на юго-запад. И кажется, уже близки были к цели – уйдут к своим, в пески, уйдут безнаказанными, как пришли, погуляв с сабельками, потешив душу, повергнув в изумление и оцепенение своих врагов. Уходили! Без единой царапины! Чистокровные ахалтекинцы уносили их словно на крыльях! Это было фантастическое зрелище. Кара-сертип за долгую жизнь, которую провел в боях и сражениях, впервые видел такое! Он жаждал встречи с такими рубаками, он, может быть, всю жизнь мечтал помериться силами с такими богатырями, он махал им вслед рукой, мол, сюда, сюда, и все повторял:








