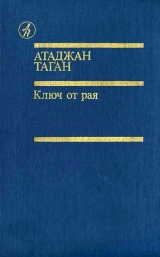
Текст книги "Ключ от рая"
Автор книги: Атаджан Таган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 34 страниц)
16
А через день, часам к десяти, прикатили на его делянку оба Атаева. Ягмур-егену издали сначала показалось, что это Арап-ага на своем «уазике» едет, и к дороге не стал торопиться – не хотелось с ним встречаться после всего этого, стыдно… И лишь когда вышли они оба и стали махать, узнал их.
– Здравствуй, дорогой! – чуть не хором закричали они, встречая. – На благо родины трудимся, да?! Ай, молодец!..
– Здравствуйте, здравствуйте… Какими судьбами к нам, друзья? – сказал он, пожимая им руки, какую-то неловкость испытывая.
– Да вот… поздороваться заскочили, благо мимо ехали, – проговорил Атаев, между тем как Чакан скучающе оглядывал местность, хлопчатник. – Ну, как дома у тебя, как дела? Все хорошо?
– Спасибо, яшули, все хорошо.
– А что ж ты от соревнования-то отказался, еген-джан? Ай, зря отказался, зря!.. Я надеялся, что ты далеко не последним будешь, а может, даже и…
– Нет-нет, – покачал головой Ягмур, ему и неловко было, и досада брала. – Нельзя, яшули… Спасибо, конечно, но ведь у нас человек на это готовился, ждал. Я так не привык.
– Ну, это дело хозяйское, – заговорил Чакан, важно отдуваясь. – Как знаешь, еген. Так, значит, дорогой, на поле встречаешь свое торжество, да?!
– Какое торжество?
– Ну, как же такое забывать?.. Или не забыл, притворяешься, друзей своих провести решил, а?1
– Честное слово, Чакан-ага, не знаю, о чем ты говоришь.
– Если честное слово, – и Чакан крепко пожал и потряс его руку, улыбнулся широко, – то тысячу лет живи, Ягмур-еген-джан! Поздравляем тебя, дорогой!..
– Да с чем?
– С днем рождения, еген! Забыл?! – сказал, тоже улыбаясь широко, слишком даже широко, Атаев. – Вот тебе наш подарок, будь здоров и крепок на радость нам, друзьям твоим!
Ягмур растерялся, прижимая какой-то сверток. Так вот зачем они приехали… В самом деле, тридцать девять ему сегодня. Но такое у них обычно не праздновалось, отмечались лишь круглые даты. Неудобство, радость и некое подозрение – все в нем смешалось, все испытал он, прижимая подарок к груди…
– Спасибо вам большое!.. Мне как-то и неловко, не отмечаем мы такое…
– Ничего, ничего… Носи на здоровье!
– Спасибо, друзья! Сейчас я положу…
Ягмур потянулся в кабину трактора, положил пакет на сиденье. Потом решил все же пристроить его к аптечке, где было почище, поднялся в кабину. И увидел в заднее стекло, как мигом поскучнели почему-то лица у его друзей; у Атаева стало оно уныло-брюзгливым и высокомерным, будто он и не улыбался только что, а Чакан кривовато как-то ухмыльнулся, подмигнул приятелю и кивнул на кабину: дескать… Что такое было его «дескать», Ягмур не понял, но сразу стало ему так неуютно, так не по себе, что он поторопился отвернуться, будто недозволенное, неприличное что-то увидел…
Когда он вышел из кабины, его поджидали все те же терпеливые, щедрые улыбки приятелей.
– Слушай, Ягмур-джан, тут дело у нас такое, спешное к тебе… Понимаешь, какое дело, – повторил Атаев, переглядываясь с Чаканом, сделав лицо озабоченным, – путевка у нас в организации горит…
– Бесплатная, – подсказал Чакан.
– В том-то и дело, что бесплатная… Жалко ее, понимаешь, назад в профсоюз отдавать, сам посуди! Слушай, ты случайно не был еще в отпуске?
– Нет, еще не был, яшули.
– Ну, слава аллаху!.. А то мы все думали, куда ее девать… Прекрасный, понимаешь, дом отдыха под Ашхабадом, настоящий оазис, прогулки, экскурсии в столицу – что еще человеку надо! Ну, так и решим: бери, поезжай, отдохни от своих трудов. Мы тебе ее мигом оформим, на то мы и друзья… А не имел бы я такого друга, – пошутил он, хлопнув Ягмура по спине, – и пропала бы путевка!.. Нет, товарищи, друзья в любом случае пригодятся, выручат…
– Ахмед-джан, Чакан-ага, дорогие… Огромное вам спасибо за все! Ай, мне даже стыдно… не знаю, чем и отблагодарить вас!..
Ягмур обнял одного, другого, радуясь и про себя каясь, как он мог слушать всякое про них. Сахит вон наслушался, так и ты, несчастный… Они думают о тебе, заботятся, а ты… Мало ль какие заботы у них, мало ль с чего хмурые они были, когда ты… тьфу!., подглядывал. Ты далее не подумал, что и им тоже может быть плохо, не спросил, а еще другом называешься…
– Друзья, я весь ваш, сердце мое с вами. Все для вас сделаю, что потребуется!
– Спасибо, еген-джан, мы это знаем. А пока давай посидим вон там, под тополем! Чакан-ага!
– Иду, – отозвался тот, возвращаясь от машины, пазуха его оттопырилась. – Красота какая! – сказал Чакан, одной рукой поводя вокруг, показывая, а другой вытаскивая из-за пазухи бутылку коньяка. – Отметим маленько, а?! Чтоб путевки не пропадали!
Они уселись на жесткой теплой травке, Чакан достал из другого кармана вложенные друг в друга стаканчики, кусок сыру и несколько шоколадных конфет.
– Ну, с днем рождения тебя, еген-джан!
– Спасибо, много вы мне радости принесли, друзья!..
Охотно, даже не показывая виду, как не хочется ему
сейчас пить и целый день потом работать по такой жаре с тяжелой головой, Ягмур выпил целый стаканчик. И они сидели так, разговаривали о всяком, и он рад был, что наконец-то разрешен для него этот смутный вопрос. А люди пусть говорят, если им больше делать нечего.
– Путевка у тебя с седьмого, еген. Только и заботы будет, что доехать, а там уж устроят, все условия создадут… Отдыхай на здоровье.
– А я ведь, друзья, первый раз вот так еду отдыхать, – смущенно сказал Ягмур, – Ни разу, понимаешь, не приходилось ездить ни на курорт, ни в дома эти…
– Это как же?! – всерьез поразился Чакан, ему, побывавшему в свое время везде, это было дивно.
– Да как… дома сидел, в саду работал. Дома дел много, некогда разъезжать. Да и не предлагали особенно.
– Слушай, а как же дядя? – пораженный, выспрашивал Чакан. – Он-то что, так и не помог ни разу?..
– У него и своих забот хватает, у дяди… Да я как-то и не спрашивал. Нет, ну и дела нет.
– Ну, ты даешь!.. – все недоумевал тот. – Надо же, ни разу никуда не съездить…
– А у меня идея возникла, – сказал вдруг Атаев, словно решившись на что-то. – Пятого я тоже в Ашхабад лечу, разнарядка новая на запчасти пришла… Хоть и нет там сейчас моего приятеля, – мигнул он Чакану, – в командировку он не вовремя укатил, ну, ладно… Что, если нам вместе отправиться, а, еген-джан?!
– Да рановато мне будет вроде…
– Ничего не рановато! К дяде заедешь, то-се… По городу походим, посидим кое-где, пообщаемся! Да и ты… с дядей меня тоже познакомишь, очень интересно мне будет с ним… э-э… познакомиться. Сам же говорил, что отличный он у тебя человек.
– О-о, дядя у меня молодец!.. Хорошо, Ахмед-джан, пусть по-твоему будет, я рад! Познакомлю, а как же!
– Вам хорошо, – будто взгрустнул Чакан. – По столице будете ходить, с людьми интересными встретитесь… Вам праздник, ну а мне тут будни будут районные.
– Послушай, Чакан-джан, – сказал Ягмур радостно. – А почему бы и тебе с нами не поехать? Отпросись уж у своего начальства, что оно, не отпустит, что ли… Вместе поедем, как хорошо будет! В случае чего у дяди можно переночевать, квартира у него ай какая большая. Поедем, а?!
– Я подумаю об этом, – вроде бы неуверенно, однако уже не сдерживая улыбки, проговорил Чакан. – Спасибо, друзья, не оставили одного скучать в районе… Подумаю, поговорю с директором. Полагаю, что отпустит, спасибо!
– Ну, вот и отлично! Давайте-ка за общую поездку нашу, чтоб все вышло как надо! – Атаев поднял стаканчик. – Пусть пошире нам распахнутся ашхабадские ворота!..
И они выпили, каждый радуясь своим надеждам.
– А может, даже и в ресторан куда сходим, – говорил Чакан, уминая сухой сыр. – Что нам, нельзя, что ли?! У дяди твоего, надеюсь, найдется время посидеть с нами?..
– Да, конечно, о чем говорить… Вечером, после смены, он всегда свободен, хоть до ночи гуляй. У них ведь по дому дел немного, все удобства, понимаешь, есть…
– Какой смены? – не понял Чакан.
– Ну, какой… обычной. В шесть он уже дома всегда, отработал – и на покой. Хорошая у них жизнь.
– То есть как это… на какой такой покой? – Чакан растерянно оглянулся на Атаева. – Не пойму, что ты говоришь, еген…
– Да что тут понимать, друзья: отработал – и отдыхай. Он меня давно на стеклозавод звал, но я не хочу, не согласен. Я дехканин, мне живая земля нужна, а не какие-то там стеклышки, железки. Нет, не хочу.
– Послушай, какой стеклозавод?..
– О аллах, да обычный, их стеклозавод… Дядя говорит: посмотришь, поучишься, в помощники потом к себе возьму… Не успеешь, мол, оглянуться, как сам тоже мастером станешь, года так через три-четыре…
– Что значит «тоже»? – багровея и не подымая глаз, спросил Атаев. Он как сидел, скрестив ноги, так и остался, только почему-то плечи его все больше опускались, сутулились. – Он что, тоже…
– Ну. Мастер он. Большой специалист. Шишка, понимаешь, на заводе.
– А… а шофер этот?
– Какой шофер?
– Ну, тот… вез который нас?
– А-а, Нуры-джан… Да это сосед дяди по квартире, какого-то начальника возит. А что?
Но ему никто не ответил. Чакан резким движением толкнул вдруг бутылку, она упала, торопливо забулькала, освобождаясь, сухая на пригорке земля и трава быстро впитывали в себя коньяк. Интересно, вдруг почему-то подумал Ахмед Атаев, глядя на бутылку, а трава пьянеет?
А Чакан между тем поднялся, постоял так, морща лоб и все лицо свое одутловатое, словно пытаясь что-то вспомнить, понять… И потом сказал, обращаясь непосредственно к товарищу Атаеву:
– Ты ишак, понял? Ба-альшой дохлый ишак…
– Поедем, – пробормотал тот. – Хватит, ехать надо.
– Нет, ты должен понять, кто ты такой… Знаешь, кто это такой? – обернулся Чакан своим серым в отличие от приятеля лицом к не понимающему ничего Ягмуру. – Это ишак, каких свет не видывал. Дурак проклятый. Скотина. Недоносок мамин. В утробе, понимаешь, недоразвитый…
– Да вы что, друзья… – попытался было прервать Ягмур его спокойные вроде бы перечисления.
– И ты молчи, дурак! – с тем же спокойствием оборвал его Чакан Атаев. Повертел в руках пластмассовый стаканчик, осмотрел и швырнул его в завозившегося, пытавшегося подняться начальника. – И я дурак… ну, ладно.
– Нечего тут… – говорил, суетливо и долго отряхиваясь, Атаев, руки его дрожали. – Перестань, не позорься… Поехали. Поехали, говорю тебе…
– Куда, в Аш-ха-бад?! – захохотал вдруг Чакан, а глаза его были все ледяные. – К дяде высокому, в министерский кабинет?! На персональной его машине с государственным номером кататься, да?! Идиот… А на стеклозавод, где вот эту, – он наподдал бутылку, та кубарем Полетела в кювет, – вот эти бутылки делают, не хочешь?! Племянничка нашел!
– Перестань!..
– Не перестану, дорогой ишак! Сколько мысли, сколько энергии положил… увивались вокруг этого, ублажали… какие планы, ай-я-яй!..
Ягмур стоял, смотрел на все это, молчал, а потом повернулся и пошел к своему трактору. Залез в кабину, включил скорость, трактор работал спокойно, надежно. В боковое стекло он видел, как они пошли, заместитель директора универмага впереди, шагая энергично и торопливо, а сзади тащился за ним Атаев…
У первого же арыка он остановился, достал сверток, повертел в руках и, так и не зная, что же в нем, выбросил. Желтая торопливая вода подхватила его, понесла, крутя, словно показывая всем, хвалясь подарком, и поглотила, спрятала в себе.
Надколыбельная
(повесть)
Перевод П. Краснова
Сказание о простом дутаре
Памяти отца – Тагана Овеза,
погибшего в Великой Отечественной
Есть в ауле Годжук дутар, который ничем вроде бы не отличается от многих других, сделанных сравнительно недавно или через бережные руки потомства дошедших из былого до наших дней, – разве тем лишь, может, что больше иных закостенел он и потемнел от времени, стал сухим совсем и легким. И еще тем, что, в отличие от своих собратьев, не остался он безымянным, но имя носил стародавнего своего хозяина, потому только, верно, сохранившееся, не потонувшее в зыбучих песках времен, что откликнулось оно и в названии самого аула; и связь эта человека, о котором уже мало кто чего помнил, его простого дутара а разросшегося ныне предгорного селения хоть и потускнела, глуше стала, но все жила и жила в людской памяти, не терялась, и была, видно, в этом какая-то большая справедливость и благодарность, новым поколениям уже невнятная, лишь перенимаемая как святая обязанность от отца сыном, от матери дочерью.
Но еще тем он известен был за пределами здешней степной округи, что принадлежал не какому-то отдельному лицу, но всему аулу, кочуя из кибитки в кибитку, из дома в дом, занимая в каждом самое почетное место. И право начать торжество по случаю любой в селении свадьбы или в честь рождения нового человека предоставлялось только ему. И исполнялась на нем только одна и та же всегда старинная мелодия – «мукам», после чего бережно надевался на него чехол из грубоватого домотканого блестящего шелка, и другие уже дутары продолжали вести празднество, а он снова занимал свое избранное в жилище место.
Еще помнили стариков, теперь ушедших к предкам, которые насчитали, собравшись как-то вместе, не менее шести долгих гарынов с тех пор, когда простое тутовое дерево превратилось в этот столь уважаемый всеми дутар. Тридцать шесть долгих лет длится гарын, и выходило, что этому инструменту с поблекшим, стертым пальцами перламутром,„которым покрыт был гриф, более двух веков. Глухой тишиной безвременья простояли, в саксаульниках свистели ветра и пески текучие пропели, конским внезапным топотом отгрохотали два столетия, несчетно сменилось бед и радостей людских, лицо земли сменилось – а дутар жил и пел…
Да, то был особенный, признавали все, дутар; и когда исполнялась на нем даже какая-нибудь привычная, ничем не примечательная мелодия (что бывало очень редко), всем начинало казаться, что звучит она уже как-то по-иному, выше и чище, что какой-то простор открывается в ней, глубина, до сих пор не изведанная, будто первозданная ей возвращалась теперь свежесть и чистота. Самым опытным дутаристам вручали всегда этот инструмент; и не так уж редко бывало порой, что очередной какой-нибудь знаток-мукамчи[108]108
Мукамчи – музыкант, песнопевец.
[Закрыть], клоня голову над рокочущим, тоскою времен стонущим дутаром, вдруг с удивлением обнаруживал, понимал про себя, что ничего такого уж особенного в его звучании нет, – инструмент, каких много… Но говорил, значительно кивая, всем: да, сам Ба-ба-Гамбар, покровитель музыки, благословил когда-то, видно, тутовое это дерево – необыкновенный дутар!..
О тутовник родной земли, сколь же глубоки, всепро-низывающи твои корни, сколь проста и высока твоя судьба, сколь неизвестна!..
1В соседней кибитке рождался ребенок. Новый человек рождался с трудом, но еще труднее было его рожать. Старому Годжуку Мергену хотелось, чтобы труд рождения на земле повторялся как можно чаще.
Не выдерживая боли родовых схваток, женщина, стиснув зубы, глухо стонала, тоненько вскрикивала там иногда. Все это слышал он, лишь старенькую под собой кошму отворотив и прижав ухо к земле, – родная земля, словно натянутая струна дутара, соединяла, сокращала все расстояния, между двумя этими кибитками тоже. И лежащий на смертном одре старик знал каждый звук ее, каждое трепетанье, пусть едва уловимое, вздох неслышный каждый, – и, кажется, успел узнать, как тронуть надо или ударить по этой струне, чтобы необходимый вызвать и услышать звук, чтобы понять, что хочет сказать земля. Кажется, что успел… но успел ли?! Во всех туркменских краях известный мукамчи Годжук Мертен всегда сомневался в этом – и всего сильнее сомневался теперь, потому что одну только истину познал он: человек мал и конечен, а музыка мира необъятна. И одно только понять хотел сейчас, напоследок: так ли уж мал человек и бессилен и что значит эта стоящая у его изголовья смерть?..
Ждал, так ждал старый мукамчи младенца, который вот-вот должен был народиться из мучительных стонов этих, из ожиданья притихшей степи, из молчанья гор вековечных, – словно тот мог принести, сказать ему ответ на последний его вопрос… Но еще больше, еще нетерпеливее дряхлого старика ждала нового человека сама земля, потому что ее потребность, надобность в нем, новом душою и телом человеке, была сильнее. И он понимал это: «Потерпи, милая женщина, постарайся. Собери силы свои, все терпенье свое… Ты, именно ты, была, есть и будешь истинной покровительницей этой степи, этой изжаждавшейся, беспризорной, аллахом забытой степи. Ты слаба, мала, измучена на родовом своем ложе, но нет у этой земли покровителя сильнее, чем ты. Ради нее ты должна испытать, вытерпеть, преодолеть все муки свои – чтобы обрадовать ее, ибо новый человек, новая жизнь всегда есть радость ее. Все прошлое этой степи зависело от материнского твоего милосердия и участия, в меру сил своих смягчавшего жестокие времена, от слез твоих, тушивших пожары раздора и смерти. Все нынешнее кормится лепешкой из твоих грубых от работы, нежных от любви рук. Все завтрашнее ждет с трепетом плода любви и мук твоих, терпенья и великодушия. Потерпи, милая женщина, уж постарайся. Соберись с силами…»
В этих вот, всегда чем-то схожих в моленьем словах рождался когда-то главный труд его души – Колыбельная… Сотни, тысячи раз с тех пор слышал на своем веку он, как материнские стоны сменялись слабеньким еще криком новой жизни, на время отменяющим, прекращающим родовые муки, полновластно, несмотря на свою слабость, вторгающимся под своды кибиток, под огромный свод этого сурового прекрасного мира, – чтобы опять и опять повторяться… «Пусть на моем старческом посохе прибавится еще одна метка – только потерпи, милая женщина, еще немного совсем, постарайся. Не бойся же, не робей. Ты ведь из породы тех терпеливых и старательных, какие умели рожать всегда, во всякое время, чуть не в седле идущего верблюда, – настоящих джигитов рожать и прекрасных матерей будущего! Постарайся же…»
Уже три луны состариться успели и омолодиться, как слег Годжук Мерген на это ложе в своей бедной кибитке. Давно облетела весть о том всю степь, много уже знахарей и целителей приезжало, приходило сюда из самых глухих углов ее, но все было напрасно. И старый мукамчи понял, что вряд ли ему теперь суждено подняться, вдеть ногу в стремя и на очередное отправиться празднество, чтобы вместе с дутаром своим встретить еще одну новую жизнь. Да, тот ребенок, рождавшийся в соседней кибитке, будет, похоже, последней зарубкой на его усталом посохе, вот его-то он еще дождется.
Правда, старуха, жена его Айпарча, сейчас хлопотавшая там, возле роженицы, сказала, что месяца полтора назад кто-то встретил неподалеку от аула Черную Нищенку. И та будто бы сказала, что лекарство от недуга мукамчи есть – но лишь самым богатым доступно оно, и не здесь, а в восточном крае, и что она-де займется этим. Но запропала где-то странная эта «женщина в черной накидке», как еще называли ее в степи, никаких известий нет о ней. И уже мало на что надеется он, чувствуя на себе тяжелую руку вседостигающего рока, невозвратимую чувствуя убыль сил.
Но пока не приспело, и о другом думает сейчас Годжук Мерген. Как дехканин, осенью урожай собравший, считает-пересчитывает он метки-зарубки на последнем посохе своем, на «оклавах»-палках в небольшой домотканой торбе, висевшей всегда в левом углу кибитки. И вот, когда за две тысячи перевалило меток, сбился со счету – и стало по-стариковски обидно ему. Нет, он не должен был, не мог, не имел права сбиваться со счету; это были не просто метки, наносимые ножом вековечного кочевника-мукамчи после каждого тоя. За каждой из них была новая человеческая жизнь, оплодотворявшая эти пески и камни, высокий смысл придающая всему неживому и неразумному, и ошибаться было никак нельзя. И он стал считать заново, припоминая, что мог, собирая в обветшалую кибитку памяти людей, каких не забыл еще, события, поездки свои, все великое множество происшедшего с ним, прошедшего перед его глазами. Справедливости ради надо было бы сказать, что меток бы должно быть раза в два побольше счетом, ибо мысль отметить, не забыть появление каждого человека на свет пришла ему всего каких-нибудь двадцать лет назад, хотя вот уже сорок лет без малого как звучит над степью его Колыбельная…
Нет, Годжук Мерген не мог пожаловаться на свою судьбу, на долю славы, ему выпавшей. Он ведь знал, что его доля славы, перешагнувшая даже через горы, у подножия которых расположился аул, преодолевшая барханы и каменистые осыпи на десятки дней пути вокруг, – что слава эта куда больше человека с дутаром, которого все зовут Годжуком Мергеном. Он был один из немногих мукамчи, акынов степи, которые понимали, что все дело вовсе не в них, слабых, подверженных всяческим сомнениям и неурядицам людях, живущих к тому же не своим трудом, не в их каких-то чудодейственных инструментах, а в том, что жило всегда и будет жить после них, страдая и радуясь вместе с обновляющимся вечно родом людским, – в музыке… Другие же, едва научившись перебирать струны, ударять по струнам, щипать струны, большей частью быстро свыкались с уважением к музыке– с уважением, которое они приписывали себе лично, становились важными и снисходительными ко всем, обзаводились красивым конем и одеждой и мнили себя наместниками самого Баба-Гамбара на земле… нет, старый мукамчи мог с достоинством сказать себе, что он не из таких.
И свой единственный и любимый дутар никак не мог назвать он каким-то очень уж особенным. Таких искусных в игре, владеющих такими же дутарами с перламутровым грифом, как он, было много в пространствах, раскинувшихся от Лебаба до Хазара, – поди сосчитай… Но повезло среди них именно ему, а среди всех дутаров – именно этому дутару. Это на них снизошла Колыбельная, родившись где-то в просторах между песками и небом, в аулах и на стойбищах, у священных колодцев, над бегущей весенней водою рек, далеким маревом призывным дрожавшая над оглушенной беспощадным солнцем землей. Снизошла, осенила крыльями своими, новые надежды вселила в сердца людей, не перестававших верить в общее будущее счастье, и в сердцах этих осталась навсегда.
И, может, потому поползли по степи слухи, что дутар Годжука Мергена совсем не такой, мол, как у других, что звучаньем своим сразу же усмиряет он самых безрассудных, размягчает жестокосердых, несчастным тихий свет радости дает и надежду на избавленье, а богатых и счастливых заставляет задуматься над преходящим своим счастьем. Что даже и больных исцеляет он, и дети, над которыми хоть раз спета Колыбельная, здоровыми растут и крепкими. Не иначе как волшебный дутар, говорили, благословенье свыше на нем лежит. И так далее, и пошли слухи, поверх халата надежды многоцветный халат выдумки натянув; и уж если пошла людская молва утверждать что-то, то бесполезно ей перечить, ибо даже бессилье человеческое, облеченное в веру, приобретает силу невиданную.
И что мог сделать с этим Годжук Мерген, и надо ли было что делать? А дутар его был всего лишь навсего последней работой престарелого Сеита-уста, искусного мастера и дальнего родственника из их рода. Десятки таких сделал за свою жизнь Сеит-уста, и многие из них славились своей игрой в окрестностях Карабека и за пределами их, многие до сих пор в чести великой у народа. А свой последний подарил он перед самой кончиной молодому Годжуку Мергену, уже не на шутку увлекшемуся тогда песнями: «Возьми, сынок, этот дутар. Глаза мои потеряли былую зоркость, и уж пальцы не слушаются… и, может, не лучший это из моих дутаров, но он последний и верно послужит тебе, обещаю. Что тебе еще сказать? Старайся не играть без нужды, потому что излишнее веселье не веселит уже, но угнетает. Пусть перед твоим дутаром все будут равны: богатый и бедняк, убогий и сильный, младенец и старик – пусть он поет всем одинаково, как одинаково светит всем солнце. И еще скажу: пусть самым главным праздником для него станет рожденье на свет нового человека… новый человек нужнее всего нашей иссушенной, измученной степи, от которой отвернулся сам аллах! Если оскудеет людьми она, то что тогда ей твои песни? Что надежды?! Ибо людьми сильна земля, ими славилась она всегда. И потому каждый младенец для нее – радость и надежда…»
Таким было наставление многомудрого мастера; и, уже сам обретший немалый опыт, всякое повидавший на своем веку, Годжук Мерген поражался теперь тому, как смог старый уста в столь немногих и простых словах сказать о самом главном в этом непростом мире жизни, и сам не много мог прибавить бы к его словам. Да, меняются времена и люди, кочуют пески, новые русла прокладывают себе реки – но человеческие истины все те же, но завещанное нам нетленно и должно быть бережно передано потомкам по великой цепи человеческих жизней… ибо что ты значишь один, Годжук Мерген?! Что твой мукам без слушателей, что Колыбельная без колыбели? Ничто.








