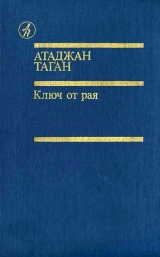
Текст книги "Ключ от рая"
Автор книги: Атаджан Таган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
Седьмой уже год шел тогда, как взял он в жены дочь бедного кочевника, красавицу Айпарчу, – седьмой год их пусть бедняцкой, в трудах и нехватках, но согласной жизни, а они все оставались вдвоем. Все предназначенное для новорожденного так и оставалось лежать в нескольких небольших свертках на дне небольшого чувала, узорами вышитого мешка, из тех, в каких хранились их небогатые пожитки. Напрасны были цветенье ее красоты, молодой избыток его силы. Напрасны были дальние поездки к знахаркам, надежды на их проницательность и помощь: красота одной и сила другого так глубоко запрятали причину их бесплодия, что все познанья известных в степи знахарок были бессильны, и чем больше проходило времени, тем тревожней и безрадостней жили Айпарча и Годжук Мерген, тем больше любили и жалели друг друга. И этого никак не мог понять его старший брат Караул-ага, человек хозяйственный и всеми уважаемый, но с характером грубоватым: «Имея младшего брата, здорового как бык, я не допущу, чтобы некому было завещать даже стен его мазанки! Чтобы род наш ополовинился из-за какой-то там бабы, будь она хоть самой райской девой!.. Что толку в ее лице и стане, если она не может того, что любая паршивая кошка делает по два раза в году?! Ну нет, слуга аллаха сам в состоянии прекратить этот позор!..» Так говорил он год от году, не стесняясь уже и невестки, стараясь всячески уговорить, заставить своего такого послушного всегда скромника брата отпустить бесплодную жену на все четыре стороны и найти себе другую. А подчиняться ему Годжук привык еще с детства, когда рано остались они без родителей и вынуждены были в трудах и лишениях добывать каждую лепешку, каждый глоток айрана. С тех пор и считал себя Караул всегда и во всем, о чем бы ни заходила речь, правым, привык к своей правоте, и его нудным наставлениям не было конца: «С каких это пор внуки честных скотоводов и земледельцев, какими были наши предки, стали отдавать предпочтенье дутару-деревяшке, оставив камчу и мотыгу женам?! Или ты захотел всю жизнь таскаться по чужим пирам за чужим кумысом, появленье чужих детей приветствовать, не имея ничего своего: ни кумыса, ни детей, ни праздников? Или книги, которые ты все читаешь, будут приносить тебе, как овцы, по два ягненка в год?! Что за легкомыслие в твои-то годы?!» Мазанка Годжука и кибитка Караула стояли дверями друг к другу, между ними был общий очаг с общим котлом, и хлеб они пекли из общей муки, – что он мог ответить брату? Караул по-братски хотел ему добра, и тихое упрямство Годжука с каждым годом все больше раздражало, бесило его: «Нет, видно, не выйдет из тебя толку… Только дурак может променять все на пустой, как своя голова, дутар и бесплодную бабу. Не дело честного скотовода быть на посылках у каждого аульного праздника, драть глотку и терзать струны за каждым дастарханом… Не дело земледельца утыкаться в книги, оставив в бурьяне свой клочок земли. В одинокой старости спохватишься ты, но будет поздно!..»
Старший брат любил рассуждать о честном труде, любил и умел работать, но частенько, бывало, и пропадал на несколько дней и ночей, заседлав коня и прихватив старое свое верное ружье… Неспокойно было на обширной и, казалось бы, для всех просторной туркменской земле: роды и племена терзали друг друга набегами, то там, то здесь пепелищами курилась, тлела под пеплом вражда, рознь озлобляла сердца, опустошала стойбища и аулы, И нередко через неделю, месяц ли после очередного возвращения с добычей Караула со своими джигитами следовал ответный ночной набег, глухой топот копыт, крики и выстрелы, смерть, плач… И храбрые и расчетливые в набегах, нередко бегством спасались эти джигиты, в пески врозь уходя или в горы, едва семьи успев захватить, скот и самое ценное из пожитков, – даже для совместного отпора не хватало им единства, даже в аулах царили проклятая рознь и недомыслие…
После одного из своих набегов Караул вошел, ногой открыв их хлипкую дверь, в мазанку, держа в руках новое кремневое ружье.
– Ну вот что, брат, – сказал он решительно и как всегда самоуверенно. – Тебе уж третий десяток идет, пора и мужчиной становиться… Дарю тебе это ружье! Мужчина без оружия – все равно, по-моему, что женщина без волос…
– Да ты знаешь, у меня что-то нет желания быть охотником… Не по мне это, брат, – ответил, удивляясь его прихоти, Годжук.
Караул снисходительно усмехнулся, сейчас наивность младшего брата его забавляла:
– А ночным охотником не хочешь стать?! – И посерьезнел, важность проступила в его лице: – Не время сейчас скакать за джейранами – кровь зовет к отмщению… Отару овец угнали из аула, ты знаешь, – кто отомстит?! Да и жить чем-то надо, чтоб не ложиться спать голодным; дутаром тут не прокормишься. Так что проверь-ка получше сбрую своего коня…
– Отару угнали – так ведь и вы пригнали себе весной чужую… кому же и за что мстить? За одного убитого вы убили двоих – кто виновнее? И кто остановит эту кровь, кто первым остановится? Надо остановиться, брат, не плодить горе на своей земле, не сиротить детей… друг у друга не грабить, тогда, может, всем хватит, каждому помаленьку. Ведь степь велика, хватить должно каждому…
– Щенок! – посуровел, заносчиво глянул Караул. – Наша ненависть к врагу священна, и не тебе, дутарщику, трогать ее…
– Какой же это враг, когда он такой же бедный туркмен, как мы с тобой… Нет, брат, – тихо сказал Годжук, не глядя, – я тебе в этом не помощник. Спасибо тебе за ружье, не смею отказаться… на самом почетном месте повешу его в доме, как дар твой. Но остановиться надо, брат…
– «Остановиться»… В таком случае, братец, заодно повесь на шею себе до конца дней своих и нищенскую торбу! И не тебе учить меня, хотя ты и грамотный!..
Ладно, – сказал он и оглянулся на невестку, – видно, и в самом деле не по верблюду седло. Ружье твое, что хочешь с ним, то и делай… хоть угли им в очаге вороши, мне все равно. Но вот тебе мой совет, упрямец: отдай это ружье в калым и приведи себе младшую жену… За такое ружье ты найдешь себе красавицу не хуже, уж поверь. А ты не дуйся там, – прикрикнул он на Айпарчу, хотя та и глаз не смела поднять на сурового деверя, – сама все должна понимать… Слава аллаху, мы не какие-нибудь там гяуры, чтобы сидеть у пустой колыбели только потому, что баба не делает своего простейшего бабьего дела. Благословен шариат, благословенны младшие жены!..
И самодовольно хохотнул, потому что никогда не упускал случая сорвать досаду на нелюбимой невестке.
– Спасибо за ружье и совет, но в этих стенах хозяин я… – тихо опять сказал Годжук. – И мы не забываем класть свою долю в наш отцовский общий котел. А я подумаю…
Но вовсе не о младшей жене собирался думать и думал Годжук Мерген. Надо было решить их главный с Айпарчой вопрос, и решить так, чтобы не пожалеть потом горько о сделанном… да, чтоб решенье это единственно верным было и оставалось всегда, как бы там ни менялись времена и обстоятельства, сколько бы ума-разума ни прибавил ему потом аллах. Чтоб решенье это оценивать с высоты последующих лет, не раскаиваясь и тоскуя, а наоборот, сделать решенье судьей своим и судьбой, раз и навсегда.
А весь вопрос их в том был, что они так и не знали, по чьей же вине бесплодна и горька их любовь. Мало кому так улыбнулось счастье поначалу, как Годжуку Мер-гену: ему, бедняку и, как все считали, тихоне, досталась в жены не первая попавшаяся девушка, лишь бы калым был поменьше, а любимая, ясноглазая, с верным ласковым сердцем и крепкой рукой кочевницы… Но как ни сильна была, но горька все же стала их любовь, потому что прав был покойный Сеит-уста: как без детей, без радости этой и надежды, в суровой, полной труда и сомнений жизни?.. Со страхом уже думалось о том, что виновником может оказаться он сам. Тогда решенье его, он знал, будет одно: отпустить Айпарчу на волю, на все четыре стороны, с ее-то красотой и молодостью она найдет себе мужа даже и в этом ауле, даже при всех предубеждениях шариата. Она будет любить другого, рожать от другого и, может, станет счастлива, как порой бывают счастливы простые бедные женщины аула… Почти непереносимы ему были мысли об этом, но он знал, что поступит именно так: он не будет, не сможет мучить ее, не станет камнем на ее пути. Женщина должна рожать и любить детей, что ей бесполезная любовь бесплодного мужа…
Но если причина их бездетности не в нем?
Тяжелы были мысли его и тревожны, тяжела была их невольная совместная вина, и одно могло им хоть немного помочь – знать, в чем же причина. И вот на седьмом году их совместной жизни прошел по степи слух, что появилась в их краях какая-то новая знахарка, очень сведущая во всех болезнях, – к ней-то, никого не предупредив, даже Айпарче ничего не сказав, и отправился Годжук.
Через два дня он вернулся, ведя в поводу своего коня; а в седле сидела еще молодая и красивая, очень уверенная в себе женщина, вовсе не похожая на новую жену, все в ауле это поняли сразу, как только увидели ее. И еще в дороге Годжук Мерген попросил ее о главном, над чем успел много подумать: в любом случае сказать жене, что, мол, слава аллаху, все у тебя хорошо, забеременеешь, когда это будет угодно всевышнему… Правду же должны были знать только они вдвоем. Нелегко далось такое решение Годжуку Мергену, но иначе он не мог и не хотел. Знахарка молча и недовольно выслушала его, внимательно глянула еще раз, подумала и с неохотой согласилась – она, по ее словам, всегда старалась говорить людям об их здоровье только правду.
И как же долго тянулось его ожиданье, пока соседи и родственники встречали и угощали гостью, расспрашивали о новостях степи (много людей со своими болезнями приезжают к ней ото всех сторон), советовались, пока наконец не вышли все из мазанки, оставив ее там вдвоем с Айпарчой. Нескончаемо тянулись, как медленные черные степные птицы, мгновения, само небо, кажется, отяжелело, смолкла земля – и лишь плакал, как дитя, где-то на другом конце аула ягненок…
До сих пор он вспоминает, как знахарка, выйдя из их мазанки и улучив мгновенье, вполголоса сказала ему, сказала только одно: «Дорогой мой, если ты и в самом деле так уж хочешь детей, то смени-ка жену, не медли…»
Он не сменил жены – аул сменил. Жить под одной почти крышей с крутонравным братом стало теперь невыносимо, и он бежал от расспросов и попреков, от сожалеющих взглядов аульчан, в глазах которых нес теперь вину, от ненужного ему попечительства – и от своих сомнений тоже. Он все для себя решил тогда, и от решенья этого какое-то большое облегченье почувствовал, словно с души у него сняли многолетний изнурительный груз: Айпарчу он не оставит, и если уж выпало им такое на долю – то пусть оно будет им судьбой… Он не хотел спорить ни со своей судьбой, ни со своей любовью и ни разу потом не пожалел о своем решении. Нет, не пожалел, хотя грусть о своей неполной любви не покидала их всю жизнь.
Так поселились они с Айпарчой навсегда в этих предгорьях, кое-как собрав с помощью людей средства на старенькую шестикрылую кибитку. Так началась новая в те времена для них жизнь, освободившая его, Годжука Мергена, от многого такого, что опутывало душу и пригибало к земле, не давало оглянуться вокруг себя широко и свободно, вольнее вдохнуть в себя горьковатый, полный преданьями и надеждами воздух степи, родины.
3Он возвращался из своего родного аула, где еще оставались у него кое-какие дела, к Айпарче, на новое место их жизни. Дорога была дальняя, не меньше трех дневных переходов, и Годжук Мерген не торопил своего копя – излишняя поспешность не для долгого пути. Приехав по делам, он попал и на празднованье у своих родственников по случаю рожденья ребенка, и тогда-то пригодился дутар, с которым он теперь не расставался, возя его с собой всюду. Милые бессмысленные глаза младенца глядели в самую душу Годжука Мергена; и еще дальше глядели они, туда, где было такое неизвестное для всех людей будущее, и он никак не мог забыть глаз этих, обиженного плача младенческого. «Говорят, что и дети гызылбашей плачут точно так же, как и наши, не отличить. И матери, наверное, так же любят их, и так же радуются отцы… Да, все мы дети одной матери-земли. Но почему же тогда брат враждует с братом, почему распрями полны и степь, и горы, и благодатные речные долины? Как голос меняется с взрослением у детей, так и душа их грубеет, утрачивая что-то чистое, данное человеку изначально, с чем бы жить ему долго и счастливо… Но все-таки это чистое есть в людях, остается. У кого больше, у кого меньше, но есть, а значит, остается и надежда. Ведь живут же порой, могут ведь жить люди, не обижая друг друга, не мешая, каждый своим трудом… И если бы дети наши чуть больше сохранили в себе этого изначального, чистого, чем мы, а за ними и дети детей их, то можно бы спокойно оставить им эту многострадальную землю. Они бы дошли тогда, нашли то, что потеряно нами…»
Ты родился на этой священной земле,
На прекрасной земле, на злосчастной земле…
Младенческие бессмысленные глаза глядели в душу ему и словно ждали, что он скажет им, он, Годжук Мерген, уже испытавший сладость и горечь этого мира, уже отведавший яда сомнений и познавший тепло верной человеческой руки, руки Айпарчи. Смотрели и ждали, и не ответить им было нельзя.
И в предутренней мгле неизвестны пути,
что в грядущие годы придется пройти.
О, явившийся в мир! Может быть, это ты
станешь словом земли, воплощеньем мечты.
До тебя ей пришлось испытать маету,
век от века копить суету и тщету.
Если б вовремя ты не явился на свет,
веткам сада пришлось бы плодить пустоцвет.
До тебя было делом привычным ее
в братских распрях кормить в ковылях воронье.[109]109
Перевод стихов В. Шленского.
[Закрыть]
Преодолевая бархан за барханом, спускаясь в тамарисковые низины, к глубоким колодцам пустыни с холодной спасительной водой на самом их дне, поднимаясь на возвышенности, вела и вела караванная тропа; рокотал и звенел, порою вскрикивал дутар его, маясь невысказанностью своей, и что-то новое рождалось в глухих вздохах и вскриках его, какая-то иная музыка, еще не слышанная в этих бескрайних песках, – да, новая, но вместе и родная, своя, узнаваемая сразу… И Годжук Мертен, дрожь какую-то сдерживая в себе, в непонятной страсти горя, уже торопил ее рожденье, подгонял, боясь теперь, как бы опять не ушла она туда, откуда так внезапно возникла вдруг перед ним, как бы ускользнула от него этой бесконечно тянущейся караванной тропой туда, за горизонт, к миражам пустыни… Уже и пальцы сами, без него, знали будто эту мелодию, такую новую и в то же время родную, и лишь старались теперь настичь ее, не дать раствориться ей снова в песках этих, в небесах, огромно-безмятежных; и сами приходили, брались откуда-то самые нужные слова, и в повторах своих крепла песня, росла, ручейком текла, уже не боящимся, что беспощадное солнце высушит его до дна, остановит:
Вы, рожденные в муках под новой звездой
Средь надежд и печалей пустыни родной, —
Сын, развей недомыслия тяжкую ночь!
Освети эту землю терпением, дочь!..
Да, это был его мукам – тот, который всегда мечтал он сочинить, ибо нет певца без своего мукама, как нет мастерицы-ковровщицы без лучшего своего, особенного ковра. Он успел уже сочинить несколько мукамов, но все они были лишь отзвуком чужих мелодий и слов, распеваемых повсюду, и не давали ему право называть себя высоким словом – «мукамчи», хотя все вокруг давно уже считали его таковым и то и дело приглашали на свои празднества… И вот он, его мукам, – именно его, ему явился, именно в непривычной поначалу, дотоле никем не слышанной мелодии новой, в словах горьких и нужных, и была в них вся его, Годжука Мергена, тоска потаенная и надежда в смутные эти времена, вся печальная любовь его, вся вера… И нужно было успеть удержать его, допеть, воплотить – и только это безраздельно владело им тогда, на той благословенной караванной тропе.
Вы родились на этой прекрасной земле,
На суровой земле, на злосчастной земле.
Только вами надежда людская живет,
В колыбели качаясь, свершения ждет…
И пусть еще неловки были, неполны многие слова, но не это ему важно было тогда. Найдутся потом получше слова, поточнее; каждый «басым» – мгновенное прижатие струн к грифу, каждый новый удар по струнам, «какув», кропотливо переберет он потом по многу раз, добиваясь, как и в словах, слаженности, напевности народной и ясности. Но сейчас важно было дух этой родившейся песни уловить и сохранить, не дать ей расплыться, уйти в ненужные слова, в напрасные звуки…
Твое счастье еще в колыбелях, народ,
Но придет его час – словно солнце взойдет…
Так кричи же, младенец, кричи и зови
Милосердья защиту, опору любви!..
Младенческие глаза глядели в душу ему, и с последним какувом вместо радости ощутил Годжук Мерген вдруг боль какую-то в сердце и грусть, сожаленье великое ко всему живущему на свете, такому кратковременному и беззащитному, – да, боль и с нею нежность, какую в жизни еще не испытывал никогда…
4И непереносимым отчего-то стало ему дорожное одиночество, этот путь наедине с бескрайними под равнодушным небом песками, перевеваемыми ветром, с собою, со своим колыбельным мукамом, который уже просился в нем к людям, на их высший суд, – к жилью захотелось Годжуку Мергену, к людям, к Айпарче, так как без них ничего не значил ни он сам, ни его новый мукам. И весь остаток дороги торопил он уставшего коня, представляя себе, как подъедет он к своей кибитке, как встретит его жена, тоже, должно быть, соскучившаяся за эту долгую неделю… Нет, Годжук не жалел, взяв вину на себя, о своем решении: пусть верит, ждет, ибо так ли уж редко становится надежда второй нашей жизнью?.. Не может он допустить, чтобы она, любимая и любящая, казнилась потом всю жизнь, обвиняя себя во всех грехах, – нет, не для женщины эта суровость правды. Пусть жалеет его, пусть даже охладеет ее сердце к нему, который не может будто дать ей полное женское, материнское счастье, но сказать правду ей он не в силах. И пусть уж лучше, на худой случай, будет выглядеть он упрямым последователем шариата, но и отпустить ее, сделать полной сиротой в этой степи он не сможет тоже, потому что ни с кем все равно не обретет она теперь своего счастья… Тяжело было думать обо всем этом Годжуку, но вместе и определенность была: решение он принял – и надо теперь лишь держаться его…
И у кибитки встретила его Айпарча. Вся посветлевшая лицом, нетерпеливо сияя навстречу своими чистыми глазами, дождалась, когда он слезет с коня, подошла, взяла его огрубевшие в степи руки – и вдруг спрятала в них свое лицо, выдохнула еле слышно:
– Так ждала я тебя, Годжук… Думала, случилось что по дороге. И так боялась за тебя…
И слезы ее горячие почувствовал он на своих ладонях. До сердца его дошли эти слезы, и горячо, хорошо стало от них в груди. Лучшей встречи не мог представить себе Годжук, уж он-то знал цену слез жены своей, прирожденной степнячки.
– Случилось, милая… – улыбнулся он склоненной ее голове, вдыхая полынно-теплый родной запах волос ее, по которому так тосковал в пути. – Но после об этом. Веди в кибитку, хозяйка.
– А у нас гостья, Годжук, – сказала она вполголоса, подняв на него счастливые, промытые слезами глаза, – Из аульных женщин. Но это ничего, она ненадолго.
– Надолго, нет ли – об этом знать хозяину не положено, – пошутил он.
Эта женщина с ребенком появилась на второй день после отъезда мужа – появилась, чтобы познакомиться и поздравить с новым жилищем, с новым очагом, и в том не было ничего странного: чем быстрее сойдешься с аульными жителями, тем лучше. Она была не старше Айпар-чи и красива, только глаза ее успели отчего-то потускнеть и обозначились горькие складочки у губ, словно думала она все время о чем-то скорбном.
После первых приветствий и знакомства Гюльдже-мал – а именно так звали эту женщину – сказала свойственным ей резковатым голосом:
– А твоего мужа зовут ведь Годжуком Мергеном… или я ошиблась?
– Нет, ты не ошиблась, – ответила удивленная Ай-парча. – Но неужели все в ауле уже знают о нас?
– Еще не все. Однако имя Годжука Мергена уже бежит впереди его коня. И было известно здесь и раньше…
– Но почему? Или он сделал что плохое? Но честь рода Мергенов…
– Да нет, сестра, как раз наоборот. Его дутар виновником тому, только и всего.
– О да, – облегченно и радостно согласилась Айпарча, разливая по пиалам чай, – он играет хорошо… он очень хорошо играет, не хуже известных мукамчи. Но знаешь, – в порыве откровенности вдруг сказала она, – как человек он еще лучше, он… он ни на кого не похож…
И, стыдясь уже, замолчала.
– Да? – сказала Гюльджемал тусклым голосом. – Что ж, и это известно в нашем ауле…
– Вот не знала, что мой муж столь известен…
– Слухи, знаешь, быстрее людей. – И как-то по-мужски пристально, заставив Айпарчу опустить глаза, глянула и сказала непонятно: – А ты красива, сестра…
С тех пор в третий раз приходит она, и они уже стали подругами. Смелая, немножко резковатая Гюльджемал нравилась ей, напоминала о кочевьях юности, где женщинам не так уж редко приходится заниматься мужскими делами и где они потому были всегда свободнее и уверенней в себе.
Но совсем не так уверенно чувствовала себя теперь Айпарча. Первая от сообщения знахарки радость ее длилась недолго и тут же сменилась все тем же мучительным вопросом: если не в ней дело, то что ж выходит… в Годжуке, выходит, вся причина?.. Этот вопрос был для Айпарчи ничуть не легче сомнений в себе. Детей не было и по-прежнему могло и не быть, знание причины никак не помогало им; но еще больнее была ее измаявшемуся в надеждах сердцу жалость к мужу, такому сильному и доброму, но беспомощному… К тому же что-то неладное почувствовала она, когда знахарка, сосредоточенно и как-то даже угрюмо осматривавшая, долго мявшая ее, вдруг с радостью объявила ей: «Благодари аллаха, все у тебя хорошо! Забеременеешь, когда будет угодно небу!..» Но еще страннее вел себя муж, очень уж вроде обрадовавшийся этому тоже… Ему ли радоваться так? Ей ли не знать, как радуется или печалится он, не чувствовать каждую заминку в душе его?! И потому сомнения не покидали, никак не могли покинуть ее.
Она полюбила Годжука, уже став его женой, много недель, даже месяцев спустя после «ника» – торжественного обряда их бракосочетания. Выросшая в бедной многодетной семье кочевника, она не могла рассчитывать на что-то другое, как только быть отданной в жены первому попавшемуся жениху, которого она в глаза не видела, знать не знала. И вначале Годжук показался ей странным, будто даже недотепой, и она было посчитала уже замужество свое неудачным и ничего хорошего от судьбы не ждала: очень уж тихим, робковатым представлялся он Айпарче, слишком добрым ко всему вокруг в этой суровой степной жизни, где сила и хваткость ценились людьми выше всего. Он и в самом деле не был похож на мужчин, которых приходилось видеть ей в кочевках, на стойбищах и в аулах, на настоящих джигитов-гордецов, бойких и, сколько им позволялось, властных, с женщинами всегда не то чтобы суровых, но немногословных. Может, потому и отказали ему в первом сватовстве в одной из семей аула, где Караул хотел высватать за брата четырнадцатилетнюю девушку. Поначалу и ее раздражала эта всегдашняя ровность, одинаковая добрая внимательность Годжука ко всему, что бы ни встретил он на своем пути, будь то уважаемый всеми старик или какой-нибудь замызганный мальчишка, породистый конь или последний аульный пес… Честолюбие молодых жен известно, и ей хотелось, чтобы и ее муж был ничем не хуже других или, по крайней мере, не вылезал со своими странностями на люди, пусть бы и с ней был грубоват или даже крут, как бывал крут со своими и чужими его брат Караул. Но Годжук Мерген по-прежнему уважительно заговаривал с каждой женщиной, подающей на дастархан чай, никогда почти не заводил споров, не лез в ссоры и даже, бывало, отмалчивался на явные вызовы, что другой бы мужчина счел для себя позорным… Отмалчивался или говорил: «Что с того, если еще одной ссорой станет больше в мире? Одно рукопожатье сделает его куда богаче, чем десять раздоров…» И с ней ласков был всегда, будто не замечал ее диковатой молчаливости в первое время, а потом и скрытой раздраженности. Только поглядывал иногда внимательно, с доброй своей усмешкой; а однажды, месяца через два после ника, вроде бы неожиданно сказал ей: «Айпарча, мы с тобой делим одно ложе, одну лепешку разламываем на двоих… почему ты с опущенными глазами живешь? Жизнь одна, не надо так тяжело жить… Гляди открыто. – Помолчал, ожидая ответа, и добавил – Уж прости, что я такой, другим быть, наверное, не смогу. А ты у меня вместо сердца стала… Прости». И вышел к ожидавшему его у мазанки оседланному коню. И почти неделю пробыл с братом на стойбище, где был их немногий скот. Как же долго тянулась для Айпарчи эта неделя… Поначалу от слов его сжалась она, считая их только укором; так привыкла сжиматься она, защищаясь от всего непонятного, неприятного ей. Но печаль его при расставании все больше тревожила душу Айпарчи. Ей стало не хватать его тихого голоса, по-детски добродушного смеха (так он смеялся до изнеможения недавно, наблюдая за давнишней враждой соседского барана с псом, – глупо, совсем как у людей, пояснил он ей, молчаливой, вытирая слезы), его понимающих глаз, – кто сказал, что он не мужчина? Он добр, безответен порой, но умен и в своем тихо упорен. Она только теперь вспомнила, как он посмотрел на брата, когда тот в своем очередном раздражении пообещал разбить его дутар об угол мазанки… Да, после того Караул сразу же смолк и много дней потом не заходил к ним, а если и заговаривал, то только уважительно. Она вдруг обнаружила, что люди хоть и посмеиваются немного над ним, но уважают ничуть не меньше других, а когда Годжук Мерген берет в руки подаренный ему покойным родственником дутар, то все почтительно затихают. И особенно уважительны к нему женщины аула, – может, за это и насмешничают над ним мужчины… Совсем одиноко ей стало, и не хватало ей вовсе не отца с матерью, по которым она тоже тосковала, не братишек и сестер, а именно его, Годжука. И стук копыт его коня она услышала издалека, узнала во сне, сердце подсказало, разбудило – он… Да, он вернулся тогда со стойбища глухой ночью, и до зари не могли они уснуть, не могли наговориться наконец…








