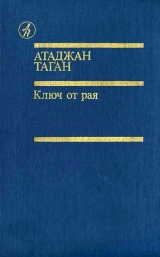
Текст книги "Ключ от рая"
Автор книги: Атаджан Таган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 34 страниц)
Откинув скромный входной коврик, еще с плетью в руке, ступил Годжук Мерген в кибитку и на правом ее месте увидел гостью с ребенком на коленях. Молодуха прикрыла рот яшмаком – платком молчания, легонько поклонилась ему, и что-то знакомое почудилось Годжуку в этом пристальном ее взгляде. Что ж, могло статься, что и встречал он ее где-нибудь, мало ль каких людей он видел за свою, пусть недолгую еще, жизнь… Он кивком ответил ей, а сам уже глядел, улыбаясь, на ребенка:
– Айпарча! Кто-то добрый знак нам подает: уезжал я от младенца – и к младенцу приехал!.. А какой бойкий – настоящий джигит! А как держит голову! Если так пойдет, сохрани его аллах, то скоро уже придется и коня ему покупать. Одно разоренье с таким джигитом!..
Глаза у матери потеплели. Ребенок и в самом деле был бойкий, никак ему не сиделось: то к одному тянулся, то к другому, лепетал и гукал о чем-то своем, – судя по всему, еще и года не исполнилось ему. Радостно было видеть его Годжуку Мергену, куда и усталость дорожная делась. И отчего-то вдруг веселая мысль пришла в голову:
– Слушай, Айпарча!., – И запнулся, не зная все-та-ки, как примет это жена. – Слушай, а не соорудить ли ему сейчас колыбель, а?! Пусть на новом месте новый человек услышит мой новый мукам…
– Новый мукам? – в растерянности замерла Айпарча, хлопотавшая у дастархана. И беспомощно глянула на мужа, потом на свою подругу, до того неожиданно было и непонятно ей это предложение, – Не знаю… не осудят ли нас?
– О аллах… да пусть себе осуждают! Невелика им будет заслуга – осудить невинного… А мать поддержит нас, так ведь?! Как тебя зовут, прекрасная мать?
– Гюльджемал…
– Красивое имя, – на мгновенье задумался Год-жук. – Будто где слышал я его… будто кто-то с этим именем звал меня во сне. Страстное имя… Так что же, – вновь оживился он, – повесим ли мы колыбель? Мой над-колыбельный мукам ждет!..

Подвешивать колыбель в семье, где нет своего младенца, было, конечно же, большой и непонятной странностью… В ожиданье его с верхней части кибитки – туйнука – обычно свешивали платок, на входном коврике прикрепляли небольшой амулет «дога», но чтобы колыбель… Все это привело Айпарчу в смятенье: «Почему он захотел этого? Зачем, для чего трогать ему нашу рану?!. Или не затем покинул он родной аул? Как он все же хочет дитя, как тоскует, хоть и делает веселый вид… и за что нам такая немилость?!»
– Почему бы нет?! – безбоязненно и весело поддержала вдруг его Гюльджемал, уже знавшая об их старой беде. И с почтительной какой-то благодарностью взглянула на хозяина, но тут же опустила глаза. – Айпарча, где твои припасы?..
– Уважаю смелых женщин! Зачем, в самом деле, человеку бояться своего сердца?! Если оно никому не желает зла, зачем ему препятствовать?.. Достань-ка, родная, все, что положено новому человеку, и пусть благословит нас небо!..
И дыханье стеснило Айпарче, когда достала она заветный расшитый чувал… Давно, очень давно все готово было у нее, ждало своего часа и вот дождалось… но разве о таком мечтала она? Разве не тяжело и ему, любимому, все это?! Но она верила ему, верит и сделает все так, как он скажет…
Пока женщины, увлекаясь все больше и освобождаясь от первой скованности, разбирали свертки, он пил домашний чай и наблюдал. Да, все давно и тщательно подготовлено у нее – но, видно, не судьба… Как ни больно было, но он сумел уже смириться с этим, потому что знал правду. А вот Айпарча… Нет, пусть уж лучше надеется. В надежде не так иссыхает сердце человеческое и больше дается сил в этой нелегкой, в сомнениях и бедах, жизни… А вот достала жена салланчакбаг – веревочку с цветными кистями из верблюжьей шерсти, привязываемую к колыбели, чтобы укачивать ребенка. Хорошо, что вынули, это лучше, чем если бы переела ее моль, – веревочку надежды, один конец которой в руке Айпарчи, а другой – у него… Пусть думает, что это он, Годжук, выпустил свой конец салланчакбага. Зато свой новый мукам он так и назовет: «Салланчак-мукам» – колыбельная песня… Да, именно так, и пусть звучит она лишь над колыбелью!..
И вот уже повесили они колыбель и подвязали к ней салланчакбаг; и Годжук Мерген с ободряющей улыбкой сказал им:
– Ну, а теперь положите-ка в люльку хозяина ее… хозяина будущей жизни! Куда удобней будет ему там, как в раю. Если и есть где райская жизнь, так уж это, без сомненья, в колыбели…
И достал свой дутар с перламутровым грифом.
Да, он волновался, собираясь впервые спеть свой новый мукам не наедине с собой… Он знал, что сочинил настоящую песню, а не из ряда обыкновенных, которые всякий умелец-мукамчи в угоду слушателям, любящим разнообразие, складывает по нескольку в год, – хотя, конечно, не мог даже предполагать тогда такой судьбы Колыбельной. Он знал, что мукам конечно же понравится Айпарче, она любит его дутар и песни заезжих мукамчи, разбирается в мелодиях – хотя, кажется, главное для нее в нем, Годжуке Мергене, вовсе не в его мукамах. Он не сомневался, что и незнакомой этой женщине его Сал-ланчак-мукам тоже, скорее всего, придется по душе, так как спет будет впервые над ее дитятею… Он все это знал, но все равно волновался так, что даже пальцы подрагивали, когда стал подстраивать он дутар. Видно, это судьба всех сочинителей – трепетать перед судом первых слушателей своих, перед людьми…
И вот потянулись в мелодии родные до боли просторы, барханами уходящие, утягивающиеся за горизонт. Запел ветер в скрюченных саксаульниках, зазвенела животворная вода в ручьях зеленеющих горных долин, цветущим на склонах миндалем потянуло. И глухая ночь надвинулась, пахнула остывающим жаром камней и песка, суля покой, отдых душе… но тут же вскрикнул дутар, вскинулся, словно конь от выстрела, зарокотали бездорожьем копыта, и будто плач послышался в переполохе и кликах, и тяжелая тревожная тьма стала наползать на все звуки… И пробился человеческий мятущийся голос:
Родились вы на этой священной земле,
На прекрасной земле, на злосчастной земле.
Пел дутар, скорбя и надеясь, вздыхая по несбывшемуся, о будущем тоскуя, – и женщины, слушая необычную эту, будто с ними разговаривающую новым, но чем-то и знакомым языком, музыку, захваченные ею, думали каждая о своем… Да, она заставляла каждого задуматься о своем, но в то же время было это и общим для всех – общим, которое касалось каждого…
И лишь вами надежда людская полна,
К колыбели склоняясь, не дремлет она.
Наше счастье в твоих колыбелях, народ.
Час пробьет, солнце счастья над нами взойдет.
Мелодия текла, волновалась, словно марево на горизонте, все дальше уводя в свои пространства, а все остальное в мире застыло в ожидании, смолкло, превратившись в слух, замерло; и накатывали, все ближе подступали к сердцу Айпарчи звуки – и вот вошли в него, в рану разбереженную, старую… И там, куда вошли звуки эти, забил невидимый, освобожденный ими чистый родник, омывая душу, освобождая и ее тоже от всего житейского, от всей тины жизни, и дрогнула рука, держащая салланчакбаг, и будто сама закачала колыбель.
О дитя ясноглазое, радость и боль
Наших душ, – принеси же надежду с собой.
Все размеренней качалась колыбель, все дальше уводила музыка в степь свою, от берегов Лебаба простершуюся в сторону Хазара, и не было ей конца. И как рука, качающая колыбель эту, тянулась, стремилась не отстать от завораживающего повторами своими дутара, так неведомо откуда возникшая перед взором ее души арвана-верблюдица стремилась, спешила за своим несмышленышем верблюжонком, куда-то все убегающим от нее бескрайними тоскливыми песками… Куда бежишь ты, о несмышленыш, зачем оставляешь мать без дитяти, душу без любви, жизнь без надежды?! Где отыскать ей след твой в лунных песках бессонницы, в томленьях плоти, материнством не убаюканных, во тьме сомнений и утрат? И где приют ей найти в пустоте грядущего – ей, брошенной тобою, навеки в одиночестве оставленной?! Но не слышит белый верблюжонок, далек он, недостижим уже на своих легких, следа не оставляющих ногах, и уже одно марево ответом тоскующей верблюдице, одни миражи выжженной бесплодной пустыни… Одни слезы оставил ей, Айпарче, омывшие лицо, душу, высветлившие слезы не угасшей еще в ней надежды, неутраченной веры, – ибо безнадежность уже не плачет…
6Никто из них не заметил поначалу высокую темную фигуру у входа, никто не знал, сколько простоял этот человек, на вытянутую руку отставив от себя тяжелый страннический посох, слушая тоже. И когда замолк дутар, когда последние его звуки преодолели тесноту кибитки и ушли в простор степи, рассеялись над нею, когда наконец отпустили они от себя слушающих – все глаза обратились на эту притенившую в кибитке свет странную фигуру… Да, это был нищий – «гедай», скитающийся по пустыне, по аулам родной земли, – и кто скажет, только ли в поисках пропитания и крова скитающийся? Только ли ради куска лепешки и кошмы под бок странничают такие, как он, исходившие столько путей-дорог, переступившие такое множество порогов, перевидавшие все на свете?..
Сказав негромкое хриплое «эссаломалейким», странник переступил порог и, подобрав свою висевшую на длинной веревке торбу и посох рядом положив, сел к очагу, хотя никто ему этого еще не предлагал. Это был худой, с темным высохшим лицом и редкой бородой человек в старом, всеми на свете непогодами истрепанном полосатом халате, в низко надвинутом бараньем колпаке, из-под которого проблескивал порой острый и суровый, даже угрюмый взгляд. Неизвестно, сколько было ему лет, какого рода-племени он и какой судьбы. Несколько раз видел его Годжук Мерген во всяких местах, но всегда вдалеке от жилья, темной теныо сквозящего в песках, бредущего по каменистым россыпям предгорий, угрюмо и безмолвно уступающего всем караванную тропу…Нелюбимый и суровый, заходил он, говорят, только в самые бедные жилища, где его встречали всегда с почетом, ночевал, но никто не мог сказать, в какой предрассветный час уходил он, не прощаясь, дальше, – неуследимая тень, темный дух пустыни… И вот сам пришел он; и Годжук Мерген первым встал и поприветствовал почтительно его. Не поднимаясь с места, подал руку свою гедай, и мукам-чи показалось, что не живую, теплую человеческую ладонь, а засохший скрюченный корень пожал он, так была обезображена эта рука.
– Что за мукам ты пел? – вместо приветствия глухо сказал гедай, и пронзительно-пытливый взгляд его вперился в добрые, немного растерянные глаза дутариста, – Впервые слышу его… Откуда привез, где перенял?
– Что мне ответить тебе, почтенный… – Годжук был в большом затруднении: он и не уверился еще, что мукам и в самом деле удался ему, и в то же время, увидев уже слезы женщин, не хотел бахвалиться под этим испытующим, насквозь его видящим взглядом. – Тебя, яшули, побаиваются и малые, и взрослые, тебя обегает зверь в пустыне…
– Не тяни. И не размножай ненужных слухов.
– Этот благой мукам сочинил он сам… – Негромкий, но твердый голос Гюльджемал заставил всех обернуться к ней. – Ему суждено многое, да простит мне аллах жалкое предсказанье мое. Но люди… ох, вряд ли поймут люди!..
– Ты?.. – Суровый гедай с едва заметным удивлением глядел на смущенного вконец мукамчи, не знающего, куда деть руки свои. – Сам?! Что ж, в степи станет одной надеждой больше… А ты, сестра, смела. Не место тебе у семейного очага. Не для доенья верблюдиц, не для замешивания теста твоя смелость. Горечь твоя горше кизяч-ной гари. Но сначала вырасти своего мальца…
Гюльджемал безмолвно склонила голову, и не понять было, то ли согласилась она и благодарила нищего, то ли подавлена была его суровым, ничего хорошего не обещающим пророчеством…
А гедай все смотрел неотрывно на Годжука Мергена, словно делил его, раскладывал для себя на виду: вот это хорошее в нем, стоящее, пригодно тоже и другое, а вот третье… И взгляд его пригасал, терял остроту свою и будто теплел, свое дело сделав. И наконец сказал он:
– Я знаком был с дутаром. Я знаю или слышал все песни туркмен. Всю их тоску. Всю радость, когда есть чему радоваться. Всю тщету души человеческой – вот эта рука не даст мне солгать, потому что она уже налга-лась и получила свое… Это новый мукам, брат. А ты новый мукамчи. И твой дутар нов, но не потому, что недавно сделан; сделал же его, вижу, сам Сеит-уста. Но будь самим собой, брат. Всегда. Это самое ценное, ценнее дутара твоего и мукама. И слова мои за похвалу не принимай. Принимай лишь за правду и никогда не забывай, что у правды всегда две стороны. Одна сторона лишь у истины, но сколько я ни бил ног по тропам, по человеческим порогам, ни одного человека, знающего истину, не встречал и, знаю, не встречу никогда… мал для нее человек и слишком широка поднебесная степь, чтобы отыскать ее. Но, может, когда-нибудь ты и увидишь истину мою: кости мои голые со следами шакальих зубов – неподалеку от вечной моей тропы…
– Истина человека, о яшули, весит больше, чем обглоданные кости его.
– Знаю. Но мне горько. И горечь моя не от несовершенства мира и человека в нем – что толку разваливать мазары, надеясь тем укротить или прогнать смерть? Что толку каяться в своих грехах, половина которых не твоя, а другая половина сотворена тобой же с рвением, какого для доброго дела вот в себе и не сыщешь?.. Мне горька мысль, что я, все имея, все растерял – сам, без помощи своих несовершенств… Это не покаянье – это лишь горечь. Это аллахова слеза невидимая во мне, полынная соль ее.
– Позволь мне возразить, добрый человек… – Год-жук Мерген уже не мог скрывать сострадания своего к нему, сгорбившемуся у очага, тускло глядевшему в его золу. – Нет, это покаяние, яшули. Только неполное оно, недовершенное… да, недовершенное, и потому так тяжело оно…
– Я не добрый. Но ты поэт, и потому ты прав. Как права на белом свете только искренность… – Гедай выпрямился, глянул по-прежнему остро. – Лучше вели меня накормить, я голоден. В этой кибитке хорошие женщины. И жаль, что эта смелая женщина не твоя вторая жена…
Гюльджемал мгновенно покраснела, вспыхнула всем лицом, до слез в глазах, и едва успела прикрыть лицо яшмаком.
– Но почему?! – уже весело и облегченно изумился Годжук, дивясь, куда делась смелость этой женщины. И открыто глянул на Айпарчу, уже насторожившуюся, ободряюще улыбнулся ей. – Почему?
– Не знаю. Но, клянусь теми самыми шакалами, жаль… В мире невидимых тайн гораздо больше, чем тех, которые мы видим и считаем за тайны. Да и никто тебя или жену твою не заставляет верить мне… я болтлив сегодня, и тому виной, может, мукам твой. Почему не вижу детей твоих?
– Об этом не у нас, почтенный, надо спрашивать…
– Вот как?! Что ж, где бы ни бил родник – лишь бы утолить жажду… И ты больше своей боли, а это главное. Одного никак не пойму: откуда такие, как ты? Такая черствая земля – и эти плоды…
– Ай, яшули, вы все время вводите меня в грех… Дутар меня не спрашивал – дутар пел.
– Помни сказанное: у правды две стороны, – сухо проронил гедай, но тут же смягчился, задумчиво повторил: – Откуда?.. Кто учил? Медресе тебя лишь бы испортило, заемный ум ведь как саксаул – крепкий, но не гибкий…
И опять подала голос уже справившаяся со своим непонятным смятением Гюльджемал:
– Алыча цветет даже на скалах, и люди не удивляются тому. Цветы ее питаемы не столько камнем, сколько его добротой… что непонятного тут?!
Она тайком, но со жгучим каким-то интересом всматривалась в этого странного, так непохожего на других нищих человека, о котором ходили уже легенды, – будто что-то в нем надо было понять ей, удостовериться в своих мыслях тайных… И быстро потупилась, когда гедай обернулся к ней.
– Ох, женщина… – сокрушенно проговорил он и, кажется, еще больше потемнел лицом; и ничего больше не сказал ей, обратился к Годжуку: – И как ты назвал свою песню?
– Салланчак-мукам, яшули… так, думаю, будет лучше всего. И петь буду его только у колыбелей.
– Колыбельная… Да, в этом есть смысл. Что ж, младенец в колыбели: спой еще раз ему, полей водою этот росточек… А люди поймут. Не заумный же муэдзин сочинил ее и спел. Не в садах же ханских она зацвела. Простыми руками вырыт колодец этот, но вода… Вода одинакова для всех и нужна всем. Для всех.
7Властитель соседней провинции, ее пастбищ и горных урочищ, колодцев и рек, караванных троп, отар и аулов, ее иссохшей земли, горячего днем и душного ночью воздуха и даже, казалось, и самих тусклых звезд, – Рахими-хан вот уже несколько дней знал, что Годжук Мертен слег и что нынешнее ложе для мукамчи, похоже, станет последним. И это известье, в чем-то обрадовав, занимало его теперь не на шутку, возродив, можно сказать, и воодушевив в нем одну довольно-таки давнюю, почти заветную мысль. Даже в лучшую пору своей жизни, в юности, их было не много у него, заветных желаний; а сейчас и вовсе свелись они все к одному, давно вынашиваемому в бессонных от дневной лени и развлечений ночах, – сменить этот свой порядком уже надоевший ханский сад на шахский… Но тому было всегда слишком много препятствий, и поэтому извечная эта, у каждого хана про запас, мечта вынуждена была пока довольствоваться малым, сохраняемая в тайне даже от самых приближенных к ханскому порогу людей. Не жирного плова, не мягчайших хорасанских ковров, не сладких наложниц и жен хотела, жаждала душа Рахими-хана – всего этого хватало и в нынешнем его, вовсе не бедственном положении. Его ханство, размерами своими ничем не выделявшееся из прочих, было тем не менее самым богатым, его нукеры самыми верными и сплоченными, а ближайший соратник и советник, иноплеменник Багтыяр-бег самым, пожалуй, умным и деятельным из всех советников, к тому же самым преданным, ибо еще никому из провинциальных ханов, кроме Рахими, не пришла в голову столь мудрая мысль: приблизить, сделать вторым человеком в ханстве безродного иноплеменника, который даже и помыслить не может о ханском бунчуке, о власти, жизнь и благополучие которого целиком зависят лишь от благополучия его высокого покровителя… Это он, Рахими-хан, в свое время мудро последовал совету Багтыяра не хвататься при каждом случае за плеть, но править этими дикими туркменами без очень уж больших для них утеснений, следя лишь за неуклонным порядком во взимании дани и гася разорительные для всех межродовые распри и набеги, – и что ж?! Пастбища провинции полны скота, на небольших, но многочисленных полях зреет очередной немалый урожай, подданные смирны, нукеры сыты, одеты и вооружены не хуже иного бека и потому готовы на все, а в казне, слава аллаху, хватает и на себя, и на шаха, и на благосклонность его визирей. Уже который год стекаются в его провинцию, под его властную, умеющую сохранять полезный всем порядок руку скотоводы и земледельцы из близких и далеких, полуразоренных своими беспощадными правителями ханств, потому что, наверное, даже глупая овца и та разбирается, сколь умелые руки ее стригут…
Да, ханство его цветет, на зависть соседям богатеет год от года, набивая ему сундуки и чувалы данью, и по богатству, по силе некого даже рядом поставить с ним из этих безмозглых обирал и грабителей… но что твоя сила, что богатства твои, Рахими-хан, под ненадежным кровом шахского капризно-изменчивого расположения, перед завистью и жестокостью человеческой?! Уже нет былого того расположения, со всех сторон нашептывают шаху всякое про тебя, ложью и коварством пытаясь свалить то, что было возведено умом и терпеньем твоим, и если бы не подкупленный давно тобой первый визирь, то где и кем бы ты был теперь? Еще все держится богатыми подношениями твоими и унижениями, но уже недолго осталось держаться – не опоздай… Шах завистлив и коварен, окружен такими же и не потерпит рядом равного, слишком уж сильного, и потому иного пути у тебя нет. Да и не для того ты родился, не на то дана тебе твоя мудрость, чтобы сидеть в этой, пусть и богатой, провинции до скончания дней. Ты в силах сделать из этого сброда полузависимых, раздираемых глупыми распрями ханств настоящее государство, богатое и сильное, послушное твоей руке… торопись, не опоздай! Свежа рана, огнем еще горит, ни днем ни ночью не дает покоя, не забывается оскорбление, какого не приводилось еще слышать с тех пор, как мать родила тебя на белый свет… Сказанные вроде в полушутку, слова шаха были полны ядом недоверия и вместе с тем неумной спесью: «Чем ты, Рахими, думаешь – головой или задом?..» И это говорит тупица, окруженный льстецами и ворами, погрязший в награбленной роскоши, в стране которого царят разброд и беззаконие, казнокрадство и распад… Говорит в присутствии ничтожеств, которые мизинца твоего не стоят и способны только, как шакалы, подбирать, догрызать оставленное им…
Но и не спеши. Пути к власти гибельны подчас, и в этом Багтыяр, молчаливо знающий твои мысли, тоже прав. Так он сказал однажды, будто ненароком, когда ты повелел ему понемногу и втайне ото всех собирать оружие, заодно строить под запасы зерна новые закрома. Сказал будто бы по другому поводу, но с тех пор вы заодно и в мыслях, и в делах. И никогда он не перебежит, не предаст ради недолгого возвышения при шахском дворе, прекрасно зная непостоянство правителя и коварство своры шакалов и гиен вокруг него. Только на свой ум и на тебя вся надежда у Багтыяра, и только на него да на своих нукеров, пока они сыты и одеты, можешь положиться и ты..
Но мало нукеров для задуманного. Конечно, Рахими-хан в состоянии содержать и вдесятеро больше воинов-джигитов – если бы о том не знал шах… Нет, очень уж заметно увеличивать войско нельзя, да и не успеешь ты собрать его, как на тебя будут спущены, будто свора голодных грязных псов, все твои мстительные и завистливые соседи… И не сговориться с ними, уж очень ненадежны, продадут, глупцы, и не смогут взять даже хорошей цены за тебя.
Опереться было не на кого, и оставалось только одно: поднять на столицу этих туркмен… Дело опасное, все равно как если бы сжигать пришедшую в негодность постройку рядом с домом, но других выходов он уже не находил. Главное – перетянуть их на свою сторону, натравить сначала хотя бы на один из шахских отрядов, в поисках легкой добычи рыскающих по стране… дань навалить новую – на каждый кетмень, на каждый куст верблюжьей колючки, на последнюю псину охотничью – и свалить это на шаха, пусть ропщут, бунтуют! А он, Рахими-хан, сумеет на время устраниться, не мешать им. Он даже раздачу зерна и скота им устроит поначалу, потом и жаловаться начнет ко двору на свое бессилие, просить на помощь, выманивать из столицы лучшие отряды– пусть высылают их, обрадованных, предвкушающих грабежи… В пустыне – не на высоких стенах столицы, здесь он, когда придет время, сумеет поодиночке и быстро расправиться с ними, перебить, перекупить ли. Самое главное – твердой рукой и вовремя взнуздать, оседлать народный гнев и направить его, клокочущий, на шахские стены. И тогда ты узнаешь, шах, чем думает твой нижайший подданный Рахими-хан…
Да, стремительна туркменская конница, в том он успел убедиться, и не так уж далека столица: он отметил это, когда еще только сажали его сюда на ханство. Но как оседлать, чем приручить хотя бы на время эту дикую, выпущенную на волю силу?! Нет, настала пора наконец прервать их общее с Багтыяром молчанье…








