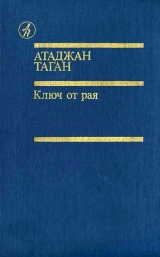
Текст книги "Ключ от рая"
Автор книги: Атаджан Таган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 34 страниц)
Войско персов благополучно добралось до развалин Порсугала. Блоквил, ехавший с транспортом, думал уже, что все в порядке, спасены. Но, поравнявшись с кладбищем Сейитнасыр, внезапно почувствовал: «Сейчас что-то произойдет». И в тот же момент слева, из густых зарослей камыша вылетели туркменские всадники. Блоквил, как и другие, повернул коня вправо и увидел, что справа по песчаному мысу, полумесяцем охватывающему пастбище, уже приближается к ним второй отряд, замыкая персов в кольцо. Те было назад повернули, но и сзади, словно из-под земли, выросли главные силы туркмен, сам Каушут-хан их вел. Шелковое алое знамя хана развевалось на ветру. Солнце только-только всходило, и красный шелк знамени отбрасывал вокруг отблески. Хотя бой еще не начался, многие нукеры попытались бежать, не вступая в схватку. Мингбаши ругались, хлестали их нагайками, поворачивая лицом к туркменам. А мингбаши из Шах-Севента – правая рука принца после смерти Кара-сертипа – рубил паникеров безжалостно саблей. Кое-как удалось повернуть войска к туркменам лицом. И все же бой не получился. С такой яростью врубились всадники-туркмены в ряды персов, с такой страстью, смерть презрев, рубили врагов своих, что попятились от них нукеры. И принц, бросив знамя, лишь с ближайшим окружением прорвал кольцо туркмен и, нахлестывая коней, уходил в сторону границы. Брошенное знамя с золотым львом тут же было порублено туркменскими саблями, втоптано в грязь копытами их коней, чистокровных ахалтекинцев.
После этого можно было считать, что сражение закончено. Правда, пятясь, нукеры еще кое-как отбивались, но было ясно, что они обречены. Позади них было солончаковое болото. Блоквил отступал вместе со всеми, принц о нем и не вспомнил, и было видно, что на сей раз не выпутаться бедному французу. Блоквил судорожно думал, что придется, как видно, объяснять, что он не перс, что он здесь совсем с другою, мирной целью, ни одного туркмена не убил, наоборот… Но уже скакал на него страшный туркмен, весело скаля белые зубы, и со скрежетом рванул саблю из ножен. Блоквил что-то закричал, погнал коня куда-то, пистолет пробовал выхватить, но конь его, через арык перелетая, споткнулся, и Блоквил, через голову коня перелетев, ткнулся головой в соленую болотистую хлябь. «Потону еще!» – отчаянно подумал он. Но тут сильная рука выдернула его из болота. Почти не сопротивляясь, он дал связать себя: «А-а, пусть будет, чему быть суждено…»
Еще гонялись за отдельными персами по густым тугаям, ловили, вязали, собирали пленников в группы. Большинство же сдавалось без сопротивления, бросали в кучу ружья, сабли и сами подставляли под веревку руки.
Блоквил со связанными руками сидел на лошади позади коренастого туркмена, ехали среди унылых холмов. Блоквил оглядывался на юг, где остался Тегеран, французское посольство, гербовая бумага. Далеко-далеко на юге, где сливались небо и земля, образуя четкую волнистую линию, теперь оставалось его прошлое. Впереди был бескрайний простор. Что ждет его? «Может, это последний день в моей жизни», – думал пленник. От спины, за которой покачивался Блоквил, исходил какой-то мирный запах овечьей шерсти, сухого песка, пыльной колючки. «Но я же не сделал им ничего плохого, – думал Блоквил, – за что же меня убивать? Наоборот, я пожалел бедную Огульджерен, я помог бежать шестерым туркменам…»
Повсюду гнали пленных, в основном пеших, таких, как Блоквил, на коне, пока не встречалось. И это выделение его из общей массы несколько подбодрило француза. Они обогнали группу человек в двадцать, которую гнали два старика. И еще группу – ее гнали мальчик и старик. «Не те ли?» – встрепенулся Блоквил, вспомнив несчастного чабана и маленького Иламана с большими ножницами в руках. Таким его запомнил Блоквил, идущим от колодца. А потом его крик… Да нет, похожи, а не те. И опять поник Блоквил, объятый тяжелою смутою на сердце. Что толку, если б и были те несчастные? Кто был для них Блоквил, кто он для всех туркмен? Завоеватель! Пусть внешне непохож он на перса, но он ведь вместе с ними пришел, незваный, на туркменскую землю! Разве ж кто звал его сюда? Разве ж нет у него на боку пистолета? Нет, нет – он враг для них, и любое возмездие будет справедливо.
По-видимому, то же думали и большинство пленников, все были понуры, разговаривали между собой шепотом, старались не поднимать глаз от земли. Победители же, наоборот, были оживленны, громкоголосы. Но Блоквил видел, как много ранено туркмен в этом последнем сражении, повязки их еще кровоточили, им было больно, хотя они и смеялись. Видел он и мертвых туркмен, которых несли мимо него люди с лицами скорбными и сухими, как эта выжженная пустыня. И опять вспоминал юную Огульджерен, вспоминал сотни других таких же, поруганных, растоптанных завоевателями. Нет, нет, смерть будет справедливой карой за все, что принесли с собой персы. И француз Блоквил вместе с ними. Так он решил, заглянув в свою душу, восстановив в себе эти три последних месяца на чужой земле. И ужаснулся. Затрепетало сердце, как у зайца, спина покрылась холодным потом, и тут же жгучая пронзила мысль: «А ведь и они – все те, кого сейчас проносят мимо на носилках, – наверняка испытывали перед смертью тот же ужас, что и я». То был даже не страх, а какое-то животное, гнетущее унижение, – вот так погибнуть в расцвете сил, превратиться в тлен, когда еще бы жить да жить. «Пресвятая дева Мария! – стал он тихонько шептать, – Ведь я же ехал сюда совсем о другими целями, ты же знаешь, хотел мастерскую… совсем маленькую… розы выращивать хотел…» И он тихонько всхлипнул, покатилась слеза…
На огромной площади в Мары, куда согнали всех пленников, стали делить их на небольшие группы человек по двадцать, по тридцать и распределять по аулам. Так легче было прокормить их до больших торгов, которые раньше чем через месяц-полтора не соберутся. Да и безопаснее разбить их на небольшие группы, хлопот меньше.
Блоквил почти ничего не понимал по-туркменски, но с интересом наблюдал за всем, что происходило вокруг. В поте лица трудились почтенные аксакалы, которым народ доверил такое важное дело – раздел пленников по аулам и племенам. Старик делитель выкликал кого-нибудь из племени сарыков, теке или салоров или какого-то другого, принимавшего участие в войне, и выделял строго определенное количество пленников. Дележ дело серьезное. Ведь это не только будущие деньги за продажу пленников на рабском рынке, а значит, пусть временное, благополучие в дальнейшей жизни, это ведь еще и признание всенародное заслуг твоего племени в кровопролитной битве с врагами, это признание твоих личных заслуг, твоего мужества, твоей любви к многострадальной Туркмении.

Поэтому все с таким напряженным вниманием следили за дележом пленных персов. А тому, кто делил, выпала нелегкая задача. Надо было быстро прикинуть, сколько то или иное племя взяло в плен врагов, сколько порубило их в боях, сколько своих братьев потеряло, сколько вдов, сирот теперь осталось там, в синих песках, в глиняных кибитках, за дырявою кошмой. Так что белобородый аксакал, облеченный столь высоким доверием народа, трудился действительно в поте лица. И делил, по-видимому, справедливо: во всяком случае Блоквил, оказавшись поблизости, особого недовольства не увидел. Были, конечно, мелкие стычки, азартные споры; получая выделенных пленников, представитель племени придирчиво оглядывал их, сравнивал с соседней группой, порой ему казалось, что у него похуже, – более худы, угрюмы, слабосильны, у соседнего племени не в пример лучше. Словом, шум, крики, споры не прекращались целый день. Не обошлось, конечно, и без комического, уж так, видно, устроена жизнь – где слезы, там и смех. То два пленника сцепились, стали драться: один у другого, оказывается, украл несколько мелких монет. Когда ж их со смехом разняли, выяснилось, что хозяин монет сам их отнял у бедного туркмена в одном ауле.
Тут на площади появилась странная пара: низкорослый, тщедушный туркмен вел на веревке за собой огромного перса. Конечно, пленников в основном делили по справедливости выборные – уважаемые всеми люди. Но были и такие, как этот маленький туркмен, что где-то сами ухватили пленного и вот так тащили, как барана, на веревке. Если б не такая разница в росте и силе, пожалуй, никто в этот суматошный день и внимания не обратил бы. А тут еще маленький туркмен вдруг закричал тонким голоском:
– Люди! Пусть каждый забирает себе того раба, которого он сам поймал! Мне, например, никого не нужно, кроме этого, – и маленький туркмен, сильно дернув за веревку, чуть сдвинул с места великана перса, – если ж я и продам его когда-то, то возьму за него цену пяти рабов, не меньше! А если уж заставлю работать, то он за десятерых у меня будет пахать! Пусть каждый заберет себе своего раба, о люди!
Услышав эти слова, старик делитель засмеялся. Улыбнулся и Блоквил. Хотя ему не до улыбок было. Он узнал высокого пленника – тот был среди телохранителей принца – и пожалел его, ведь судьбы их теперь похожи были: плен, рабский рынок, неизвестность… А улыбнулся оттого, что вот такой огромный, такой черноусый перс вынужден теперь подчиняться туркмену, который едва до пояса ему достает.
– Скажи, сынок, – обратился старик делитель к маленькому туркмену, – ты сам поймал этого гиганта или вы ловили всем аулом?
– Яшули! – в благородном негодовании воздел к небу руки маленький туркмен. – Обижаешь, обижаешь меня! Да что такое для меня один перс?! Хотя бы и этот! – и он снова резко дернул за веревку. – Да я двадцать нечестивцев голов лишил… вот этой самой саблей, а разве сосчитаешь тех, кого я, за ноги подцепив, сбросил с седел в пыль и потом затоптал своим конем?! А еще пятерых– лично сам я, как этого, в плен взял, да ничуть не меньше ростом, чем этот, а может быть, даже и… – он оглянулся на пленника, прищурился оценивающе, – а может быть, даже будут и побольше этого!
– И где ж они? – кто-то крикнул из толпы.
– Где? Сынок, я подарил их таким же, как ты, которые в жизни не видели ничего, кроме Горячего чурека. Где ж им поймать хотя бы одного перса! Ведь говорят: со свадьбы хотя бы горстку поиметь! Теперь хотят – пусть продадут, не захотят – работать пусть заставят. Я-то своего заставлю! – и словно в подтверждение серьезности своих слов он помахал плеточкой, маленькою, как и сам он, перед лицом огромного пленника. – Быстрее иди, тебе говорят!
Но тот неожиданно уперся, побагровел, усы зашевелились, засверкали глаза, и он – ни с места! Напрасно Тянул его изо всех сил маленький туркмен. Вокруг раздался смех. И маленький туркмен тогда хлестнул плеточкой перса по плечу и грозно крикнул: «Ну!» Но пленник тут рванулся, лопнула веревка, и огромные ручищи потянулись к маленькому туркмену. Хвастунишка тут же юркнул в толпу, над ним смеялись от души. А пленник, глядя ему вслед, со вздохом сказал: «Меня не ты взял в плен, а плач твоих детей!» – и, потирая затекшие руки, не спеша направился к ближайшей группе таких же пленных, как и он.
Увидев, что опасность миновала, маленький туркмен выбрался из толпы и, словно ничего не случилось, стал расхаживать степенно, заложив руки за спину, Тут увидел он Блоквила.
– Ба! – обрадовался он тому, что можно опять потешить честной народ. – Это еще что за птица? Вроде б не перс.
– Это тоже из тех, кого ты пленил! – засмеялись из толпы.
– Эх, брат, – притворно вздохнул маленький туркмен, – на таких облезлых да тощих, как борзая, я б и не польстился, пальцем бы не шевельнул, чтоб в плен их брать.
– Ну, конечно, – из толпы кричали, – ты ведь в плен берешь только таких силачей, как этот, который только что порвал твои веревки!
– Да просто веревки гнилые были, – сказал маленький туркмен, приближаясь к Блоквилу и старательно разглядывая его сверху донизу.
Французу он не понравился – было в нем что-то и трусливое, и жестокое одновременно. По-видимому, как большинство низкорослых людей, был он очень обидчив. Когда пленник порвал веревки, так перепугал, так унизил его, сердце до сих пор клокотало от обиды. Хотя он и улыбался. И лишь багровые пятна на щеках выдавали это. И вот, прищурившись, теперь смотрел он на француза, прикидывая, как же все-таки и толпу повеселить, и за обиду расквитаться. Все это понимал и Блоквил и ожидал какой-нибудь неприятности. Но маленький туркмен пока еще и сам не знал, что бы ему такое придумать, и просто для начала взял и вылупил глаза, скривил губы и высокомерно сморщил маленький нос. И в таком виде прошелся на носочках перед французом. Тот, чтобы не рассмеяться, отвернулся. Тогда маленький туркмен вплотную подошел, подбоченился и снизу вверх стал разглядывать высокого пленника. Блоквил, задравши голову, уставился в прозрачное небо – только б не смотреть на маленького смешного человечка перед ним. А тот вдруг указательным пальцем ткнул снизу в подбородок французу. Словно решил помочь задраться голове еще повыше. Но палец, сорвавшись, задел больно нос, царапнув ноздрю. В носу резко защипало, слезы брызнули из глаз, и, потеряв самообладание, Блоквил пнул маленького туркмена в живот. Тот сразу упал, закричал пронзительно, засучил в воздухе ножками. Ну, а дальше ничего не помнит Блоквил: чем-то тяжелым ударили сзади, и он повалился ничком, не забыв прикрыть лицо. Он тут же потерял сознание от ударов, но не совсем, а чувствовал, но как бы издали, и даже отмечал, когда били палками, когда плетью, а когда просто ногами. И еще – все время ждал: когда же это кончится.
Тут надо заметить, что действия, и верные, и неверные, к которым свелся этот жестокий эпизод, в затуманенном сознании француза каким-то непостижимым образом осветили всю эту военную экспедицию, вернее, авантюру, в которой он так легкомысленно принял участие, мечтая разбогатеть. Собственное его участие было таким же верным и неверным, как этот страшный эпизод, и степень собственной вины теперь все больше прояснялась. Через эти побои, которые надо терпеть. И вот, пока били, было больно, очень больно. Но было и отрадно за то, что эта боль как искупление и что от этих жестоких побоев вина постепенно проходит и вот уже почти совсем прошла… так долго бьют они его… Вот уже и терпеть сил больше нет, еще один удар палкой – и не выдержит позвоночник или случится еще что-то более ужасное. А тут как раз и остановились. Блоквил точно помнит: именно в то мгновение, когда он готов был закричать: «Хватит, пожалейте, люди ж вы все-таки!» Тут перестали бить, и он действительно потерял сознание.
Когда же пришел в себя, застонал, пробуя пошевелиться, чуть приоткрыл глаза и увидел вечер, поредевшие ряды пленников. Солнце садилось, спала озабоченная суета вокруг, только Блоквил как лежал на площади в пыли, так и лежит. Губы распухли, кровь запеклась, Блоквил прохрипел: «Аб!»[103]103
Аб – воды (перс.).
[Закрыть]. Никто не ответил ему, то не было жестокостью – он понимал, – вечер был тих, и у людей на площади лица были хоть и озабоченные, но, в общем-то, умиротворенные, и это ласковое равнодушие мира поразило больше всего. И горько стало оттого, что это равнодушие было созвучным его собственному равнодушию, – все справедливо. Но он избит до полусмерти, от жажды умирает: «Аб!»
Тут кувшин с холодной водой коснулся губ его, он пил, пил и никак не мог напиться, никак не мог затушить пожар внутри. Что может быть слаще воды! Какое счастье сравнится с этим, когда умираешь от жажды. Пустыня сказала: «А» – и впереди еще был целый алфавит.
Увидев, что француз очнулся, старик с кувшином, не вставая с корточек, крикнул:
– Эй, Бердымурад! Забирай его!
– Какой Бердымурад? – спросили старика.
– Бердымурад из Гонурлы, есть он тут?
Подошел молодой туркмен.
– Бердымурада из Гонурлы нет, яшули, но есть я – его младший брат – Эемурад Гонурлы.
– Ну что ж, если ты брат, забирай его, да смотри не продай за бесценок, говорят, он все науки одолел, теперь вроде муллы. Мулла Перенгли. Разбогатеешь, когда продашь.
– Я знаю, яшули, что это мулла Перенгли, но лучше бы ты дал нам какого-нибудь необразованного перса, на этом, видно, не очень-то разбогатеешь, я и до аула его не довезу, еле дышит.
– Бери что дают! – сказал старик делитель. – А довезти– довезешь, это он с виду хлипок, смотри, как били, а он хоть бы что! Довезешь.
Эемурад Гонурлы с сомнением покачал головой, но с яшули не будешь же спорить.
Усадив Блоквила в седло, Эемурад увидел, что привязывать не надо, может сам в седле держаться, – это уже хорошо. Вид у француза был страшный: губы раздулись, посинели, глаз затек, почернел, кровь запеклась, смешалась с пылью, покрывала голову коростой. С другой стороны– сам виноват. Ты ж в плену! А поднял на победителя руку. Даже не руку, а ногу! Да тебя ж убить за это мало! И все же… подавая поводья, Эемурад вздохнул и, пряча глаза, подумал: «Отделали здорово!»
Выехали из Мары. В село Гонур кроме Блоквила гнали группу человек в двадцать. Мимо нее проезжая, Блок-вил крикнул:
– Интересно, почему нас всех разводят маленькими группами в разные стороны?
– Как почему, – отвечали ему, – не хотят, чтоб мы были вместе, хлопот меньше.
«Ясно, – подумал Блоквил, – не такие уж они и дураки, как говорил Кара-сертип». И вот уже нет больше Кара-сертипа, где-то принц Хамза-Мирза, жив ли, а если жив, ждет его встреча с шахом, Блоквил не завидовал принцу.
Безразлично и скучно выгибая тюленьи спины, тянулись во все стороны барханы, ветер срывал с них песок, катил верблюжью колючку. Блоквил ехал навстречу своей судьбе и все удивлялся: «Неужели ради этих бессмысленных песков огромное войско два месяца шло сюда из Персии проливать свою и чужую кровь?!»
Дом Эемурада был самым крайним в селе Гонур, к вечеру доехали. Теперь по крайней мере руки должны ему развязать, все ж необычный он пленник. Его одного везли на лошади. Позднее он узнал, что туркменам было известно и про бумагу, хранящуюся в Тегеране, в посольстве! Руки ему действительно развязали, но лишь для того, чтобы связать ноги. Так что радоваться было нечему.
Как только спешились, стали сходиться люди, чтоб посмотреть на «удивительного желтоволосого пленника», которого привез молодой Эемурад. И вскоре вокруг француза уже стояли многие аксакалы. С молчаливым достоинством, опираясь на посох, взирали они на него. На их каменных лицах нельзя было ничего разобрать. Наоборот, женщины, стоящие чуть поодаль, по-детски ахали, жестикулировали, тыкали пальцем в его сторону. Подростки презрительно фыркали, озорные мальчишки норовили ткнуть в него веткой саксаула или бросить куском сухого кизяка. Старшие отгоняли их. А в общем-то полсела сбежалось: галдели, удивлялись, всем было весело. Кроме него. Блоквил думал: «Я похож сейчас на обезьяну в клетке, ну, а туркмены – на людей, которые ни разу в жизни не видели живой обезьяны, – он вспомнил своих парижских друзей. – Интересно, что бы они сейчас сказали, увидев все это?!»
Тут, оседлав палку, прискакал худой старик, три длинных волоска были у него вместо бороды, а глаза горели, как угли. «Сумасшедший!» – догадался Блоквил. Это действительно был Сары-сумасшедший. Кто с суеверным ужасом, кто просто так – на всякий случай – все шарахнулись в сторону от Сары-сумасшедшего. Блоквил не мог и шагу сделать, остался стоять. Сумасшедший же, подскакав, совсем близко притормозил своего деревянного коня и с жаркой пристальностью стал вглядываться в его лицо. Хотелось зажмуриться, но, помня эпизод в Мары, Блоквил старался отвечать спокойным взглядом. И все ж не удержался, отшатнулся – вместо пояса у сумасшедшего болталась, дважды обвив его, живая змея. Совсем близко видел Блоквил полураскрытую пасть змеи, неуловимо быстрые, какие-то струящиеся движения тонкого языка. Как медленно она дышала, не мигая, как и Сары-сумасшедший, не спуская глаз с Блоквила. И что у них за мысли были на уме при этом – бог весть. «Будь что будет!»– решил Блоквил, готовясь на всякий случай к худшему.
Но тут как раз из дома напротив, покашливая, вышел пожилой туркмен в накинутом на плечи новом тулупе. Это был высокий, плотный здоровяк, с окладистой бородой и высоким лбом. Небрежно накинутый на плечи дорогой тулуп подчеркивал юношескую стройность фигуры, хотя лет шестьдесят – шестьдесят пять наверняка ему было. Глаза смотрели умно, чуть насмешливо. Услышав покашливание, сумасшедший радостно «подскакал» на своем коне к старику, а Блоквил перевел дух. Старик же змеи не испугался, сам протянул сумасшедшему обе руки и что-то негромко сказал ему. Невероятное напряжение отразилось на бледном лице сумасшедшего, и, кажется, за самый хвостик сумел поймать он какую-то мысль, внушенную негромким голосом красавца старика, во всяком случае вдруг радостно засмеялся и куда-то ускакал.
Тогда люди окружили поближе француза. Один за пистолетом его потянулся, другого заинтересовала курительная трубка, третий уже откручивал блестящую пуговицу. Старик, пожав плечами, подошел к ним, и толпа посторонилась. Это был Мухамедовез-пальван – двоюродный дядя братьев Бердымурада и Эемурада. Не хан и не бай, но за справедливость, за мудрость его уважали здесь почти все. Взглянув на Блоквила вскользь, с подчеркнутым равнодушием, мол, видел я таких немало, и в Мекке, и в Медине, он молча забрал у молодого парня трубку француза и отдал хозяину. Блоквил, принимая трубку, учтиво склонил голову, но это прошло незамеченным, во всяком случае на суровом красивом лице Мухамедовез-пальвана ничего не отразилось. Он глянул на другого парня, в руках которого был пистолет француза, и, усмехнувшись, произнес: «Такому джигиту сабля более к лицу, чем эта красивая игрушка!» Но пистолет не тронул.
– Пальван-ага! – тогда плачущим голосом сказал тот, у которого отобрали трубку. – Конечно, что можно взять с такого бедняка, как я! Даже трубки я недостоин!
Старик, не отвечая, долгим взглядом посмотрел на парня, и тот замолчал. Тогда Мухамедовез-пальван, ни на кого в отдельности не глядя, спросил:
– Что? Никогда людей не видели?
– Таких – нет! – выкрикнул кто-то из толпы, но суровый старик решительно сделал шаг в ту сторону, откуда выкрикнули, и толпа попятилась.
А потом один налево стал уходить, другой направо. У кого-то общее дело отыскалось, вдвоем, втроем заспешили прочь, и вскоре возле француза остались лишь Мухамедовез-пальван да парень с пистолетом, все еще не уверенный – насовсем ли у него остался пистолет.
– Я не враг вам! – горячо заговорил Блоквил, обращаясь к Мухамедовез-пальвану. – Снимите с меня веревки, отдайте пистолет, он дорог мне как память, я ведь не враг!
Мухамедовез-пальван не знал персидского языка, и переводил этот парень с пистолетом, недавно вернувшийся из плена.
– Ну что ж, – подумав некоторое время, так отвечал Мухамедовез-пальван, – в твоих словах правда. Но мы ведь не приглашали тебя на наше богатство, ты сам пришел, в руках у тебя этот пистолет, ты пришел вместе с персами! – лицо его вдруг стало темнеть, словно кто-то душил его.
Тут на улицу выехали со стороны Мары три всадника, средний из них поперек седла придерживал тело, завернутое в кошму. И сразу в том доме, куда подъехали скорбные всадники, раздался детский крик и женский вой. Такой же слышался и в доме напротив, и в конце улицы, и еще где-то… и еще… Француз был слишком занят своими переживаниями, а теперь вот слышал, понимал, что это такое, и ему становилось страшно…
Всех пленников разделили на небольшие группы, человек по пять, по десять и содержали в загонах, сделанных из кустов дерезы, что-то вроде скотного двора. Тех же, кто был помоложе, поздоровее и мог отважиться на побег, поместили в корпечах для ягнят и на ночь выставляли стражу. Кормили плохо, лишь бы с голоду не умереть. И дело не столько в экономии, а был тут и расчет– обессиленный от голода далеко не убежит.
Для француза вырыли отдельную яму, стерегли день и ночь, мало того, в яму вбили железный кол, к которому привязывали на ночь. Правда, ему единственному из пленных был выдан тюфяк, набитый соломой, да и кормили получше. И все же он предпочел бы общую участь, вместе со всеми в загонах или корпечах. Днем в яме было душно, солнце в полдень припекало, приходилось через каждый час перетаскивать соломенный тюфяк, на котором в основном и проводил он тоскливые дни.
А дни шли за днями. Пока это караваны купцов из Хивы и Бухары, извещенные о дешевой продаже рабов, доберутся до Мары! И так же медленно тянулись в яме дни за днями. Уже с утра, пока прохладно, Блоквил начинал расхаживать как маятник – два шага туда, два обратно. Часто наверх поглядывал, где-то поблизости охранник, старик с шемхалом, может, хоть из любопытства заглянет в яму. Но виден был лишь квадрат неба, иссиня-черного с утра или белесого в полдень. Когда уставал, то садился на тюфяк, вытягивал ноги и прислонялся спиной к осыпающейся стене. Прикрыв глаза, вспоминал учебу в университете, жизнь после учебы в Латинском квартале, Сену, по набережной которой любил бродить смутными июньскими ночами. Потом покинул шумный от студентов квартал, переехал на улицу Нотр-Дам-де-Лорет, снял квартирку напротив маленького галантерейного магазинчика. Подружился с хозяином магазина господином Лантэном, частенько по вечерам ходили вместе пить абсент в соседнее кафе. У Лантэна была дочь Тереза. Они полюбили друг друга, недалеко была уже и свадьба. Но Тереза умерла во время эпидемии холеры в 1849 году, и Блоквил, чтобы как-то забыться, много путешествовал, объездил почти всю Европу. Потом решил открыть собственную мастерскую по изготовлению артезианских насосов, нужны были деньги. И тут подвернулся случай: всего лишь за полгода он может обзавестись необходимой суммой. Так он оказался здесь, на чужой земле.
Уже не казалось ему сидение в яме таким утомительным, проснувшись, он сразу начинал вспоминать. Начать можно было с чего угодно: с фасада Нотр-Дам, например… Все теперь казалось таким далеким, неправдоподобно привлекательным. Каждый день той жизни был драгоценным камушком, перебирать их было сплошным удовольствием… Почти каждое воскресенье, едва рассветало, Блоквил – заядлый рыболов – с удочками и жестяной коробкой выходил из дома и садился на поезд, следующий до Аржантейля… Он выходил в Коломбе и шел потом пешком до островка Марант, где и удил своих пескарей. И не было до вечера человека счастливее его… Или вспоминал, как ездил на каникулы к дяде в Жюмьеж. Легкий экипаж вез его сначала по лугам, потом лошадь, замедляя шаг, взбиралась на косогор Кантеле. С косогора великолепный вид: слева – Руан, город церквей, готических колоколен, справа – Сен-Севэр, фабричное предместье, сотни дымящих труб. А внизу красавица Сена, извилистая, усеянная островами, справа белые утесы, над которыми темнеет серый лес, слева – безбрежные дали лугов, дымчатая полоска леса на горизонте. На реке большие и малые суда: шхуны, бриги, колесные пароходики, в Гавр плывут или, наоборот, из Гавра, маленький, похожий на утюг, буксир, распустив стружкообразные усы волн, с натугой тянет огромную баржу…
Однажды утром, едва проснувшись, он тут же хотел было закрыть глаза и пуститься в воспоминания, но спускавшийся сверху паук привлек его внимание – не каракурт ли? В яме у него была палка, которой давил он скорпионов и фаланг. Каракурт же пока не встречался, и это был не каракурт – простой серенький паучок. Блоквил зачем-то посчитал, сколько у него ног, оказалось восемь. «Всю жизнь думал, что шесть, – удивился он, – а у него их, оказывается, восемь». Глаза вблизи из черных в изумрудные превратились, в серой окраске сиреневый оттенок появился, а ножки пятиступенчатыми оказались. Мало того, заканчивались микроскопическими саблевидными коготками! Но это увидел Блоквил, почти вплотную разглядывая парящего в воздухе утреннего пришельца. Пара усиков торчала спереди, они были загнуты, как салазки, и не шевелились. Блоквил подставил руку, чтобы паучок в нее опустился. Наверное, приятно будет подержать такое маленькое, такое легонькое создание природы в огрубевшей ладони. Но только он поднес к нему руку, как паучок стремительно взмыл по невидимой нити и исчез. Блоквил опечалился. Попробовал было Париж вспоминать, но ничего не получилось, игра надоела, камушки выскальзывали из рук, все больше наверх поглядывал, куда исчез паучок.
В этот день паучок так больше и не появился. Небо тихо темнело, какими-то сочными, однако ж не смешивающимися друг с другом полосами. И эта исхлестанность неба при окружающей тишине, умиротворенности даже поразила его. День был уже на исходе. Еще один день вычеркнут из жизни, наступал безымянный час, скоро принесут ему немудреный ужин, и вслед за этим – сразу ночь. Чернота, пробитая миллиардами сверкающих гвоздиков. И словно на самом дне величественного водоема лежит Блоквил на своем соломенном тюфяке. Вот сорвалась одна звезда… Еще один день канул в Лету, еще на один день теперь ближе к концу… Под этим тихо исполосованным небом все большей тоской наполнялась его душа, даже прошлая жизнь не звала так яростно, как прежде, прошлый дух умирал. Но медленно рождалась какая-то истина. При последних отсветах тихого вечера Блоквил попытался рассмотреть собственное отображение в донышке жестяной тарелки.
Тут он увидел, как напротив, из норы по-видимому, из угла вышли две земляные лягушки. Он стал тихонько наблюдать за тем, как они охотятся в сумерках на мух и комаров. Это занятие доставило ему удовольствие.
На следующий вечер лягушки снова пришли. И еще, и еще… Он уже не боялся тихих вечеров, наоборот – их ждал. Ждал, когда появится неразлучная пара лягушек. Днем он ловил для них мух, которых было вокруг в избытке, а вечером подбрасывал лягушкам. И вот что выяснилось: стоило мухе притихнуть и лежать неподвижно, лягушка не могла ее обнаружить, хотя бы она и была совсем рядом. «Видно, глаз ее устроен не так, как у нас, – догадался Блоквил, – видит лишь движущийся предмет». Он вытянул из тюфяка соломинку и осторожно стал двигать неподвижную муху – тотчас длинным стремительным языком лягушка подхватила муху, и та исчезла, как и не бывало. Это обрадовало Блоквила, его догадка подтвердилась, он радостно подумал, что природа, в сущности, ведь совсем открыто и вблизи нас распределяет все, что может сделать нас лучше или счастливее.
И с этого вечера он начал пристально вглядываться во все, что его теперь окружало. Не обязательно ждать вечера, когда можно будет покормить лягушек, ставших почти ручными. Не обязательно, подставив руку, ждать долгое время осторожного паучка с изумрудными глазами. Всмотрись в мир около тебя – и ты увидишь многообразие, пугающее с непривычки. Вот высохшие корни какой-то бурной прошлой жизни, вот гнилушка – свет ее по ночам холоден, напоминает взгляд осьминога, вот просто песок, но зачерпни и поднеси к глазам: двух одинаковых песчинок не отыщешь! Даже если просто лежать и глядеть часами в небо, сколь невообразимы формы плывущих облаков, сколь совершенны и стремительны линии, по которым проносятся птицы над тобой…








