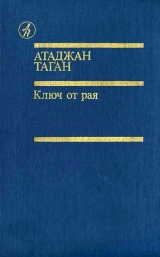
Текст книги "Ключ от рая"
Автор книги: Атаджан Таган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)
Наконец он пришел в себя, вынул из-за пазухи богатого дона два гулача[86]86
Гулач – расстояние протянутых рук.
[Закрыть] шелковой ткани и повязал ее вокруг пояса хана. В ту же минуту молодой джигит, держа в поводу лошадь с белоснежным бараном, подъехал к хану и остановился перед ним. Быстро отвязал и сбросил барана на землю. Парню не доводилось раньше видеть так близко великого хана. Сделав свое дело, он опустил голову, не смея взглянуть на высокого гостя. Потом, собрав все свое мужество, громко сказал:
– Хан-ага, саламалейкум!
Вместо ответа Мядемин слегка улыбнулся, кивнул головой. Это была первая улыбка Мядемина за последние шесть дней.
Ходжам Шукур выдернул из-за пояса нож и протянул его хану.
– Хан-ага, – сказал он, – если вы собственной рукой прирежете овцу, это будет большой милостью для нас.
Мядемин несколько удивился, но, подумав, что имеет дело с обычаем туркмен, принял нож.
Нет, это не было обычаем туркмен, это была выдумка Ходжама Шукура, которому очень хотелось угодить хану. Мядемин наклонился над связанным бараном и острым ножом перехватил горло.
– Вот так, не мучая, режут скотину только добрые люди! – угодливо воскликнул Ходжам Шукур, глядя на вздрагивающего в предсмертных судорогах белоснежного барана.
Юноша снова поднял в седло еще не остывшую тушу и помчался в аул.
В Карабуруне, когда въехали туда хан и его свита, Ходжам Шукур приказал дать несколько ружейных залпов. Люди выстроились в два ряда по всей улице, разглядывая Мядемина, красовавшегося на богато убранном коне. Ребятишки, не понимавшие, что за птица этот хан и зачем он пожаловал к ним в аул, горланили свою песенку, которую они часто распевали во время своих забав:
Ходжам Шукур – наш хан,
Степная трава – наш хлеб.
Если высохнет трава,
Что же мы будем есть.
Ходжам Шукур, вне себя от радости, не прислушивался к песенке детворы и не понимал, что поют они о нем самом.
Когда подъезжали к белой кибитке, поставленной в стороне от других кибиток, откуда-то взялась пятнистая собака и бросилась облаивать восседавшего на разукрашенном коне Мядемина. Она не знала, что нельзя лаять на великого хана, но ее привлекло исключительное великолепие одежды Мядемина и ослепительно сверкавшая сбруя ханской лошади. Она не прекратила отчаянного лая и после того, как всадники спешились перед белой кибиткой. Ходжам Шукур помог хану слезть с лошади, потом взял у одного из нукеров черное ружье и выстрелил в неразумного пса. Пуля вошла между глаз, собака с визгом отпрянула назад, чтобы вовремя удрать, но было поздно, смерть настигла ее. Мядемин оглянулся от дверей кибитки, посмотрел на вытянувшегося мертвого пса и с деланной улыбкой спросил:
– Это тоже обычай вашего народа?
Ходжам Шукур, возвращая ружье хозяину, мужественно ответил:
– Да, хан-ага, в нашем народе так поступают с собаками, которые лают на тех, на кого не имеют права лаять.
Мядемин остался доволен ответом и на этот раз улыбнулся от души.
Вода еще не успела прогреться, к тому же с севера дул холодный ветер. Келхан Кепеле вошел в реку, засучив штаны до колен, не успел простоять и минуты, как ему уже захотелось выскочить на берег. Но он посмотрел по сторонам, где женщины и девушки наполняли кувшины, не боясь холодной воды, и застыдился.
– Лови! – крикнул он Курбану, стоявшему на берегу с верблюдом. Келхан Кепеле бросил кувшин и стал набирать воду в бурдюк. Вода набиралась медленно, булькая в узком горлышке. А тем временем кувшин, брошенный Курбану, не долетев, снова скатился с песчаной насыпи прямо к ногам своего хозяина.
Схватив кувшин, Келхан сверкнул глазами в сторону Курбана, а тот, улыбнувшись, крикнул:
– Снова бросай, Келхан-ага!
– Ну и что будет, если ты поймать не можешь?! – Все-таки раскачал кувшин и сделал более сильный бросок. Сосуд пролетел над головой Курбана, угодил в боковую стенку деревянного седла и раскололся на две части. От неожиданного удара верблюд вскрикнул и с укоризной посмотрел на Келхана.
Курбан смотрел то на две эти половинки кувшина, то на Келхана Кепеле.
– Зачем же так бросать? – наконец сказал он.
– Что-то сегодня никак не могу тебе угодить, брат. Тихо бросаю – ты не ловишь, сильно бросаю – опять не можешь поймать. Что же мне остается делать?
– Ладно, Келхан-ага, подумаешь, кувшин раскололи!
– Ты прав, стоит ли расстраиваться из-за черепка. – Келхан Кепеле поднял полный бурдюк и вынес его на берег.
Подошли девушки с кувшинами за спиной. Среди них была и Каркара.
– Что, Келхан-ага, разбили кувшин? – спросила одна из девушек вместо приветствия.
Келхан, волочивший к верблюду бурдюк, ответил:
– Если кувшин разбился, значит, он хочет стать новым. – Потом расправил спину, пожаловался на боль в пояснице и прибавил: – Приходит срок, и человек умирает, дорогая.
– Что, Каушут-хан и вас заставил воду носить? – спросил Курбан у девушек.
Каркара на людях все еще стеснялась Курбана, но тут подняла на него глаза и ответила за всех:
– Нет, Курбан, Каушут-ага не посылал нас, но дело такое, что и мы не можем сидеть дома сложа руки.
– Даст бог, и ваша помощь сгодится нам, – сказал Келхан Кепеле. – Если Мядемин пришел посмотреть на слезы наших детей, мы сами заставим его плакать. Даст бог, свернем ему шею.
– Мядемин воевать пришел, Келхан-ага?
– Нет, сестренки, он пришел мира просить, – пошутил Курбан. – Просто он давно не виделся с Келханом-ага, прибыл поздороваться.
Келхан прислонил бурдюк к верблюду, которого Курбан усадил на песок, подул на захолодевшие пальцы.
– Конечно, – сказал он, – не со мной повидаться пришел Мядемин и не с миром пришел, зачем бы тогда Каушут-хан велел в один день притащить тысячу бурдюков воды.
На запад одна за другой проходили отары овец.
Келхан Кепеле слушал блеяние овец, гортанные крики чабанов, смотрел на легкую пыль, поднимавшуюся над отарами.
Каркара спросила:
– Келхан-ага, куда их гонят?
– Скот перегоняют в Каррыбент.
– Зачем, Келхан-ага?
– Если не перегнать овец, от них останутся рожки да ножки, когда придет Мядемин.
– А далеко этот Каррыбент?
– Каррыбент – это Теджен.
Услыхав про Теджен, Каркара вспомнила отца, погрустнела.
– Если хорошо пойдут, завтра будут на месте, – проговорил Келхан Кепеле.
Вдоль речного берега торопливой рысцой ехал всадник. Келхан узнал в нем Сахит-хана.
– Далеко путь держишь, хан? – спросил он, когда всадник поравнялся.
– Каушут-хан послал к гаджарам.
Келхан Кепеле понял все без дальнейших расспросов. Сахит-хан ехал в Иран с письмом Каушута, в котором он просил помощи от шаха, потому что Мядемин уже был на подступах к Серахсу.
– Вчера и в Ахал отправились гонцы, – сказала Каркара.
Келхан Кепеле тяжело вздохнул и начал грузить на верблюда бурдюки с водой.
– Да, – сказал он, – надо собирать своих людей в одно место.
По тропинке, ведущей от реки к крепости, ни на минуту не прекращалось движение. В крепость шли лошади, верблюды, ишаки, нагруженные бурдюками с водой, от крепости к реке спешили другие с пустыми бурдюками. Каушут-хан считал, что схватка с Мядемином может растянуться на целый месяц, и на этот срок он решил запастись водой. Еще вчера он велел гонцам, разосланным по аулам, передать приказ о сборе людей в крепости сегодня, до послеобеденного намаза. С самого утра со всех сторон стекались люди, вокруг крепости образовался еще до полудня большой лагерь. Каушут-хан, надвинув на затылок плоскую папаху, ходил по краю старой траншеи, которую углубляли прибывшие люди. Кел-хана Кепеле он встретил улыбкой.
– Скажи, Келхан, – спросил он, подходя к верблюду, – с двумя бурдюками воды можешь прожить месяц?
Люди повернули головы в сторону Келхана. Вид у него был довольно смешной. Несмотря на холодный день, чекмень свой Келхан перекинул через плечо, косоворотка его была расстегнута и обнажала голую грудь. Засученные до колен штаны он тоже забыл опустить.
– Ай, хан-ага, – ответил он из-под верблюжьей головы, – я и с одним бурдюком проживу месяц, могу и совсем не пить.
Из траншеи кто-то выкрикнул писклявым голосом:
– Да ты просто верблюд, Келхан! Молодец!
– А ты что, не знал, – весело отозвался Келхан, – Келхан давно уже инер!
Люди дружно рассмеялись. Сегодня им нужна была шутка, и они весело смеялись и шутили, словно ожидал их не тяжелый бой, а веселый праздник.
– Хан-ага, – окликнул Каушута из траншеи какой-то парень, – мы дошли уже до воды, можно брать ее и в траншее.
– Слава аллаху! – воскликнул хан и, опершись руками о край траншеи, спрыгнул на дно. – Дай-ка, сынок, лопату.
Каушут привычно вскапывал и отбрасывал глину, прошел шагов десять – двенадцать, оставляя за собой канавку с жидкой зеленоватой грязью, потом распрямился и воткнул лопату. Ичиг его левой ноги до самой бахромы ушел в зеленоватую жижу. Каушут удивленно огляделся вокруг. Ребята молча последовали его примеру, дружно взялись за лопаты. И работа вскоре была закончена.
Довольный хан вылез из траншеи, стряхнул с себя глину и направился к воротам крепости. У самого входа его нагнал всадник, резко остановил загнанную лошадь.
– В чем дело, джигит?
Взмыленная лошадь раздувала ноздри, юноша также не мог отдышаться, словно все время бежал вместе с лошадью.
– Хан-ага, Мядемин идет. Как овцы идут, пыль стоит. Видно, до заката солнца у нас будут.
Хан молча кивнул головой и вошел в крепость. На глаза ему попался подросток.
– Ты что тут бездельничаешь? – строго спросил хан.
Опустив голову, паренек робко ответил:
– Мы бурдюки прислоняли, больше делать нечего.
– Если нечего делать, тогда седлай коня и к реке, всех в крепость, немедленно.

Мальчишка мигом вскочил на чью-то уже заседланную лошадь и вихрем вылетел из ворот. Каушут-хан подошел к группе людей, укрывавших неглубокие ямы, корпечи[87]87
Корпечи – яма, где держат новорожденных ягнят.
[Закрыть]. Вырытые со скосом в сторону, эти корпечи теперь предназначались уже не новорожденным ягнятам, а новорожденным детям. Дно корпечи было выстлано ветками и поверху накрыто кошмой. Убежище теплое и удобное для маленьких детей, вчера еще в таких ямах держали неокрепших ягнят.
– Как дела продвигаются, сердар? – обратился Каушут-хан к Тач-гоку, который руководил подготовкой корпечи.
– Последнюю накрываем, хан.
Каушут поблагодарил сердара, он был доволен, что работа везде ладилась и уже подходила к концу.
Посередине крепостного двора Непес-мулла раздавал ребятам оружие, привезенное из Ахала.
Хан посмотрел на ребят, разбиравших оружие, ответил на их приветствие и, чтобы подбодрить всех, сказал:
– Если аллах на нашей стороне, мулла, то, бог даст, мы быстро накроем голову Мядемина его серой палаткой.
Непес-мулла, занятый серьезным делом, не ответил хану на его слова.
Четырнадцатого марта тысяча восемьсот пятьдесят пятого года, после полудня, войска Мядемина подошли к Серахсу. Не успев остановиться, хан заметил, как закрылись ворота Серахской крепости. Он повернул голову к Мухамеду Якубу Мятеру, показал на закрывшуюся крепость и надменно усмехнулся. Мухамед Якуб Мятер безошибочно понял значение ханской усмешки и ответил ему той же усмешкой. Мядемин снова посмотрел в глаза своему военачальнику.
– Как может комар, – сказал он, – защититься от конского копыта, Мятер?
Военачальник значительно промолчал. Но Мядемин не удовлетворился молчанием Мятера и снова обратился к нему:
– Или ты считаешь, что умный конь не унизится, чтобы лягать комара?
Мятер подумал, что дальше отмалчиваться уже неприлично и опасно. Два вопроса хана, а его усмешка и взгляд означали и третий вопрос, дальше оставлять без ответа было рискованно, хан может понять как неуважение к своей персоне и разгневаться. По мнению Мядемина, малочисленное туркменское войско было не сильнее комара, конем же, разумеется, он считал себя. Его усмешка, когда они подъезжали к крепости, означала то, что, если бы туркмены вместо ворот из дерева и колючей дерезы поставили бы железные, все равно смешно было думать, чтобы они смогли устоять перед Мядемином. Но для чего тогда Мядемин взял с собой двадцать пушек и назначил командовать артиллерией своего тезку, сотника Мухамедэмина!
Для туркмен, никогда не видевших пушек, достаточно будет холостого выстрела или чтобы снаряд упал в стороне от крепости, чтобы эти жалкие пастухи потеряли головы. И тогда их безмозглые вожаки – Каушут-хан и Сейитмухамед-ишан – сами своими руками откроют ворота.
Догадываясь о подобных размышлениях Мядемина, Мятер обдумывал ответ, чтобы угодить хану. И он сказал:
– Если комар жалит, конь должен раздавить его, хан-ага.
Мядемину понравился ответ Мятера, и он решил продолжить приятный для него разговор.
– Но разве от комариного укуса может подохнуть конь? – спросил хан.
– Даже от змеиного укуса, если не суждено, человек не умирает, хан-ага. Но мусульманину отпускаются все грехи, если он хотя бы в семь лет убьет одну змею.
– Гм-гм, – промычал Мядемин, показывая этим, что он доволен.
…Согласно намеченному плану войско Мядемина должно расположиться с южной стороны крепости, на восточном берегу реки Теджен. Для этого были свои причины. Мядемин решил таким образом преградить путь гаджарам, к которым конечно же должны были обратиться за помощью текинцы. Но еще до перехода иранских войск через горы Мядемин намеревался встретить их и посеять среди гаджар панику.
Военачальники Мядемина полагали, что, как только они станут лагерем на юге Серахса, должны будут произвести небольшой налет на крепость, чтобы запугать текинцев, лишить их покоя. Но пока подтягивались отставшие части огромного войска, стало вечереть. Мядемин подумал, что для налета будет слишком поздний час и что сначала надо посоветоваться со своими помощниками. После вечернего намаза он решил пораньше лечь спать, чтобы как следует отдохнуть перед делом.
Назавтра хан весь день провел на охоте. Промаявшись, он сумел застрелить всего лишь двух красных петухов.
Бой был назначен на вторник, и люди, окружавшие хана, немало этому удивились, потому что знали: вторник был самым нелюбимым днем суеверного Мядемина. В этот день хан даже по надобности ходил с большой неохотой, все ему чудилось что-то по вторникам. И то, что он назначил бой на вторник, свидетельствовало о его непоколебимой вере в свои силы.
После утреннего намаза Мядемин дал распоряжение Довлетяр-аталыку и Абануру Ниязмахрему отправиться с двумя тысячами воинов в горы, пробыть там до тех пор, пока не покажутся иранцы, перехватить их и разгромить на месте. Чтобы войска Насреддина не прошли незамеченными, двухтысячный отряд Мядемина тремя группами расположился в окрестностях Акдербента, Маз-дурана и Кизыл-Кая.
Мядемин надеялся взять Серахс, не вступая в бой с его защитниками. Поэтому в первый вечер он не стал обстреливать крепость, а лег спокойно спать, а следующий день провел в погоне за двумя несчастными петухами. Текинцы должны были через амбразуры стен увидеть направленные на них жерла черных орудий и, естественно, прийти в ужас. К тому же несколько тысяч текинцев, запершись в крепости, не смогут продержаться и трех-четырех дней. Несколько колодцев, которые могут оказаться в крепости, будут вычерпаны в течение одних, от силы двух суток. Народ же, у которого кончится вода, вопреки воле Каушут-хана сам выйдет из крепости и встанет на колени перед Мядемином. Но вот прошло два дня. Черные дула пушек угрожающе смотрели в сторону крепости, однако ворота не открывались. И вообще было похоже, что там, за стенами, не было ни одного человека.
Проводив Довлетяр-аталыка и Абанура Ниязмахре-ма, Мядемин удалился в свою палатку и долго из нее не появлялся. Халназар Бахадур, Мухамедэмин-юзбаши, Бекмурад-теке, Мухамед Якуб Мятер, Хорезм Казы и еще несколько приближенных Мядемина стояли перед входом в палатку, ждали хана. Среди них был и Ходжам Шукур, примкнувший к Мядемину со своими четырьмястами воинами. Он жаждал мести, с нетерпением ждал минуты, когда увидит голову Каушута, вывешенную на воротах крепости.
Наконец из палатки вышел в полном боевом снаряжении Мядемин. Вид у него был внушительный, даже устрашающий. Все склонили головы в низком поклоне. То ли от хорошего расположения духа, то ли оттого, что хотел размять спину, хан тоже сложил на груди руки и низко поклонился. При этом его доспехи, набранные из металлических монет, издали звон.
Выпрямившись, Мядемин положил левую руку на рукоять сабли, стал отдавать распоряжения. Первое касалось его палатки. Ее необходимо было перенести на другое место. На какое, хан не сказал.
Мухамед Якуб Мятер, осмотревшись по сторонам и поразмыслив, определил новое место.
В окрестностях Серахса было несколько холмов, все они имели названия. Аламан-гепе, Аджигам-тепе, Куй-руклы-тепе, Херик-тепе, Яглы-тепе и так далее. С каждого из них хорошо просматривалась местность. Военачальник и советник хана Мятер выбрал Аджигам-тепе. На этой возвышенности Мядемин оказывался в самом центре своих войск, к тому нее Аджигам-тепе имел самую большую площадку, где можно было разместить наибольшее количество вооруженных людей. А это отвечало самому главному условию – как зеницу ока хранить жизнь хана.
Не дождавшись от текинцев добровольной сдачи крепости, около одиннадцати часов утра хан двинул вперед пушки. Перед пушкарями ехал конный отряд в пятьсот сабель. Сам Мядемин в боевом одеянии, на разряженном коне, со свитой, ехал вслед за пушкарями.
На расстоянии полета ядра пушки остановились, идущие впереди конники отвернули вправо. К ним присоединилась и конная группа Мядемина, хан и его свита остановились в ожидании интересного зрелища.
Пушкари, знавшие о том, что за ними наблюдает сам хан, делали свое дело быстро и старательно. Вскоре сотник Мухамедэмин, командовавший артиллерией, направился к хану доложить о готовности открыть огонь. Мядемин поднял руку, жестом остановил приближавшегося Мухамедэмина. Он не торопился, смотрел в сторону крепости, как будто все время ждал чего-то.
Никто не смел спросить хана, почему он медлит с приказом.
И вдруг на крепостной стене появился человек. Мядемин не удержался, воскликнул:
– Видите, как действуют на них пушки!
Все стали ждать, что человек закричит со стены: «Не стреляйте, Каушут-хан хочет говорить с вами!»
Однако ничего подобного человек не сказал, а спрыгнул со стены, потом спустился в траншею, окружавшую крепость, и долго не показывался. Хан и свита ждали.
Когда наконец текинец стал выбираться из траншеи, на стене появился новый. Но он не спустился со стены, как первый, а, опершись о что-то, – видно, в руках его было ружье, – спокойно смотрел в сторону врага.
– Что бы это значило? – спросил Мядемин.
Ему не успели ответить, потому что человек, выбравшийся из траншеи, весь вымазанный в глине, бросился бежать навстречу пушкам. В ту же минуту человек на стене поднял ружье, прицелился и выстрелил. Беглец упал лицом вниз, как скошенный.
Человек с ружьем исчез за крепостной стеной.
Стрелявший по беглецу был Тач-гок сердар. Беглецом был Кичи-кел.
Мядемин мстительно сощурил глаза и тихо, будто самому себе, сказал:
– Если до выстрелов из пушек свалился только один из вас, после выстрелов вы свалитесь все, мордой в землю.
– Пушкам стрелять! Развалить крепость! – закричал он в сторону все еще стоявшего в ожидании приказа Мухамедэмина.
Грохнул залп из двадцати пушек. Черные клубы дыма окутали пушки и пушкарей. В наступившей затем тишине из крепости донеслись крики, стоны и плач детей.
Когда рассеялся дым, пушкари стали готовиться ко второму залпу.
– Не тратить снаряды! Отвести пушки назад! – приказал Мядемин.
Часть южной стены рухнула, местами в ней зияли пробоины.
Мядемин, довольный удачным началом, направил коня в сторону Аджигам-тепе, где белела его походная палатка.
Снаряд, угодивший в черную кибитку, стоявшую недалеко от стены, стал причиной гибели старика и женщины с младенцем. Плач родственников разрывал сердце Каушут-хана.
Уже было за полночь, а Каушут-хан не мог успокоиться, сон не шел к нему, и все же в тяжелых думах о спасении людей он задремал. Его разбудил Тач-гок сердар. В руках он держал лопату.
– Что хочешь сказать, мерген?[88]88
Мерген – охотник.
[Закрыть] – Иногда Каушут и так обращался к сердару.
– Хан, скажи, чтобы мне открыли ворота.
– Куда же ты собрался среди ночи?
– Разве ты не знаешь, что собаку закапывает тот, кто ее убил. Надо похоронить вчерашнего беглеца, пока он не протух.
– Не страшно одному идти?
– Хан, как же Тач-гок пойдет на живого врага, если будет бояться мертвого?!
Каушут-хан поднялся, вывел за ворота Тач-гока и вернулся назад. Он шел по крепости, заложив руки за спину. Люди давно уже спали. Вдруг полог одной кибитки откинулся, и оттуда вышел старик с посохом в руках. Увидев Каушут-хана, старик в испуге повернул назад, скрылся в кибитке.
«Э, как старики боятся за свою жизнь», – подумал Каушут-хан и окликнул бородача:
– Яшули, саламалейкум! По-моему, еще рановато для намаза!
Старик выглянул из-за полога.
– Валейкум эссалам! – отозвался он. – Какой уж тут намаз, я по малой нужде вышел.
Каушут взглянул на небо и сказал:
– Вон уж и Зохре взошла, так что и для намаза пора вставать.
Старик ответил напрямик:
– Это ты, сынок, можешь еще думать о намазе, а у меня…
– Простыл, что ли, яшули?
– Да, сынок, когда тебя окружает тысячное войско, простудишься…
– Но между тобой и войском врага такая крепость стоит.
– Перед бедой не устоит никакая крепость, сынок.
– Но говорят же старики, что со всем народом и горе полбеды. Или это придумал текинец от нечего делать?
– Похоже на то, что нам и умереть спокойно не дадут, как людям. Видно, дьявол управляет разумом тех, кто собрал нас на погибель. Будем считать, что умрем шехитами[89]89
Шехит – погибший за правое дело.
[Закрыть].
Слова старика сильно задели Каушута, голова которого и без того разламывалась от тяжелых дум.
– Одному аллаху известно, кому погибнуть, а кому жить. И вообще, таким старикам, как ты, пожившим и много повидавшим, надо бы, наоборот, поднимать дух молодым, напутствовать и благословлять их на победу.
Старик промолчал. Но Каушут не мог молчать.
– Отец, – спросил он, – кто же этот человек, который бросил людей на погибель?
– Кто он может быть, когда есть хан?
– Слава богу, ханов у нас немало, неужели все они толкают людей на острие кинжала?
– Если бы ханом остался Ходжам Кара, разве люди кисли бы в этой крепости? Никогда. Теперь появился какой-то Каушут. Два раза ездил в Хиву и ничего не добился. И вот натравил на нас Мядемина. Никак крови не напьется. Вместо того чтобы договориться с Мядеми-ном, он заключил нас в крепость. С гаджарами же он сошелся, мог бы сойтись и с Мядемином.
Каушут решил не препираться со стариком, а дать ему понять, с кем тот имеет дело.
– Отец, я не хочу быть лолы[90]90
Лолы – продажная женщина.
[Закрыть], которая содержит двух мужей. Отдай половину добра гаджарам, другую – Хиве, а самому что – землю грызть, да?
Голос старика дрогнул.
– Сынок, ты не сказал, кто ты такой.
– Меня зовут Каушут-хан.
Старик опешил.
Каушут-хан, отдаляясь от старика, сказал:
– Не волнуйся, отец. – И пошел своей дорогой.
У западной стены в длинный ряд стояли и лежали лошади. Заслышав шаги, они насторожились, опасливо всхрапнули. В крепости было спокойно. Даже ребятишки не хныкали, угомонились давно, а их было тут не меньше тысячи. Взрослые тоже погрузились в сладкий сон. Каушут думал об этих людях, и ему казалось, что во всей крепости не спят сейчас только два человека: он сам и Тач-гок сердар, одиноко рывший могилу для предателя. Но хан ошибался. В крепости многие не спали. Непес-мулла, лежа на спине, смотрел сквозь отверстие туйнука на звезды и тоже размышлял о судьбах людских. В левом углу кибитки, обняв собственные колени, лежал Сейитмухамед-ишан и призывал на помощь всех святых, каких только мог вспомнить.
Отойдя от лошадей, Каушут заметил темные фигурки людей, которые шли навстречу, согнувшись от груза, взваленного на спины. Хан остановил переднего.
– Что за люди, куда направляетесь?
Человек с мешком за спиной сдавленным голосом ответил:
– Ай, идем кормить скотину.
– Скотину?
– Да, корм несем, хан-ага.
– А ну-ка опустите свои чувалы.
Люди сняли тяжелые мешки и облегченно вздохнули.
– Кто велел кормить лошадей?
Человек, стоявший впереди других, подошел к хану.
– Мулла Непес, – сказал он, – велел нам перед утренним намазом кормить лошадей.
– Сам ты кто такой?
– Я – конюх, хан-ага. Сердар приставил меня к лошадям и дал в помощь двадцать парней. И то не управляемся. Легче пересчитать, хан-ага, деревья и щепки от них, чем лошадей, собранных в крепости.
– Теперь скажи, – заговорил хан, – что легче потушить при пожаре – солому или умолот?
Конюх рассмеялся:
– Как понять, хан-ага, в шутку вы или всерьез?
– Я всерьез спрашиваю.
– Если так, скажу. Умолот сообща можно спасти от пожара, легче потушить, но когда загорится солома, что делать? Можно позвать на помощь аллаха, а самим поскорей удрать от огня.
И хан сказал:
– Раз уж вы такие понятливые ребята, немедленно отнесите назад чувалы с зерном, а лошадям давайте только сено. Пока не скормите все, не давать ни горсти зерна, даже Дулдулу[91]91
Дулдул – кличка мула Али-Шахимардана, зятя пророка Мухамеда.
[Закрыть], если кто прискачет на нем.
Конюхи взвалили мешки и поплелись назад, а хан, заметив в стороне костерок, пошел на огонь. Тут сидели парни и громко смеялись. Их занимал чем-то Келхаи Кепеле. Он проворно поднялся перед ханом, поздоровался.
– Потешаешь ребят сказками? – спросил Каушут.
– Так, хан-ага, рассказываю о женитьбе одногб старого вдовца, как я сам.
– Келхан-ага, – вставил один из парней, – рассказывает о том, как Кичи-кел поймал однажды шакала, хан-ага.
– Это интересней любой сказки, – сказал Кау-шут-хан.
Ребята снова рассмеялись.
На смех выскочил из кибитки Сейитмухамед-ишан, увидев хана, испуганно спросил:
– Что случилось, хан?
– Пока ничего, ишан-ага. – Каушут хотел что-то еще сказать, но ему помешали.
К костру подошли два человека – Тач-гок сердар и гонец по имени Чары, который был послан четыре дня назад в Ахал. Каушут-хан встревожился тем, что гонец, а их было двое, вернулся один, да еще в такой неурочный час. Ответив на приветствие, Каушут подошел поближе к Чары, который, кажется, плакал.
– Дурные вести привез, парень? – спросил Каушут-хан.
Чары не ответил, а продолжал всхлипывать. Потом, оправившись, обратился к Сейитмухамед-ишану:
– Ишан-ага, прочитайте аят. Покойный Ходжам-кул… – слезы не дали ему договорить.
– Войдите в дом, люди, – сказал Сейитмухамед, направляясь в кибитку. Откинул полог и оттуда прибавил: – Нехорошо, когда мужчина плачет, мужайся, сынок.
После аята Чары немного успокоился и рассказал, что случилось с ним в дороге. Когда они вчетвером уже подъезжали к Геок-тепе, их встретила группа вооруженных всадников. Это были нукеры Мухамедмурада Мах-рема, которых Мядемин направил в Ахал. Нукеры бросились за гонцами, Чары и Ходжам сумели оторваться, но пуля угодила в голову Ходжама. Обливаясь кровью, он успел сказать на ходу: «Не думай обо мне, Чары, я умираю, главное, скажи Каушут-хану, что до Ахала мы не добрались». Проговорил и свалился с лошади.
Шестнадцатого марта, сразу же после завтрака, в крепости поднялся шум. Сторожевые посты с наблюдательных вышек сообщили, что Мядемин двинул на крепость чуть ли не все свои войска. Об этом же говорили раздиравшие душу звуки зурны, доносившиеся из лагеря Мядемина.
Каушут-хан сидел на старом пне, который приволок кто-то на песчаный холм посреди крепости. Выглядел хан усталым, измученным бессонной ночью и тяжелыми думами. Закутанная в халат, к нему подошла жена.
– Что тебе еще надо? – глухо спросил Каушут.
Язсолтан молча приподняла край паранджи, показала миску с едой. Каушут плотно сжал губы и с тяжелым вздохом покосился на жену. Язсолтан без слов поняла, что означает и этот взгляд, и этот вздох. Она сразу же повернула назад.
Хан поднялся и уже хотел спуститься вниз, когда к нему на холм взобрался Тач-гок сердар.
– Хан, – сказал он, – разреши мне взять этот пенек и поднять на стену.
Каушут-хан, плохо понимая, о чем его просит сердар, смотрел то на этот черный пенек, то на Тач-гок сердара.
– Я хочу залечь за этим пнем, и тогда мои пули без промаха будут попадать в цель. Может быть, мне посчастливится увидеть Бекмурада. Чтобы он попался мне на глаза, я принес в жертву аллаху одного барана. Я счастлив буду умереть, если только пуля моя продырявит голову этому шакалу.
– Тут Келхан Кепеле тоже молил аллаха, чтобы его пуля нашла Бекмурада. Не ты один думаешь об этом.
– Даст бог, я опережу Келхана.
– Тогда забирай пенек, и бог тебе в помощь.
Тач-гок дал знак, и дюжие парни поднялись на холм,
скатили черный пень, потом подняли на руки и понесли туда, куда приказал им сердар.
Вызванный ханом глашатай Джаллы взобрался на холм и объявил приказ Каушута.
– Эй, люди. Прячьте побыстрее детей в корпечи, хо-ов! Прячьте детей, хо-ов! Таков приказ Каушут-хана, ов!
В крепости поднялась суета. Ржали лошади, кричали женщины с детьми на руках, мужчины с черными ружьями бежали к крепостным стенам.
Каушут, направляясь к воротам, остановился перед одним из корпечи. Тут вовсю орудовал Келхан Кепеле. Никогда не имевший детей, он с особой нежностью принимал малюток от женщин и бережно передавал их кому-то вниз, в укрытие. С необычной для него расторойностыо Келхан занимался ребятишками и даже покрикивал на кого-то из взрослых: «Шевелись, шевелись, не спи на ходу!»
Обычно женщины перед мужчинами старательно натягивали паранджу, тут же они забыли о приличиях, забыли и про свои яшмаки. Не стеснялись даже перед ханом. Одна из них попыталась вместе с ребенком пробраться в корпечи. Но Келхан остановил ее:
– Это же не крепость, женщина. Ты займешь место десятерых детей.
– Сколько ты оставляешь женщин при детях? – спросил Каушут-хан.
– В корпечи я оставляю четырех матерей, хан.
– А детей?
– Детей? – переспросил Келхан, потом нагнулся, спросил внизу у кого-то. – Без трех сорок, хан.
– Управятся ли четыре женщины?
– На десять нукеров Мядемина приходится по одному текинцу, хан. Если мы справимся, то справятся и наши женщины с четырьмя десятками детей.
В суматохе одна молодая мать перед тем, как передать своего ребенка Келхану, вынула грудь и стала кормить младенца. Келхан Кепеле возмутился:
– Хан, ты погляди на нее! Нашла время!

Молодая мать покраснела до ушей, спрятала грудь и передала свое чадо Келхану. Младенец, уже почуявший запах молока, но не получив его, протянул ручонки к матери и расплакался. Каушут-хан стал успокаивать мать:
– Потерпи, не расстраивайся, разделаемся с врагом, тогда досыта накормишь своего джигита. Такая наша судьба, надо терпеть.
Мать покорно кивнула хану и удалилась. Келхан выбрался из корпечи, отряхнул от глины халат. Вслед за ним выскочил Курбан, помогавший внизу Келхану Кепеле. Юноша поздоровался с ханом, и лицо его расплылось в улыбке. Келхан, как бы извиняя Курбана, сказал:
– Молодой, что с него возьмешь? Улыбается, как будто время сейчас для улыбок.








