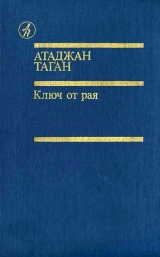
Текст книги "Ключ от рая"
Автор книги: Атаджан Таган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
Глаза лошади и после смерти не закрывались. Сейис проговорил: «О, бедняга!», опустился на колени и попытался прикрыть веки руками. Но глаза так и оставались открытыми. Голова лошади была обращена к финишу, и людям казалось, что она и сейчас смотрит туда и мертвый ее взгляд выражает сожаление, мольбу, отчаянье…
Когда праздник, оказавшийся таким печальным, закончился и люди уже начали было расходиться, возле кладбища «Верблюжья шея» показался всадник с женщиной позади себя. Всадник скакал по направлению к людям. Всем стало любопытно. А всадник остановился около первого попавшегося ему навстречу прохожего и задыхающимся голосом спросил:
– Где хан у вас?
Ему показали.
Каушут шел вместе с Пенди-баем, Непес-муллой и Оразом-яглы. Завидев всадника, скакавшего им навстречу, они остановились. Всадник с трудом переводил дух, но все же, стараясь быть как можно почтительней, поздоровался.
– Откуда ты будешь, парень? – спросил его Непес-мулла. – Я вижу, у тебя дело какое-то до нас?
Юноше, сидевшему на коне, было лет девятнадцать. По рукам, большим и мозолистым, можно было угадать в нем дехканина. Он поглядел с надеждой на стоящих перед ним яшули и ответил:
– Дело мое в том, что я не просто путник, а беглец. Мы скачем уже целые сутки.
– Значит, ты выкрал девушку? – усмехнулся Пен-ди-бай.
– Да, я ее украл, отец. – Глаза парня вдруг засверкали. – Я украл девушку, которую люблю, и отдам ее только со своей головой!
– А от нас что ты хочешь? – спросил снова Непес-мулла.
Юноша опустил глаза и уже не таким уверенным тоном ответил:
– От вас… Мы хотели… Мы хотели попросить вашей защиты… Пока. Ну, пока мы не найдем где спрятаться…
– У тебя разве нет родственников?
– Я совсем один…
– Откуда ж ты родом?
– Сам я из Каррыбента, из Теджена. За нами, наверное, уже гонятся, у этой девушки шесть братьев, и если они сейчас поймают нас…
Каушут, все время молчавший, пристально посмотрел в лицо парню.
– Яшули, что вы так смотрите на меня? Узнать хотите? У меня с ханами не было родни…
– Нет, я хочу спросить…
– Спрашивайте, все, что знаю, скажу…
– Скажи мне, только честно, ты насильно увез ее?
– Я ее люблю…
– Любить – это одно, а чтоб тебя любили – другое. Говорят, о камыш кибитки, где красивая девушка живет, и собака потрется. Ты мне скажи, она была согласна или нет?
Юноша поглядел на Каушута и повернулся назад.
– Айсолтан, не бойся, здесь одни туркмены. Скажи сама, хотела ты со мной бежать?
Девушка подняла накидку и взглянула на людей. Все подивились ее необыкновенной красоте. «Ну уж, если ты такую красавицу заставил полюбить, я тебе помогу», – подумал про себя Каушут.
Айсолтан горячо проговорила:
– Я буду с ним до конца жизни, если только не отнимет у меня его аллах!
Сказав это, она снова закрыла лицо.
Каушут хотел позвать юношу к себе, но Пенди-бай опередил его:
– Считайте, у моего очага вам уже готово место. Как тебя зовут, сынок?
– Аннам, яшули.
– Езжай, Аннам, вон в тот аул, там спросишь, где живет Пенди-бай, и скажи, что я велел тебе остаться у меня.
– Сто лет жизни вам, бай-ага, спасибо!
Юноша развернул коня и поскакал в направлении, указанном ему Пенди-баем. Яшули пошли дальше.
А Каушут-хан, заметив впереди, в идущей перед ними толпе, Кичи-кела, крикнул ему:
– Ах-хов! Парень! Поди сюда!
Услышав голос Каушута, Кичи-кел бегом заспешил к нему.
– Эссаламалейкум, отцы!
Яшули вместе с Каушутом ответили ему.
– А ты почему здесь? – спросил Каушут, – Почему не уехал в Хиву?
Кичи-кел принадлежал к нукерам Хемракули-хана, главного сборщика налогов. Этих нукеров, не причинив им никакого вреда, подобру-поздорову выгнали из Серахса. Но Кичи-кел подумал, что в Хиве изгнанных сборщиков налогов ничем хорошим не встретят, и остался в Серахсе. Он не знал сейчас, что ответить Каушуту, молчал, понурив голову. Яшули, не дождавшись ответа, пошли дальше, а Каушут сказал, собираясь тоже уйти с аксакалами:
– Кичи-бек, советую тебе никогда не плевать в небо, потому что этот плевок всегда попадет тебе же в лицо.
На следующий день сразу после утреннего намаза к Каушуту прискакал Мялик и сказал, что Пенди-бай просит его немедленно прийти. Каушут понял: что-то случилось, но не стал расспрашивать Мялика, думая, что дело связано с Хивой, а в серьезных вещах бай не очень-то доверял сыну.
Каушут тут же сел на коня и поскакал.
Пенди-бай встретил его на дворе. Лицо у бая было взволнованно, и Каушут спросил:
– В чем дело? Что случилось?
– Хан, чужая собака пришла и гостей привела. Вчерашнего парня ночью зарезали, а девушку увезли.
Каушут много бед пережил в своей жизни, но эта внезапная весть заставила его сердце больно сжаться. Пенди-бай повернулся, и Каушут молча пошел следом за ним.
– Вот здесь я их оставил, – сказал Пенди-бай, когда они подошли к кибитке.
Каушут осторожно приподнял полог и вошел внутрь. На полу, словно спящий, раскинув в стороны руки, лежал Аннам, верхняя часть тела и голова были накрыты его собственным доном.
Каушут приподнял край дона и взглянул в лицо юноши. Глаза его были раскрыты и, казалось, говорили: «Я вам поверил, хан-ага…»
Каушут опустился на колени и провел рукой по векам раскрытых глаз.
– Да будет земля тебе пухом, сынок!
Потом Каушут поднялся и повернулся к Пенди-баю;
– Этот грех на нас, бай-ага! Узнал бы я негодяя, который выдал его!
Пенди-бай опустил голову, не зная, что отвечать. Ответ лежал посреди кибитки, по-мертвецки вытянувшись на полосатом одеяле.
Когда Мамед-хан вошел в низенький глинобитный домик, он задохнулся от зловония. Однако нукеры сидели тут, скрестив ноги, и занимались своим делом. Мамед-хан зажал пальцами свой широко расплюснутый нос, уродства которого не могли скрыть даже пышные смоляные усы. Огляделся по сторонам и, гундося, поскольку нос был зажат указательным и большим пальцем левой руки, спросил:
– Как тут у вас? Много тылла[74]74
Тылла – золотая монета.
[Закрыть] уходит?
– За эту неделю даже пять тылла не ушло, – ответил один из нукеров.
– Даст бог, скоро и одного не будет уходить, – сказал хан.
– Да, теперь мало ушей приносят, – подтвердил нукер и опустил голову, словно задумавшись о чем-то. Он прикрыл глаза, но отрезанные уши по-прежнему маячили перед ним. Его угнетали мысли о своей несчастной судьбе, о непристойном занятии, к которому принудил его хан. Словно забыв о его присутствии, нукер проворчал сквозь зубы: «И что за жизнь?! Что за работа – человеческие уши клеймить?! Лучше умереть, чем есть такой хлеб!» – Хан-ага! – вдруг воскликнул он и вскочил с места. – Пожалейте, хан-ага! Избавьте меня от этой работы, по ночам не могу спать, только и вижу: уши да отрезанные головы. Вчера мать приснилась, и она без ушей. Мы всякое видели – и как деньги считают, и как скот считают. Поставьте на конюшне работать, хан-ага, или я сойду с ума, пожалейте, хан-ага.
– Может, тебя на хивинскую конюшню? – перебил хан.
Нукер смолчал. Ему было ясно. Если он откажется от этой гнусной работы в Караябе и вернется в Хиву, Мядемин снимет ему голову, лишит жизни его родственников и даже детей. Нет, он должен смириться с судьбой, даже если бы ему пришлось пересчитывать не только отрезанные уши, но и выдавленные человеческие глаза.
Хивинское ханство воздвигло в Караябе крепость и направило туда Мамед-хана, который усердно служил Мядемину и к его жестокостям немало прибавил и своих. Чтобы держать в страхе и повиновении сарыков, чтобы припугнуть туркмен из Мары и Серахса, он объявил всем, что будет платить за каждую голову, отрезанную у непокорного сарыка, десять тылла, а за пару отрезанных ушей по пяти тылла. Мядемин охотно пошел на эти расходы. Но чтобы одни и те же уши не сдавались дважды, Мамед-хан велел ставить на них метки. Когда он вошел в маленький глинобитный домик, два нукера как раз и занимались этой работой. Караябскую крепость туркмены стали называть повсеместно «Крепостью ушей».
Хан не мог долго находиться в домике и дышать этим смрадом. Он вернулся к открытой двери и прислонился к косяку.
– Что с жалобой старухи? – спросил он.
– Вон ее жалоба! – ответил нукер.
Мамед-хан посмотрел в сторону, куда показал нукер. Там к стене были приколоты тамарисковыми ветками два уха.
– Это хорошо, – одобрительно сказал хан.
Приколотые уши не принадлежали ни непокорному сарыку, ни разбойнику, ограбившему караван Мядемина. Они принадлежали сарыку по имени Агалык, который отважился исказить приказ Мамед-хана.
Несчастный Агалык-ага, чтобы заработать пять тылла и не найдя непокорного, отрезал уши своему племяннику, приехавшему погостить. Сестра Агалыка-ага, мать пострадавшего, пожаловалась Мамед-хану, и тот, возмутившись неслыханным жульничеством, приказал отрезать уши самому Агалыку.
Один из нукеров, поставив клеймо на очередную пару чьих-то ушей, бросил их в мешок и обратился к хану:
– Какие вести из Хивы, хан-ага?
– Из Хивы? – переспросил хан уже из-за двери, потому что не мог больше стоять даже у выхода.
– Да, из Хивы.
– Из Хивы пока нет никаких вестей.
– Вряд ли хан ханов будет спокойно смотреть на поведение текинцев, – вмешался в разговор второй нукер.
Мамед-хан уже собрался было совсем уйти, вернулся назад и весело рассмеялся.
– Не думай, баранья голова, – сказал он, – что Мядемин-хан останется в долгу. Поведение текинцев говорит нам только о той палке, которая обрушится на их головы. В один прекрасный день Мядемин-хан приведет тысячное войско, и ты увидишь текинцев на коленях. – Мамед-хан сделал небольшую передышку и прибавил: – Пусть это вас не заботит, делайте свое дело.
После этих слов Мамед-хан ушел.
– Неужели, – спросил первый нукер, – хан ханов пригонит тысячное войско?
– Обязательно пригонит, – ответил второй нукер. – Если он придет с тысячным войском, Насреддин и думать перестанет, чтобы пройти через горы. Хан ханов не успокоится, пока своего не добьется.

Нукеры горячо обсуждали серахский вопрос. Прежние хивинские ханы, которые были до Мядемина, – его отец Аллакули-хан и его старший брат Рахимкули-хан, несмотря на то что Хорезмский вилайет был больше некоторых других ханств, все же считали себя подчиненными иранского хана. Мядемин же, пришедший к власти в тысяча восемьсот сорок пятом году, не захотел согласиться с устоявшимся положением. Он стал считать Хорезм самостоятельным ханством, вывел его из-под власти Хорасана. В течение десяти лет он совершал набеги на туркменские земли и стал собирать с туркмен дань. Это не понравилось иранскому шаху Насреддину. Его возмутило то, что Хива начинает прибирать к своим рукам земли туркмен. И он решил положить этому конец. У Насреддина таких наместников, как Мядемин-хан, было около двадцати, и каждый из них занимал территорию не меньшую, чем Хорезм. Владея таким богатством, Насреддин не мог допустить своеволия Мядемина, его власти над туркменами. Он решил отправиться в Хиву и на всех землях Хорезма оставить следы копыт своей боевой конницы. Узнав об этом намерении, главный визирь Садрыагзам сразу же понял, насколько рискован и ошибочен замысел шаха. Хотя упрямый Насреддин признавал только собственное мнение, все же не считал унижением для себя слушаться советов главного визиря. На этот раз Садрыагзам предостерег шаха от похода на Хиву. Чтобы отправиться туда с большим войском, потребуются огромные запасы продовольствия, кроме того, безводные пустыни, которые придется преодолевать, могут таить в себе неожиданные и даже непреодолимые трудности. Вместо рискованного похода главный визирь предложил другой план, согласно которому можно завладеть туркменами без особых затрат. С согласия шаха визирь написал бумагу и с нею отправил в Серахс мирзу Афсалеллы. Переговорив со старейшинами Серахса, Афсалеллы должен был отправиться с той же бумагой к сарыкам в Мары. В шахской бумаге предлагалось туркменам иранское покровительство. Главный визирь понимал, что туркмены согласятся платить любую дань Ирану, если шах защитит их от набегов и грабежа со стороны Хивы. Если туркмены смогут спокойно сеять и пасти свой скот, они согласны будут отдавать кому угодно половину своих доходов. В бумаге волею шаха давалось обещание: «И если туркмены выделят четыре сотни верховых нукеров для службы в шахском войске и отправят в залог сорок своих семей, то всемогущий Насреддин обещает содержать текинцев и сарыков под своим покровительством и ограждать их от набегов любого врага».
Старейшины Серахса приняли Афсалеллы как почетного гостя. От имени Каушут-хана было написано письмо Насреддину, в котором говорилось, что текинцы принимают условия шаха. Заручившись согласием в Серахсе, Афсалеллы отправился в Мары.
Когда все это дошло до слуха Ходжама Шукура, которого изгнали в свое время текинцы, и тот, затаив обиду, перебрался со своими родственниками в Карабурун, подальше от текинцев и сарыков, бывший хан Серахса поспешил известить Мядемина о состоявшейся сделке. Не преминул он добавить при этом, что главная роль в этой сделке с иранским шахом принадлежит Каушут-хану. С помощью Мядемина Ходжам Шукур намеревался отомстить своему кровному врагу Каушут-хану, опираясь на бежавших из Мары в Карабурун и ставших ненавистными сарыкам старейшин.
Был год барса. И Мядемин-хан был уверен, что в этом году его войско должно показать свою силу и отвагу, свойственные барсу. Поэтому, не сомневаясь в успехе, Мядемин собрал двадцатитысячное войско[75]75
В разных источниках эта численность определяется по-разному.
[Закрыть] и седьмого числа месяца рыбы[76]76
По новому летосчислению 10 января 1855 года.
[Закрыть], в среду, выступил из Хивы в сторону Мары.
Народ Хивы еще никогда не видел такого скопления вооруженных людей. Женщины, старики и дети с обочин дороги с удивлением провожали взглядами проходившее войско. Было удивление, но была во многих взглядах и ненависть к Мядемин-хану. Уже много недель хивинец не мог спокойно сходить на базар, где рыскали нукеры хана, отбирали лошадей и верблюдов, предназначенных к продаже, а то и вовсе тех, на которых люди приехали на базар. Отбирали, не заплатив за животных ни гроша. Иначе откуда бы хану набрать чуть ли не пять тысяч верблюдов для перевозки продовольствия и почти столько же для бочек с водой.
Груженый караван начал выступать из города на рассвете, а вышел за его стены только после обеда, – так он был длинен. Ждали появления Мядемин-хана, но хан не показался ни в начале, ни в конце шествия. Прошел слух, что Мядемин остается в Хиве, а руководить войском поручил Хорезму Казы и Мухамедмураду Махрему. Но это было не так.
Хорезм Казы действительно шел в начале войска, а Мухамедмурад Махрем с пятьюстами всадниками еще раньше отправился в Ахал. По поручению Мядемина он должен был заранее подготовить и запугать ахальцев, чтобы они не вздумали помогать Серахсу.
После того как все прошло, проехало и туча пыли, поднятая копытами, осела на землю, кругом наступила тишина. Шумные улицы стали мертвыми. И тут только показалась группа всадников. Впереди ехало четыре верховых в военном одеянии. Следом за ними на белом коне, разодетый так, что невозможно было определить цвет его одежды, ехал сам Мядемин. Лицо удрученное чем-то, глаза сощурены, будто хан не выспался.
Мядемин был крепким, широкоплечим. И лошадь его была ему под стать, заметно отличалась от других. Вся ее сбруя вместе с уздечкой сверкала серебряными монетками, дорогими украшениями, как и полагалось ханской лошади. Другие кони, на которых гарцевали всадники из свиты Мядемина, тоже были украшены, но рядом с ханской лошадью напоминали красавиц, одетых в обноски. В непосредственной близости от хана ехали Бабаназар-аталык, Мухамедэмин-юзбаши, Халназар Бахадур. Бекмурад-теке и ближайший советник хана Мухамед Якуб Мятер. Как и сам Мядемин, они выглядели усталыми и угрюмыми. Ехали молча.
Хотя толпа давно уже разошлась, с выездом хана люди снова стали собираться у дороги. Мядемин никак не отвечал на приветствия стариков, на поклоны детишек, проезжал мимо них, не меняя позы. И только Мухамед Якуб Мятер, словно стыдясь за хана, вертел головой, налево и направо отвешивая поклоны. Босоногий мальчишка, стоявший под ивой, неожиданно выскочил на дорогу, бросился к последней группе конников и пронзительно закричал:
– Наша! Наша! – С криком схватился за узду гнедой лошади со звездочкой на лбу. От неожиданности лошадь вскинулась, и всадник, Бекмурад-теке, едва не вывалился из седла, но, удержавшись, натянул повод, привстал на стременах, во всю силу стеганул плетью узнавшего свою лошадь мальчишку. И тот, вскрикнув от боли, плашмя упал на пыльную дорогу. Бекмурад-теке даже не оглянулся, но когда до его ушей донесся тоненький голосок: «Ой, умираю!» – ханский прислужник пригладил усы и с улыбкой проговорил:
– Туда тебе и дорога, щенок.
Бекмурад-теке был одним из хваленых сотников Мядемин-хана, прославился своей необузданной жестокостью еще в Караябе. Говорят: «В каждом народе надо охотиться с его собаками». И Мядемин-хан в разбойных набегах на туркмен часто высылал вперед Бекмурада-теке, потому что тот, будучи туркменом, хорошо знал своих соплеменников и действовал по пословице: «Страну покоряет знающий страну». Когда была построена «Крепость ушей», Мядемин хотел послать туда Бекмурада-теке, но сотник отказался от этой чести, потому что был уверен, что сарыки и текинцы не дадут ему долго прожить. Они ненавидели и считали его хуже собаки. Бекмурад ждал часа, чтобы заплатить своим соплеменникам за их ненависть к нему. И этот час настал. Сегодня шел он с многотысячным войском проливать туркменскую кровь.
Тяжело навьюченные верблюды уныло и почти незаметно продвигались вперед. После двадцатидвухдневного перехода было решено сделать основательный привал в Даяхатыне. Прибывший сюда на два дня раньше Мядемин издал приказ, который удивил все войско. Перед выходом из Даяхатына воины должны были разрушить старые дома и прихватить с собой по пяти кирпичей каждый. Хан решил по пути ставить кирпичные вышки или вехи. Люди и верблюды и без того были перегружены, но никто не посмел ослушаться ханского приказа, и из города было взято в дорогу сто тысяч кирпичей.
Мядемин рассчитывал через неделю быть в Мары. День только еще начал накаляться. Начало каравана уже скрылось в пустыне, хвост его уже покинул Даяхатын, настал час и Мядемину собираться в дорогу. Уже в седле он вдруг взмахнул рукой в сторону белой палатки.
– Птица! – вскрикнул он.
Бекмурад-теке вмиг подскочил к Мядемину.
– Хан-ага, – обратился он, заискивая, – вашу птицу отправили вместе с сундуком.
Мядемин, не взглянув на него, сурово повторил:
– Птицу!
Бекмурад понял, что дальше лучше не спорить, вскочил на своего коня и полетел вслед за караваном, уже скрывшимся из виду.
Хан не успел поставить ногу в стремя, как двое слуг тут же подхватили его и забросили в седло. Хан даже не заметил посторонней помощи, точно это сам аллах вознес его, тронул лошадь, и она не спеша понесла его вперед. А слуги, согнувшись пополам, кланялись, пока хан не отъехал на порядочное расстояние.
Через несколько дней Дангатар снова собрался сходить к ишану растолковать свою судьбу. Но как только он отошел от кибитки, уже и забыл, куда он хотел и зачем. Голова у него кружилась, казалось, ее изнутри ест какой-то червь, и когда этот червь там поворачивался, все перед глазами переворачивалось тоже. На что теперь ни смотрел старик, везде ему мерещились кровавые пятна, иногда они начинали расти, сливались в одну красную лужу, посреди которой плавал Ораз… Но иногда, наоборот, Дангатару казалось, что мальчик жив. Старик сватал его, приглашал на свадьбу гостей, радовался до тех пор, пока его не охватывало обычное состояние ужаса и тоски.
Дул холодный ветер. Небо с одной стороны покрывалось темными, рваными тучами. Казалось, вот-вот пойдет дождь или снег. Дангатар шагал, подталкиваемый сзади ударами ветра, и угрюмо глядел под ноги.
Вдруг он увидел перед собой высохший куст курая, иногда его называют «перекати-поле». Неизвестно, какие мысли возникли в голове старика, но он сперва остановился, смотрел некоторое время на этот отделившийся уже от своего корня сухой и легкий шар, а потом пошел прямо на него. Но тут налетел новый порыв ветра, и круглый куст курая дрогнул и, как живой, покатился вперед. Дангатар закричал:
– Стой! Стой!
Но колючка продолжала катиться.
Тогда старик засунул за пояс обе полы своего старенького халата и бросился вдогонку. Перекати-поле цеплялось за кусты янтака, задерживалось, точно подпускало специально, играя с Дангатаром, но едва он подбегал, как тут же срывалось и укатывалось дальше. Наконец на пути курая оказалась небольшая ямка, шар скатился туда и уже не мог выбраться.
«Ага, – пробормотал Дангатар. – Ну что, куда ты теперь побежишь?» Он приостановился и не спеша стал приближаться к шару.
На краю ямы Дангатар стал, поглядел со злорадством на колючку, спрыгнул вниз и принялся, как маленький, топтать ее ногами. Когда на дне ямки осталась одна труха, Дангатар выбрался оттуда и стал засыпать песком останки перекати-поля. Скоро получилась маленькая могилка. Старик прочитал над ней короткую неразборчивую молитву, поднялся и пошел дальше. Он шел и напевал негромко:
Бедный соловей, бедный соловей,
Ты там поплачь, а я тут поплачу.
Погибший в горе бедный соловей,
Ты там поплачь, а я тут поплачу.
Бедный соловей, больше слез не лей,
Пожалей меня, я и так уж плачу.
Утешитель мой, бедный соловей,
Ты там поплачь, а я тут поплачу…
Впереди показался аул. Дангатар не мог сообразить, куда он попал. После, когда подошел поближе, узнал кибитку Пенди-бая, остановился и позвал:
– Пенди-бай! Пенди-бай!
Никто не откликался. Дангатар закричал снова:
– Пенди-бай, ов! Пендиджан, ов!
Наконец ширма откинулась, и из кибитки вылез Мя-лик. Вид у него был раздраженный.
– Кому там надо Пенди-бая? Нет его, уехал в Горгор!
Дангатар быстро пошел к Мялику.
– А ты кто такой, родственник его? Как тебя зовут?
Мялик узнал Дангатара и сильно смутился. Он слышал, что старик тронулся после того, что случилось, да это и ясно было, раз Дангатар не узнал его. Мялик решил подыграть старику, притвориться, что они в самом деле незнакомы, и почтительно ответил:
– Я сын его, яшули. Меня зовут Мялик-бай. Если вам что надо, говорите.
Но старик обрадованно закричал:
– А, Мялик-бай, это ты! Что же я сразу не узнал! Саламалейкум, Мяликджан! Саламалейкум, Мялику-лиджан! Как живешь, Мяликджан?
Мялику было в крайней степени не по себе. И он, не поднимая головы, ответил:
– Саламалейкум, яшули. Хорошо живу, спасибо.
– А дома как, все в порядке?
– И дома в порядке.
– Слава богу. И туйнук вашей кибитки тоже в порядке?
Мялику уже лень было отвечать.
– А кобыла ваша здорова?
Мялик наконец не выдержал и зло закричал на старика:
– Да какого тебе дьявола до нашей кобылы?!
Но Дангатар как будто ничего и не расслышал.
– И жеребеночек ее здоров, его ночью не зарезали?
У Мялика внутри все задрожало.
– Слушай, яшули, если тебе чего надо, говори и убирайся отсюда.
Дангатар странно улыбнулся:
– Говоришь, убирайся?
– Да, убирайся.
– А куда убирайся?
Мялик махнул рукой, повернулся и хотел было идти, но старик ухватил его за рукав:
– Эй, не уходи, подожди немного.
Мялик остановился, какая-то сила приковывала его к старику и заставляла слушать его бред.
– Если ты никому не скажешь, я тебе открою один секрет.
Мялик молчал.
– Только поклянись сначала.
– Ну да, я клянусь.
– А чем клянешься?
– Чем хочешь.
– Тогда поклянись навозом быка.
– Хорошо, считай, что я поклялся.
Дангатар притянул к себе Мялика и зашептал ему на ухо:
– Так вот, вчера мне приснился сон. Ты Оразджана знаешь?
Мялик с трудом ответил:
– Нет, не знаю я никакого Оразджана.
– Не знаешь?.. Ну все равно… Приходит ко мне Оразджан и говорит: «Папа, этой ночью меня зарезал Мяликджан!» Это правда, Мяликкули?
У Мялика и руки и ноги сделались как ватные. Он был не в силах поднять голову и не знал, что делать.
Турнуть отсюда этого старика или стоять столбом и смотреть на его страдания? И тут он услышал всхлипывания и поднял голову. Старик уже отошел в сторону, присел на сырую землю, скрестив под собой ноги. Он рыдал, и слезы лились из его единственного глаза.
Мялик против своей воли подошел к старику и присел перед ним на корточки. Ему отчего-то безумно захотелось признаться в своем преступлении, но он не знал, с чего начать. И поэтому проговорил только:
– Не плачь же, яшули!
Дангатар протянул руки и положил их на плечи Мялика.
– Кому же, как не мне, плакать, Мяликджан! Бог побил меня обеими руками, сынок. Моего сына убили! Единственного моего сына! Что мне теперь делать?
Я уже и невесту ему нашел… А его убили. И меня убили.
Мялик почувствовал, что не может больше скрывать тайну от старика, и открыл уже рот, но тут к ним подошла Огултач-эдже, услышавшая из кибитки странные речи.
Увидев ее, Дангатар перестал улыбаться,
– Огултач-эдже, саламалейкум!
Мялик встал на ноги и опомнился, ему стало страшно, оттого что едва не выдал самого себя. Но теперь он сделался снова таким, как всегда, и не чувствовал уже ни малейшей жалости к несчастному старику.
– Мама, это Дангатар, у которого убили сына.
Старик перестал плакать и улыбнулся:
– Саламалейкум, Огултач-эдже!
Огултач хотела что-то сказать, но старик перебил ее:
– Я завтра сына женю, невестка. Обещал сватам одну овечку. Если я не дам овечку, сваты уедут, не отведав шурпы[77]77
Шурпа – суп.
[Закрыть]. Свадьба должна быть свадьбой, пусть сваты отведают нашей шурпы. Дай мне взаймы одну овечку, Огултач.
Огултач-эдже сообразила, что старик не в своем уме, но не стала его огорчать. Ей хотелось хоть чем-то утешить несчастного.
– Мяликджан, сходи в загон и приведи одну овцу.
Мялик усмехнулся и пошел к загону. А Огултач-эдже присела рядом с Дангатаром.
– Невестка, послушай, я тебе сейчас все расскажу.
– Расскажите, Дангатар-ага, не бойтесь, расскажите.
– Сына моего убили, Огултач-эдже. Что мне теперь делать? Кто отомстит за него? Я совсем один, я старый, и родственников у меня нет, некому за меня постоять, Огултач!
У женщины на глазах заблестели слезы.
– Ах, собака какая, чтобы руки у него отсохли, чтобы язык у него в болячках стал, чтобы жизни ему не было, этому убийце!.. Ах как мне жалко вас, Дангатар-ага!..
Мялик принес черного ягненка и опустил его на землю перед Дангатаром. Ягненок был совсем ручной и не пытался убежать, только заблеял жалобно: «Ме-е-е!» – и посмотрел с любопытством на старика.
– Ай какой ягненок! Ты и блеешь еще! – Дангатар погладил его мордочку. – Вот подожди, вырастешь, большим бараном будешь.
Дангатар вдруг оттолкнул ягненка, поднялся на ноги и, не говоря ни слова, пустился, как маленький, вприпрыжку. Он убегал прочь, а Огултач-эдже долго смотрела ему вслед, потом с тяжелым вздохом сказала:
– Кто же этот проклятый убийца, чтоб ему пусто было!
А проклятый убийца стоял рядом с опущенной головой и молча рассматривал носки своих чарык.
В середине пути к Мядемину подъехал мингбаши Абанур Ниязмахрем с молодым воином из ханского войска.
Хан вопросительно уставился на своего мингбаши. Тот, низко поклонившись, доложил:
– Хан-ага, этот юноша не хочет воевать. Что прикажете сделать с ним?
Мядемин был зол, он не любил останавливаться в пути. Но тут преобразился вдруг, стал добрым, великодушным человеком.
– Да? Не хочет воевать? – Хан сочувственно перевел глаза на юношу. – Что же, молодой человек, с тобой случилось? По родным заскучал?
– Да и по родным тоже.
Хан нарочито вздохнул:
– Мама вспомнилась?
– Да, вспомнилась.
– А еще что тебе вспомнилось?
– А еще я не хочу убивать бедняков, таких же, как мы сами. У меня, хан-ага, рука на них не поднимается.
Мядемин покачал головой:
– А ты случайно не мерин?
– Нет, хан-ага, у меня два сына есть.
– И ты уверен, что твои?
Юноша молчал, не зная, что отвечать на это оскорбление. Вместо него ответил сам хан:
– Да нет, навряд ли они твои, наверное, они твоего соседа.
Юноша сжал кулаки и опустил голову.
Как раз в эту минуту вернулся на взмыленном коне Бекмурад-теке, подал хану клетку с птицей и отъехал на два шага, ожидая нового приказания. Лицо хана на миг просветлело. Он поднес клетку к лицу, дунул в нее, перепелка затрепыхала крыльями и перепрыгнула из одного угла в другой. Хан не глядя протянул клетку назад, один из слуг тут же подлетел и бережно принял ее.
– Хан-ага, так что делать с ним? – спросил снова Ниязмахрем. – Отправить его домой?
– А мы спросим сейчас у теке.
– Я готов служить, хан-ага, – тут же угодливо ответил Бекмурад.
– Ну вот. Скажем, был бы ты третьим сыном Алла-кули-хана…
– Лепбей[78]78
Лепбей – слушаюсь.
[Закрыть], брат! – живо откликнулся Бекмурад, уже представивший себя младшим братом Мядемин, – …и ведешь ты, представь, целое войско. А один твой воин не хочет воевать, хочет вместо того, чтобы идти в Мары, возвращаться в Хиву… На полпути он струсил… Ну, и что бы ты сделал с ним?
Бекмурад-теке взглянул на юношу и понял, что речь идет о нем. Теке не сразу сообразил, что ответить. На этого парня ему было наплевать, но он боялся, как бы ответ его не разочаровал хана и Мядемин бы не сказал: «Какой из тебя сын Аллакули-хана!» Но и заставлять ждать тоже было нельзя. С подобными вопросами хан обращался разве только к Мухамеду Якубу Мятеру, а уж с наемными сотниками, вроде Бекмурада, и здоровался даже не всегда, поэтому случая терять было нельзя. И Бекмурад-теке изобразил на своем лице негодование и воскликнул:
– Был бы я младшим сыном Аллакули-хана, я бы сказал, что таких трусов надо живыми в землю зарывать.
Мядемину ответ понравился, он кивнул головой, тряхнул поводом и, не добавляя больше ни слова, двинулся вперед. Бекмурад-теке тоже было тронулся вслед за ханом, но, проехав рядом некоторое расстояние, подумал, что может показаться Мядемину слишком назойливым, и попросил его позволения вернуться назад и проследить, как будет исполнен приказ «младшего сына Аллакули».
Прямо на том месте, где состоялся суд, два человека уже рыли яму, поднимая облако пыли, а юноша стоял рядом и старался не глядеть на них, словно не он сейчас должен был лечь живым в эту яму без савана и отходной молитвы.
Когда работа двух копальщиков уже приближалась к концу и всем стало ясно, что казнь вот-вот совершится, один из стариков, стоявших рядом, не выдержал и подошел к Абануру Ниязмахрему, который, как начальник непокорного воина, обязан был присутствовать при казни.
– Ровесник, неужели этому бедняге так и погибать?
Но ответил ему Бекмурад-теке:
– На свете нет большего проступка, чем ослушаться ханского приказа! И если кто-то считает невиновным человека, названного ханом, то должен сам лезть в яму вместо него!
И Ниязмахрему, в душе не желавшему смерти юноше, пришлось кивнуть головой, потому что он боялся, что, если будет спорить с Бекмурадом, тот донесет на него хану.
Тем временем копальщики уже вылезли из ямы, воткнули в землю лопаты и принялись отряхивать с себя песок. Даже самый жестокий человек, казалось, не решился бы без всякой личной вражды закопать в землю другого, и Ниязмахрем все еще надеялся, что теке в конце концов сжалится над юношей и отменит свой приказ, ограничившись каким-нибудь более легким наказанием. Но Бекмурад молчал и всем своим видом показывал, что ждет исполнения приказа. Видя заминку в деле, он сам крикнул:








