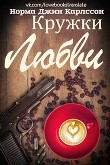Текст книги "Прага"
Автор книги: Артур Филлипс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц)
Джон приваливается к фонарному столбу у входа в шумный клуб и закуривает, а ее такси растворяется в потоке огней и исчезает в направлении Буды.
Сцена, липкая от штампов: молодой человек приваливается к столбу, выпуская в ночь сигаретный дым Музыка выплескивается вместе с клином света из открытой двери джаз-клуба и вползает к человеку в желтый круг под фонарем, а он провожает взглядом удаляющееся такси с женщиной, которая заставила его сердце биться чаще, но к своему ключа еще не дала.
Осознание накатывает быстрыми и безжалостными волнами: сначала Джон принял эту стандартную позу у фонаря без всякой задней мысли, как естественное физическое выражение его тоски и жажды и пустых стараний, но не успел и спичкой чиркнуть, как понял, что делает и как выглядит. Лишь только первая лоза дыма завилась вокруг столба к фонарю, и само движение Джона – изгиб его колена – уже принадлежит частному детективу, по горло сытому приключениями, или бедному влюбленному шансонье с обложки «Музыки для одиноких ночей». Джон – это самый совершенный концентрат пятидесяти лет образов любви, утраты, одиночества и отвращения к себе, работы непревзойденно и искусно циничного рекламиста. И даже его возмущенное хрюканье – не успевает оно затихнуть, а Джон это уже понимает, – звучит в точности как бурчание соглядатая по найму на вероломство баб или выстраданное убеждение Боги, [27]27
Прозвище американского киноактера Хамфри Богарта (1899–1957).
[Закрыть]что война всех делает дураками, или изумление шансонье, которому опять не повезло в любви, ах ах, опять не повезло в любви. И тут же на Джона проливается наконец успокоительный бальзам иронии: раз даже его непроизвольное хрюканье возмутительно и автоматически неискренне, остается только смеяться Как перед портновским тройным зеркалом, Джон видит, как глупо видеть, как это все глупо, и радуется приятно бесстрастной и бесконечно убывающей радостью, которую устроил себе за свой же счет. Только сейчас он теряет из виду ее такси, растворившееся в потоке (где-то в глубине души ошарашенный тем, что оно вообще может смешаться, что оно не отмечено каким-нибудь фосфоресцирующим свечением).
И лишь она исчезает, маленькая качелька, которую Джон, не зная того, строил у себя в сердце последний месяц, перекашивается: он уже в такси, называет водителю братнин адрес, не успев понять, зачем. Переезжая мост, он смотрит на огни другого моста выше по реке, вдыхает теплый ветер и понимает, что сейчас мог бы привезти Скотту то, что нужно им обоим: дело большой личной важности без всякой связи с прошлым, с их взаимными обидами и несправедливостями и общими горестями. Джон встретится с братом в настоящем, глядя прямо вперед, смиренно придет к нему за помощью и за искренностью. Он расскажет, что нашел в их общей подруге Эмили, может, придумает вместе с братом и любовную тактику, ведь у Скотта, кажется, всегда были подружки, даже когда он был нелепым и застенчивым, и девочки были такими же.
Босой Скотт в джинсах и футболке открывает дверь, в руке лоснящаяся от маргарина лопаточка.
– Привет, друг. Слушай, мне очень надо поговорить с тобой о…
– Братан! – ревет Скотт – Входи! Я так рад тебя видеть, что эмоции просто душат!
Джон идет за Скоттом на кухню, и незнакомый запах гонит из Джоновой головы все цели его прихода. На высоком табурете сидит юная черноволосая красавица, тоже босая. На ней не по размеру большая белая рубашка, которая низко свисает поверх серых спортивных штанов, украшенных названием Джоновой и Скоттовой школы (только последний слог выглядывает из-под длинного подола). Чтобы освободить свои маленькие ручки, она несколько раз подвернула рукава, а брючины сбились вокруг ее голых лодыжек.
– Джонни, Мария. Мария сегодня закончила второй этап курса для начинающих в нашей школе, и у нас праздничный ужин.
Скотт стоит у плиты и что-то скребет.
– Мария, это вот Джон, мой родной брат.
– Я очень счастлива узнавать вас.
– И поскольку это вроде как частный праздник, – широко улыбаясь, продолжает Скотт, нарочно говорит слишком быстро, чтобы подружка не разобрала, – я очень надеюсь вскоре увидеть тебя снова. Это было бы клёво. Мне прямо не терпится. Только не забывай прежде звонить. – Дверь закрывается за Джоном, он прикидывает, не позвонить ли Чарлзу Габору и не позвать ли выпить, но потом, раздумав, начинает спускаться к далекой реке по склону темного пригородного холма, где не ездят такси.
XVIIПять или шесть последних десятилетий дома в центре Будапешта – не в пример таким же домам, построенным богачами девятнадцатого века в Париже, Бостоне или Бруклине, – разрушались, брошенные, под приливом времени, не огражденные деньгами, открытые свирепым ударам неумолимого прибоя. Поздним вечером 4 июля 1990 года любой темный и узкий переулок центра, точно витрина музея естествознания, покажет прохожему все образовавшиеся в итоге напластования и отложения.
Например, декоративная железная решетка перед тяжелой резной входной дверью со стеклами в свинцовом переплете у дома номер 4 задета лишь слегка: черную краску полностью соскоблили – не осталось ни пятнышка – местами понаросли ракушки ржавчины, однако пухлые железные листья, изящный кованый плющ и даже хрупкие металлические веточки еще прочны. Хотя матовое стекло за кованой решеткой под мерным плеском волн давно сменилось деревом и гвоздями.
По соседству, в доме номер 6 за незапертой дверью подъезда по сей день видишь старые квадратные плитки на полу. Время перекрасило их, упрямо настаивая на двух оттенках исчерченного серым тускло-бурого взамен позабытого выбора человека – перламутра и черного дерева, а затем раскололо почти каждую, а многие засосало целиком, оставив там и сям небольшие квадраты мягкой серой пыли, набившейся до уровня пола – хитроумно замаскированные ловушки, что заманивают и пожирают высокие каблуки и наконечники тростей.
Шумная куча народу толчется у входа в дом 16 на углу, где улица впадает в маленькую площадь. Фасад здания настолько истерся, что каменные гирлянды подокнами парадоксально кажутся одновременно гладкими и раскрошенными. Балконы, как у Джона на проспекте Андраши, – для любителей риска. Пулевые выбоины, отпущенные двумя дозами, до сих пор изрывают фасад, будто следы огромных камнеядных термитов. Одна из этих выбоин – к вящему веселью не одного поколения окрестных детишек – рассекает пухлый каменный зад парящего херувима, в чьих руках – конец распадающейся гирлянды. Когда стреляли, херувим смотрел, обернувшись через правое плечо, и теперь пытается разглядеть свою рану. Легко представить, как юный русский или немецкий оккупант, опустив кое-какие важные детали, докладывает о своем выстреле как о подтвержденном убийстве врага, или как в пятьдесят шестом снайпер-повстанец, занявший позицию, скорее всего, в окне собственной спальни, заскучав в затишье между схватками, тренирует глаз на подвернувшейся цели, которую видел перед собой ежедневно и еженощно девятнадцать лет.
Дом 16 построен в 1874 году – в подарок. Год постройки вырезали рядом с латинизированным именем венгерского архитектора на декоративном каменном рельефе над входной дверью, но к 1990 году семерка и половинка восьмерки превратились в прах (лениво роняя по зернышку породы, как в образах вечности у эстетствующего проповедника) и остался только загадочный иероглиф, дата без десятилетия и почти без века, 1Е 4.
Но в 1874 году дом построили в новейшем (французском) стиле. Это подарок беднеющего богача среднему сыну на свадьбу. Сын с молодой женой вступают во владение домом в июне, через месяц после того, как вырезана дата над входом. Они едут в коляске с будапештского вокзала Ньюгати, только что из свадебного путешествия, побывав в Вене, Италии и Греции. Муж помогает жене сойти, берет под руку, ведет десять шагов от дороги до крыльца мимо клумб и кустов, мимо встречающих слуг (в комплекте с домом – повар и две горничных). На пороге он улыбается ей, что-то шепчет на ухо, она краснеет, он целует ей руку.
– Добро пожаловать домой, дорогая, – говорит он. И горничная распахивает хозяевам дверь.
К девяностому году ни клумб, ни кустов не осталось. Дорогу расширили, и теперь только тротуар в несколько футов отделяет шесть толстых бетонных ступеней крыльца от ежедневного парада дымящих выхлопных труб и лысой резины. Боковая дверь для жильцов ведет во внутренний двор, оттуда – в перенаселенные квартиры верхних этажей. Тем не менее рядом с входной дверью прицеплена рукописная вывеска, красными и черными буквами по дереву: ISTEN HOZOTT А HÁZAMBAN (Милости прошу в мой дом).
Однажды вечером, когда уже вселились и расставили мебель, и у пары началась светская жизнь, отец дает новобрачному сыну понять, что содержать трех не занятых делом сыновей денег не хватит. Большой пирог отцовского состояния закономерно перейдет старшему, двоим младшим выйдет небольшое годовое содержание – хватит, чтобы оплачивать насущные нужды, например, дом, но отнюдь не достаточно, чтобы жить только на это. В малом кабинете рядом с главным залом отец сообщает эту новость молодому хозяину с игривой неизбежностью в голосе: удивляться нечему, другого и нельзя было ожидать или предполагать. Дом, объясняет отец, нужен, чтобы обеспечить им твердую почву под ногами, и в следующих поколениях рода он также должен служить этой цели. Притворяясь, будто не замечает, какое у сына лицо, отец перечисляет несколько возможностей, которые мог бы ему устроить, ничего сильно обременительного или неподобающего, хорошие варианты, есть над чем подумать, спешить, конечно, некуда, но только скажи мне, к чему больше склонен: место на бирже, участие в каких-нибудь коммерческих предприятиях, пост в правительстве. Сын молчит, гнев пересиливает первое изумление от предательства. Отец, все еще избегая его взгляда, заканчивает отрепетированную речь, говорит, что понимает, мальчику нужно время подумать, и просит проводить к выходу. Хозяин дома ждет, пока стихнут шорохи отцовского ухода, и швыряет в стену кофейную чашку, которая разлетается вдребезги со звоном, который заглушён только свирепым потоком грязной брани.
Эту вывеску – ISTEN HOZOTT A HÁZAMBAN – Тамаш Фехер повесил в 1989 году, когда законный статус его нового заведения еще не был определен. Это шутка, неубедительная маскировка, которой никого не рассчитывали обмануть. Но и с прочным легальным статусом клуба старую вывеску не заменили ничем более официальным или удобным. Наоборот, заведение набирало популярность вообще без всякого названия и стало широко известно просто как «А Házam» (Мой дом). Внутренность дома за 116 лет существенно изменилась; малый кабинет (где разбилась первая чашка из свадебного фарфора) лишь приблизительно совпадает с «Подсобкой-2», где штабель из коробок с напитками и рядом – стол Тамаша. В любом случае малый кабинет рядом с главным залом был больше «Подсобки-2», и если фарфоровая чашечка разлетелась как раз над тем местом, где стоит у Тамаша на столе портрет венгерской фотомодели, то бросили ее с точки, расположенной по ту сторону перегородки, отделяющей «Подсобку-2» от бара.
Шум скоро привлечет его любопытную жену. Невыносимо представить, что она увидит его таким, потерпевшим унижение от отца и брата. Он стремительно идет из комнаты, минует испуганную горничную, которая спешит убрать осколки, и сворачивает от главной лестницы, будто бы не слыша, как жена зовет его. Еще плохо знакомый с устройством своего нового дома, он оказывается на кухне, быстро шагает мимо озадаченного (и территориально ущемленного) повара и безликой второй горничной, занятых беседой, – те вскакивают на ноги и кланяются вслед разгневанному хозяину. Он отворяет сначала одну дверъ, за которой только кастрюли и сковородки, потом другую – передним оказываются кирпичные ступени, и он спускается. На лестнице полная тьма, и он в гневе поворачивает назад.
– Gyertyát! – требует он, и горничная немедленно исполняет. Вооружившись свечой, он затворяет за собой дверь и снова начинает спуск. Он стоит на новеньком кирпичном полу – до сих пор не знал, что в доме есть подвал, выбеленный и чистый, большой, одной свечи не хватает его осветить.
В девяностом подвал освещают металлические лампы: простые круглые колпаки, внутри у каждого по одной необыкновенно яркой лампочке, на пластиковых зажимах прицеплены к водопроводным и паровым трубам. Лампы повернуты в углы – туда, где грязные белые стены сходятся с растрескавшимся потолком. Отраженного света хватает, и даже получается настроение. Тамаш радовался, когда его подруга-модель привезла ему эти пятнадцать ламп в подарок, и еще больше гордился, когда она рассказала, что крала их по одной-две из студии одного западногерманского фотографа, обосновавшегося в Пеште. Вечером на Четвертое июля 1990 г. безоконный непроветриваемый подвал вместил человек двести пятьдесят.
Раздумывая, что сказать жене, он обходит подвал по периметру. Левой рукой слегка касается белой оштукатуренной стены. На полках, врезанных в стену, кули с картошкой, мукой и всякой провизией. Определяя форму комнаты, он движется наискось через середину. В центре холодного прямоугольника в высоком деревянном стеллаже полулежат бутылки с французским и токайским вином. Не иначе, подвал тянется под всем внутренним двором. Хозяин пытается вспомнить расположение комнат на верхних этажах и бродит бесцельно, нося с собой маленький круг желтого света и угадывая, что за мебель проплывает сейчас над его головой. Прямо над ним, кажется ему, большое мягкое кресло у камина, а над ними – кровать, а над ней – умывальный тазик служанки, потом крыша с птичьими гнездами, потом небо. Сквозь всю эту мебель, невесомую над его головой, по невидимым полам бродят слуги и жена, ярусами друг над другом плавая среди тщательно подобранных декораций. Тут незваная мысль утешает его и ставит все по местам: если удастся устроить гибель старшего брата, все опять будет хорошо. Он выпрямляется, поворачивается к стене, вновь смотрит наверх и задумывается, как это можно осуществить. Он знает, что никогда этого не сделает, пусть и надеется, что мог бы. Ни за что на такое не пойду, говорит он вслух, тем самым разрешая себе составить план действий.
У одной короткой стены Тамаш построил маленькую деревянную сцену, где-то в четыре с половиной фута высотой. 4 июля 1990 года на этой сцене – «Жопа-касса», группа, состоящая из трех мужчин и женщины. У женщины черное вечернее платье и черные туфли на шпильке. Она платиновая блондинка с ровной закругленной стрижкой в стиле Голливуда конца 50-х. Пока она держится позади, пережидая инструментальный проигрыш, на ее лице отражается мимолетный интерес к товарищам по команде и спокойное равнодушие к сотням обращенных на нее глаз. Трое музыкантов играют вступление к шестой и последней песне последнего из трех оговоренных контрактом выходов за вечер. На мужчинах тоже черные вечерние платья и туфли на шпильке, как и у певицы, а их платиновые волосы так точно копируют ее прическу, что можно подумать, будто у нее тоже парик. Один музыкант играет на разных детских инструментах – гавайские гитары, банджо, ковбойские гитары, мощно усиленные, бьют из нескольких больших динамиков, развешенных по подвалу. Второй с невероятной ловкостью играет на бас-гитаре, выдавая фанковый грув, перекрещенный пулеметной дробью трелей тридцать вторых и шестьдесят четвертых, как стильный костюм перекрещивается патронташем. Его «туц-дыц-дыц» заставляют танцующих скакать и дергаться в потном азарте. Третий музыкант сидит за батареей кассетных магнитофонов, подключенных к общему пульту. Откидывая с глаз платиновую челку, он одновременно приглушает одни и раскручивает погромче другие кассеты. Пока играют песню, он оркеструет:
• плач младенца и голос пожилого мужчины, пытающийся успокоить по-венгерски;
• речь на русском языке из советской эпохи (все венгры в зале на том или ином этапе образования должны были учить русский, но теперь предметом гордости стало заявлять о беспамятстве, а высочайшим достижением – незнание вообще ни одного русского слова; это распространенное заявление опровергают танцующие, многие из которых смеются и строят рожи);
• песенку из музыкальной заставки американской детской телепередачи, исполняемую в радостном мажорном ключе мужчиной, женщиной и несколькими одаренными детишками;
• старания какой-то венгерской пары, стоны и скрип кровати;
• нашинкованный британский крокетный комментарий: «южноафриканцам нужно одолеть довольно крутой холм довольно крутой холм нужно одолеть довольно крутой-крутойкрутой холм крутойкрутой холм нужно одолеть южноафриканцам довольно крутой холм нужно одолеть сегодня, Тревор, Тревор, Тревор, Тревор».
• государственный гимн Венгрии, спетый мимо нот тремя венгерскими друзьями «Жопы-кассы». Они изображают дебильных школьников и секунд через десять три голоса уже оказываются на трех разных строках гимна, аплодисменты и вопли толпы заглушают все, национальный гимн спутывается до полной непостижимости.
Он медленно идет на середину комнаты, к винному стеллажу, мысли текут одна за другой. Проще простого – расшатать этот стеллаж, чтобы он, например, упал на того, кто потянется за бутылкой на верхней полке. Тогда будет кровь, переломы, и если это случится поздно вечером, а жертва уже изрядно выпьет, объяснение происшествия будет рдеть у самого мертвеца на красной физиономии. «Я расскажу отцу, как рад принять его предложение, как здорово все устроится с этим маклерским местом, а потом приглашу моего милого брата к себе отобедать по-братски. Как поздно мы засидимся, как доволен я буду, когда жена отправится в спальню, как любезно отпущу слуг, как весело мне будет сидеть за полночь, пить и болтать с любимым братом. А потом я сведу его вниз взглянуть на подвал. О, как дико мне будет! Как горько! Будто солнце угасло – нет, это слишком».
Посреди комнаты в самой гуще давки установлена деревянная платформа, поднятая, чтобы под ней можно было танцевать. Вознесенный макушкой под самый потолок армейский дружок Тамаша сидит за звукооператорским пультом. Прямо позади вышки, у ее щербатой и исписанной граффити деревянной лестницы, Чарлз Габор, одетый в черную тенниску и брюки-хаки, пихаемый толпой извивающихся, целует низенькую девушку, которую никогда прежде не видел, которая столкнулась с Чарлзом лишь пару минут назад и сразу же запустила руки ему в штаны.
А трудно ли отравить картофелину, гадает он, остановившись перед полками у задней стены. Нет, опасность, что ее съест другой человек, или… Конечно. Дом ведь новый. Балконы, наверное, приделаны плохо, перила могут держаться нетвердо, человек легко может упасть. Пожалуй, винный стеллаж – наилучший план.
В глубине комнаты на полке, врезанной в стену, Скотт и Мария, держась за руки, орут что-то друг другу, но, поскольку они сидят прямо под одним из клубных динамиков, скоро сдаются, охрипшие, и принимаются целоваться, иногда отвлекаясь на песню. Гитара и бас внезапно глохнут, лентопротяжный жокей выдает царапучую запись фанковых барабанов, и белокурая певица выходит к микрофону. Она закрывает глаза, складывает руки, положив ладони на груди, и на овенгеренном английском поет поставленным оперным голосом:
Мы все живем между молотом и наковальней
«Вог», «Мамзель» и «Гламур» помыкают нами.
Толпа, в разной степени владея английским, начинает подтягивать повторяющийся распев куплета, пение солистки между тем медленно скользит от оперной техники к хард-роковой манере, потом к грубому визгу. Она рычит все яростнее, младенец плачет все громче, гавайская гитара все пронзительнее, басовый грув удробляется дальше некуда, а венгерский государственный гимн вконец перепутывается. Люди, подпрыгивая, визжат слова гимна, пары танцуют, одни молодые мужчины толкают других, незнакомых. Венгры и иностранцы, дымящие у края сцены, пытаются выказать умеренную заинтересованность и почти все до одного скрипят мозгами, стараясь придумать, что им сделать или сказать, чтобы получить хотя бы чуточную возможность переспать с вокалисткой.
Гнев прошел, и с ним – самые изощренные планы. Он описывает еще один круг по своему подвалу, рука, которой он не переставая ведет по холодной стене, запорошена белым. Он снова подходит к лестнице, еще мечтая о смерти брата, но теперь это лишь жалкая попытка не думать, что сказать жене и на что согласиться. Он никогда не убьет брата. Нужен выход гораздо ужаснее.
В левой стене открывается единственный выход из танцевального зала – проем, в котором от ноздреватого бетонного пола подымается вверх кирпичная лестница, освещенная теми же лампами в колпаках. В этой единственной артерии – стеноз спускающихся потенциальных танцоров и поднимающихся пьяниц, чающих свежего воздуха. Курят все.
Июнь перешел в март, он снова сидит на подвальной лестнице, крошит в пальцах куски известки и старается не прислушиваться к воплям. Вместо этого пытается думать о разных вещах по своей правительственной службе. Должность его не тяготит. Все эти глупости, что он натворил, разбитая чашка… А оказалось, все проще простого. Даже довольно приятно. Конечно, он в тот же вечер сказал жене об известиях от отца, сказал, что ждал этого, знал за много месяцев, сказал, что просто не хотел донимать ее подробностями в медовый месяц, и разве не будет она гордиться, рассказывая подругам, что у ее мужа место на бирже, и… Но в этот миг проклятые слезы подступили опять, и, даже попытавшись было встать и выйти из комнаты, пока она не заметила, он дал себе вновь упасть в ее объятия, едва она взяла его руку, и просто плакал от стыда, а она гладила его по голове, смахивала белую пыль с волос, а потом стала целовать.
Вопли прекратились, но он не знал, когда – не знал, долго ли сидит тут в молчании и в темноте. Он вылез на кухню. Уже не прислушиваясь. Ясно, что криков больше не будет. Ей, конечно, ничего не угрожает, однако он будто прирос к холодной плите. И тут крики начинаются снова – теперь уже первые протесты новорожденного. Но с места все равно никак не сойти.
Лестница из танцевального подвала в «А Хазаме» ведет на первый этаж к бару и холлу. За стойкой Тамаш с двумя помощниками удовлетворяет запросы толпы. На стене у них за спиной висят в рамках фотографии советских и других восточноевропейских лидеров, все подписанные Тамашу, пусть по-венгерски, одной и той же черной ручкой и одним и тем же почерком. «Большой Тамаш, – гласит надпись по-венгерски на портрете Сталина, – я никогда не забуду тот раз с тремя польскими девчонками. Ты самый лучший. Джо». «Тамаш, мой дом – твой дом. Там всегда праздник. Ракоши». «Да, Тамаш, ошибки были, перегибы имели место, но только не у тебя, славный малыш (последние два слова по-английски). Никита X.» «Приезжай ко мне. Т.! Увидишь, какие бывают девчонки! B.N. Ленин». «Желаем всего самого доброго нашему дорогому юному другу Тамашу. Господин и госпожа Чаушеску».
Он все еще нет-нет и вспомнит, как планировал убийство брата столько лет назад и как в ту же самую ночь зачал ребенка, чье мучительное появление на свет убило мать; и в минуту самой острой боли он не может забыть, что два этих события связаны, его колет шип благоуханной религии, о которой он в другое время не вспоминает: зачав ребенка под сенью своего греха, он по сути убил свою жену – в ту ночь, за девять месяцев до ее гибели: он обладал ею, когда мысли об убийстве еще стучали у него в висках. В такие минуты его преступление настолько физически больно ему, что он зажмуривает глаза, прячась. Эта гримаса, уже не столь обычная теперь, десять лет спустя, до сих пор, не принося никакого облегчения, немедленно заставляет его почувствовать себя дураком, и это почти так же больно. Но вот нынче вечером, у камина, слабый огонь в котором не может согреть комнату, мальчик замечает отцовскую гримасу и в первый раз набирается храбрости спросить, что за боль заставляет отца так морщиться.
– Ты уже почти совсем большой, на колени не взять, – отвечает отец, поднимая мальчика от солдатиков к себе на кресло.
Глядя на сына, он вызывает в себе любимую мысль, которая в прошлом не раз его утешала: «Многие на моем месте считали бы мальчика убийцей матери, но только не я; в моих глазах он безвинен. Я никогда не заставлю его платить за то, что он сделал со мной».
Деревянные кубы, горсть табуреток, парочка разномастных где-то подобранных кабинок и несколько ветхих диванчиков, в беспорядке разбредшихся по комнате, составляют обстановку холла. Всюду, где можно, сидят люди: курят, пьют, целуются, смеются, глядят. Потолок скрывается под плацентой табачного тумана, связанной сотней дымных пуповин с сотней курящих зародышей.
Он умер необычно теплой весенней ночью, дожив лишь до сорока двух. Сын, теперь уже девятнадцатилетний солдат армии Императора, нашел тело отца лишь наутро, поскольку провел ночь не дома – сначала был в карауле, а потом с двумя товарищами в борделе; дом перешел в распоряжение дядьев и адвокатов, сына он поначалу не интересовал ни в каком смысле. Спросить его, там никогда не было ничего особенно светлого и интересного. С этими бодрыми словами он повернулся спиной к отцовскому гробу и зашагал в казармы рука об руку с товарищами, каждому из которых не терпелось «потрясти жизнь за ноги и увидеть, что посыплется у нее из карманов».
Уже к июлю девяностого «А Хазам» плясал на краю пропасти – перенаселенности; и каждый чувствовал, что тайна выпорхнула у него из рук. Самым продвинутым венграм казалось, что здесь стало слишком много иностранцев, самым продвинутым иностранцам казалось, что стало слишком много незабойных иностранцев. Остальные иностранцы, которым и невдомек, что они незабойные, замечали тут слишком много очевидных туристов. К сентябрю здесь будет лучшее ностальгическое место, куда больше нельзя прийти без грусти о старых добрых временах, когда оно было только твоим. Но в июльские недели, пока «А Хазам» не удостоился хвалы в одном университетском «экономном путеводителе», как самая характерная тусовка местных, он для всех еще остается лучшим выбором.
Через несколько месяцев вопреки резкому – по такому случаю – совету дядьев и юристов он проявил твердость и велел продать дом и все движимое имущество в нем по самой высокой цене, а деньги положить на его счет. Вкупе с отцовским наследством это должно обеспечить хорошую рессору под его военной карьерой. Расстроенные дядья прежде видели мальчика не чаще раза-двух в год – с течением лет брат все больше старался держать его при себе. Им помнился тихий мальчуган, который хотел поступать по отцовскому велению, и потому их слегка удивляет его неожиданная решительность и оскорбляет то, что их советы так легкомысленно и бесцеремонно отброшены. Младший из дядьев, тем не менее, приглашает солдата на обед в «Казино» и находит племянника довольно занятным, хотя на уме у того нет ничего серьезнее, чем женщины, новые комические оперы и продвижение по службе. Дом продали по выгодной цене через пять недель, и с тех пор никто из дядьев больше не слышал о молодом солдате.
Через двадцать лет, в октябре 1915 года, тот, кто обедал с ним в «Казино», наткнулся на его имя в списке павших героев в «Пробуждении нации».
Парадная дверь отворяется в июльскую жару, за дверью шесть бетонных ступеней спускаются к узкому тротуару и дороге. На четвертой снизу ступеньке сидят Марк Пейтон и Джон Прайс. По ту сторону маленькой площади несколько пожилых женщин высунулись из окон верхних этажей, не то с возмущением не то с любопытством разглядывая бурлящую внизу толпу молодежи.
Эмили Оливер то и дело подсаживается к мужчинам то слева, то справа от Марка, и отраженный свет фонарей выгибаются над ее темными глазами. Эмили смеется Джоновым шуткам, он наблюдает, как она слушает рассказы Марка о последних находках, и у Джона обостряются чувства (а еще – когда Джон с Эмили танцевали в парном подвале и пили в прокуренном баре), он не только может воспринять больше, например, запахов, но и различает у них больше смыслов: последний раз, когда она сидела тут, какой-то компонент ее духов смешивался с ароматом деревьев, выросших на этой улице, и выхлопы маленьких автомобильных дизелей в летнем воздухе путались с конкурирующими сортами табачного дыма, пока все это не слилось в запах важности и начала, полной жизни и навсегда памятных мгновений.
– Потому что новое не имеет никакой ценности, – скорбно говорит Марк Эмили. – В науке – наверное, имеет, но даже это в действительности совершенно никак не повлияет на вашу или мою жизнь. Научные открытия приносят пользу только спустя годы. Остается лишь ностальгировать по тем действительно старинным ученым-медикам. – Джон щелчком выбрасывает окурок на дорогу и отклоняется вбок, чтобы освободить толпе американцев проход между собой и Эмили. Когда он выпрямляется в позу для беседы, Эмили исчезает в дверях в стайке шумных Джулий.
И потом, когда, утаскиваемая Джулиями с крыльца и прочь по улице, она махала им с Марком и никому в отдельности, Джон быстро проклял одно за другим свою беспомощность, вторжение Джулий и неприступность Эмили. Былая смесь ароматов теперь створожилась от слабой горькой капли – наверное, это привкус постоянной безысходности. Эмили заперта за какой-то стеной, и Джону не понять, хочет ли она, чтобы он прорвался к ней, и если да, то почему не хочет или не способна ему помочь. Версии множатся, противореча друг другу: он не подходит ей, потому что не умеет без усилий быть открытым и сердечным, что ее только огорчает; она знает что-то такое, чему, как дыханию, нельзя научить, и неосознанно ждет от него доказательств, что он тоже это знает. А может, ему надо быть понахальнее. Или поскромнее.
– Это правда, точно, это вы? – кто-то спрашивает Джона. Две подружки-венгерки лет семнадцати-восемнадцати, остановившись у крыльца, оборачиваются на Джона с нетерпеливым изумлением и счастливой неуверенностью Одна что-то шепчет, обе хихикают, потом девчонка похудее подталкивает девочку потолще к Джону.
– Это вы, вы?
– Кажется, да – говорит Джон.
Плавно раскрутить ситуацию – это позабавит Эмили, думает Джон, и лишь потом вспоминает, что Эмили здесь больше нет.
– Мы очень большие поклонницы вас, – говорит вытолкнутая подружка.
– Все фильмы! – выступает вперед худенькая, жалея, что отдала другой преимущество такого легкого разговора. – Мы видели все ваши фильмы!
– Правда? – говорит Джон. – И какой же ваш любимый?
Громко хохочут.
– Я не знаю названия по-английски, – говорит одна, слегка задыхаясь. – Его показывали в прошлом месяце в «Корвине». Там, где вы потерялись в открытом космосе с блондинкой и двумя смешными собачками.