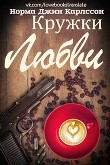Текст книги "Прага"
Автор книги: Артур Филлипс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
– Если быть внимательным, в лагере можно многое о себе узнать, – в какой-то момент говорит Имре Марку, и Джон проникается собственной малостью и бесполезностью в присутствии человека, прожившего такую жизнь. – Моя типография оказалась в самом центре восстания 1956 года, – говорит венгр хмурому канадцу минутой позже, и Джон закатывает глаза.
Ресторан расположен в тени Вайдахуньяда, паркового замка девятнадцатого века, а в этом обеденном зале окна выходят на две стороны: с одной вырисовываются очертания замковой башни, с другой луна только что с широкой улыбкой начала свой долгий ежемесячный зевок. Чарлз общается с официантами в выразительно повелительной манере, каждым жестом показывая свое умение руководить. Вина он тщательно подобрал накануне, и теперь поднимает первый тост за будущее «Хорват-пресс» и за память венгерского народа. Четыре бокала сходятся и звенят под сияющими призмами и электрическим жужжанием люстры.
Невзирая на сомнения Джона в Марковой устойчивости к давлению, Пейтону дали роль Чарлзова доверенного советника по культуре. Он практически играет ее как мим; почти не говорит, только с предсказуемой задыхающейся ненасытностью выслушивает рассказ Имре.
– После войны ко мне пришел один писатель. – Имре складывает руки и наклоняется к Марку, однако смотрит поверх головы собеседника, выглядывая прошлое. – Он печатался в нашей типографии еще во времена моего деда,можете ли вы поверить? Отцу, однако, пришлось расторгнуть договор с этим писателем, потому что его сочинения никто не покупал, но я знаю, отцу хотелось бы его удержать, несмотря на убытки. Этот парень в своей жизни вращался в замечательной компании, входил в клубы писателей и художников, принадлежал, знаете, влиятельному и важному поколению… – Марк слегка, кончиками пальцев правой руки касается левой ладони и медленно кивает.
Четверо официантов вносят первое: тушенное в пипераде филе балатонского фогаша, заказанное Чарлзом накануне после совещания с шеф-поваром. Официанты одновременно ставят перед каждым из четверых едоков увенчанную куполом тарелку и по сигналу с изящным взмахом поднимают крышки. Следующие три с половиной часа вино снова и снова меняет цвета, крепкое сменяется дымчатым, потом вязким и сладким. Блюда меняются и меняются, и вот уже рыбный старт – такая же далекая память, как детский завтрак на траве: аромат соуса, запомнившийся обрывок разговора, мимолетный солнечный луч на чьем то лице. От рыбы к овощам, к супу, к мясу, к пирогу, к сыру и фруктам Джон старается выстоять против ураганного Имре, пока нотации и монументальные истории, дерзкие риторические вопросы спутываются в один длинный монолог, который назавтра в памяти Джона поглощает не часы, а недели, и адресуется только ему – долгое погружение в Имре, которому Джон никак не мог противиться:
– Произведение искусства, мистер Прайс. Это наша жизнь, любая жизнь может быть такой. Думаю, и вы, наверное, тоже такой. Я думаю, мы не такие уж разные, вы и я. – Джон молча надеется, что это может быть правдой. – Жизнь должна иметь смысл, у нее должно быть начало – когда открывается ее цель, середина – когда цель достигается, и финал – когда эта цель становится ясна другому, следующему поколению, которое сможет сохранить эту цель и передать ее дальше. – Джон подозревает, что Имре говорил это и прежде, знает, что сейчас тот говорит лишь для газеты, но в то же время Джон не может отвязаться от непрошеного и досадного, глупого чувства, что Хорват открывает ему самое важное; Джон готов поклясться, что навсегда запомнит эти минуты. – Немалые силы употреблялись, чтобы затоптать мою цель. Но меня было не свернуть. Я говорю это не в гордость. Я не хвастаюсь, – хвастается он. – Я говорю это в удивление: такова жизнь, что я просто следовал тому, что знал за истину, и мне давалась сила. – Блюда приносят и уносят, но перевоспитание продолжается без пауз, Джон наклоняется к Имре, зубами прикусив большой палец. – Я рассказываю свою собственную историю. Они хотели отнять ее у меня, рассказывать вместо того свою историю, но они проиграли. Это худшее насилие, которое один человек может сотворить над другим, молодой сэр. Вы это понимаете? Есть пытки, но их можно вынести. Есть тюрьма, но и это не самое плохое. Но отобрать у человека историю – значит отобрать его жизнь, его цель.
Джон отмечает, что Имре идет по кругу, старается выскользнуть из его хватки и снова почувствовать себя взрослым.
– Молодежь умеет выносить такие обеды, – говорит Имре. – Вот мистер Пейтон может пить четыре разных вина, и его лицо остается таким же спокойным и серьезным, как вначале. У меня есть один совсем дальний родственник, который ушел в монахерь, и там… Нет, я неправильно сказал, да? – спрашивает Имре и громко смеется вместе с остальными, вытирая глаза. – Спасибо, Карой. Он ушел в мо-нас-тырь, – Имре произносит по слогам, – и принял обет стать умеренным аскетом. Вот не думаю, что такое было бы подходяще кому-то из вас, кроме, может быть, вас, мистер Пейтон.
И все опять смеются.
– Умеренным аскетом? Это немного чересчур, нет? – спрашивает Джон. – Если собираешься в чем-то себе отказывать и притом отказываешь себе даже в удовольствии в чем-то себе отказывать, это, наверное, обидно.
Имре хохочет громче всех, и у Джона прилив гордости.
– Джон, какое слово по-английски… – спрашивает Чарлз с намеком на венгерский акцент, когда усеянные крошками десертные тарелки уплывают, и появляется третья порция сладкого «токая» в маленьких стаканчиках. – Как будет. – Чарлз машет рукой, пытаясь поймать нужное слово и отметая все постороннее. – Mi az angolul, hogy megelégedettség? – спрашивает он Имре, и тот кивает и говорит по-английски:
– Точно, точно так, Карой… Первый раз я пил токайское в «Гербо» с матерью. Я вспомнил об этом, когда мы с вами первый раз там встретились. В тридцатые годы жизнь здесь, в Будапеште, была действительно славная. Боюсь, я начинаю разговаривать, как мой отец. Он всегда говорил: «Кто не жил до Первой мировой войной, тому, наверное, не понять, какой приятной бывает жизнь». Честно говоря…
– Извините, но это все херня, – говорит Марк, молчавший почти с середины этого многовекового обеда, и, сам того не замечая, опрокидывает пустой стакан. – Херня.
– Заткнись, Марк, – резко говорит Чарлз.
– Нет, в самом деле. «Вам не понять, какой счастливой бывает жизнь, если вы не жили в Бельгии накануне Первой мировой», Виктор Марго, 1922 год. «Если вы не бывали тут, в Виргинии, перед войной Севера и Юга, вы не представляете, какой прекрасной бывает жизнь». Джозайя Бернэм, 1870-й. Две фразы из Талейрана, если сможете вынести. Первая: «Кто не жил до Революции, не знает сладости жизни», и потом, переосмысливая многое: «Qui n'apas vécudans les années voisiness de 1789– кто не жил во времяРеволюции, не может знать, что такое радость жизни». «Сэр, вам не узнать, что значит хорошая жизнь, если вы не жили в зеленой Англии, пока эти германцы не пришли тут распоряжаться». Маркиз Уэстбрук, 1735-й. Херня, просто хернища.
Голос Марка повышается с каждой новой цитатой, и второй бокал, на сей раз – с остатками красного вина от начала вечера – летит на пол, кувыркаясь и ныряя, брызгая на распущенный галстук Имре.
– Имре, пожалуйста, извините меня за… – начинает Чарлз по-венгерски.
– Нет, нет! Все нормально!
Имре зачарованно смотрит на канадца.
– Я тебе говорил, что он немного того.
Джон смеется над Чарлзовыми усилиями сохранить спокойствие, пока Марк шарит под столом, поднимает бокал и наполняет его, не переставая херня-херня-хернищенствовать.
– Нет, нет. – Имре сжимает плечо Марка. – Он выдающийся человек, и он прав, наш ученый в нашем маленьком клубе. Как можно ждать, что мы повзрослеем и изменим мир к лучшему, если мы все будем грустить и страдать по какому-то другому миру?
– О том и речь, – говорит Марк, наливая и промахиваясь.
Имре отвлекается на винное пятно на своем галстуке от «Эрме», потом отрывает себя от галстука и, подняв бровь, глядит на Чарлза.
– Огонь, – твердо произносит Имре. – Огонь и жилы, чтобы сказать: «Хватит!» – «Это есть у молодежи и, думаю, у нынешней западной молодежи больше, чем у любой другой. Когда вы росли, у вас было все, так что теперь вы готовы потребовать больше, сказать: „Хватит!“» – Имре обращается ко всем троим, и как никогда прежде Джон видит в нем артиста и, что важнее, прекрасного артиста, несмотря на слабый материал: – Боюсь, что у этой страны, нашей МК, больше нет жил, но мы вернемся домой, мы с Кароем, и мы вернем им жилы. «Вот ваша становая жила», – говорим мы! – Он берет первый попавшийся стакан – стакан с водой, в котором субмарина окурка всплывает и погружается по команде нерешительного капитана. – За жилы Венгрии и за все, чему вы можете ее научить, люди с молодостью, люди с энергией, люди с Запада!
Четыре бокала звякают, слегка расплескивая жидкость.
– Довольно! – говорит Имре; во хмелю он достойнее всех остальных. – Теперь домой.
Чарлз, хозяин приема, хочет было опротестовать эту узурпацию его привилегии, но Имре говорит ему:
– Завтра нам с вами нужно поговорить еще раз, – и Чарлз не возражает.
Пошатываясь, они гуськом спускаются по лестнице. Подъем из-за стола и движение здорово их встряхивают, и они молча вышагивают шаткой колонной через пустой главный зал, где в притушенном свете ламп и под звук судомоек, механических и живых, сидя и стоя курят усталые официанты в расстегнутых испачканных черных бархатных жилетках и развязанных галстуках-бабочках, симметрично свисающих, точно кожистые боа из крыльев летучих мышей. Ресторанные скрипач и аккордеонист в черных с золотом национальных костюмах отложили инструменты и сидят за столиком в углу, поглощенные разговором, единственная лампочка на столе освещает каждому из них половину лица. Они лишь слегка поворачивают головы, целиком затеняя лица, когда четверо пьяных вываливаются за дверь ресторана и за ними лязгает замок.
Свежий воздух и запах деревьев перемешивают ощущения в их головах, ногах и желудках. Они плывут через влажный парк к возвышающейся впереди колоннаде площади Героев. Еще минуту или две никто не говорит, и вдруг Имре ревет в темноту – без слов, просто мальчишеский клич, который диковат остальным после какофонии в маленьком обеденном зале и последовавшей тишины. Чарлз смеется и тоже бессмысленно ревет.
– Хернища! – кричит в ответ Имре, с акцентом, который плавает где-то между Будапештом и Лондоном, и треплет Марка Пейтона по влажным рыжим волосам. Канадец смеется странным, задыхающимся смехом.
– Хернища! – во все горло подтверждает он.
Они выходят на площадь Героев, пустой залитый светом полукруг огромных колонн и статуй, выгнутый вокруг истока проспекта Андраши.
Джон приваливается к холодному камню постамента одной из статуй и чешет об него спину. Разговор не спеша продолжается, но Джон больше за ним не следит, лишь откалывает случайные кусочки и ненадолго подносит к уху.
– …сколько раз у нас хотели купить эту народную память, эту нашу ответственность, но ее нельзя купить, мы все сталкивались с этим, с этим искушением, да, Карой…
Имре откидывается назад и смотрит вверх на конного венгерского короля, гарцующего в центре площади, закусывает краешек губы и внезапно чихает с взрывным грохотом.
Джон медленно пятится по лабиринту плит мостовой, пока не нащупывает стопой бордюрный камень; резко оборачивается, смотрит на волну машин, несущихся так близко, что он мог бы потрогать их куцые боковые зеркала, пока они мелькают мимо.
Через некоторое время Джон в одиночку входит в «Блюз-джаз клуб», бросив прощальный взгляд через дорогу, где за потоком машин Имре, Чарлз и Марк, обняв друг друга за плечи, не в лад бьют чечетку.
Поначалу интерьер клуба не желает фокусироваться. Когда зрение наконец подчиняется, Джон сразу и с облегчением видит ее. Наверное, уже поздно: пятница, но в клубе осталось совсем немного народу: партия в бильярд, три курильщика, опутанных паутиной собственных синих выдохов, ансамбль – лысые американцы – получают за стойкой свой гонорар едой и выпивкой, парочка свежих любовников в углу, завившихся вокруг губ и тел друг друга, будто змеи на кадуцеях, да в другом углу – другая парочка, только эта вот-вот распадется навсегда, каждые несколько минут их голоса взлетают вверх и тут же обрушиваются в молчание, как прибой за окном пляжного бунгало поздно ночью.
– Как вы думаете, моя жизнь – произведение искусства? – спрашивает Джон, медленно трезвея, с рывками и неверными шагами, подвигаясь по скамеечке и шутливо, осторожно, толкая Надю бедром. На ней то же платье, что и в день, когда он впервые ее увидел.
– Скверный мальчишка, я пытаюсь играть на рояле. Сегодня никакие слезливые пьяницы мне не нужны!
Она целует его возле уха, и Джон улыбается с тихим умиротворением.
VIIНу все: я больше никогда сюда не приду, малыш. Конец эпохи. Она испаряется. Пусть уходит. Пусть у-хо-дит. – Скотт Прайс не обращается ни к кому в отдельности – четверо парней плюс Эмили пробрались в «А Хазам» в жаркий последний вечер необычно жаркого июля. «Жопа-касса» выступает в подвале перед стандартной толпой, но даже наверху вряд ли хватит места, чтобы шевелиться, и воздуху, чтобы дышать. Табачные облака сегодня висят низко, всего в паре футов над головами; в них можно погрузить руку по самое запястье. – Кто все эти люди? – ворчит Скотт. – Это не мы, эти люди – не мы. Может, это всё туристы? Как это грустно. Знаете, Мария говорит, венгры никогда не воспринимали это заведение серьезно.
Гомон бара на пять частей состоит из английского и на три части – из венгерского, деформированного перемешанными акцентами. Локти мужчин и декольте женщин – равно действенное средство пробиться к стойке бара, но уж там только лохматые горсти хрустящих форинтов, высоко поднятые в кулаке, способны привлечь рассеянное прохладное внимание бармена. Логистика требует заказывать по несколько напитков за раз, и вот пятеро стоят, сжимая многочисленные стаканы и вертя головами, с прищуром землепроходцев озираясь в поисках места, где присесть.
– Терпение лопнуло, мальчики и девочки, – вздыхает Скотт. – Мы вымирающее племя, и чуждые демоны заполонят наши зеленые луга.
Динамики заливают все кругом потоками британской и американской танцевальной музыки, и попытки протиснуться через зал к только что освободившейся кушетке (опа! уже занято!) – как движение сквозь тесный влажный пищеварительный тракт какого-то животного, тяжелый музыкальный ритм – как биение близкого, громкого сердца. Пока они протискиваются, виляя, громкие обрывки разговоров вылетают из толпы и падают им под ноги: по-венгерски, по-венгерски, по-венгерски …наше звучание – это будет звучание…по-венгерски… сначала я собираюсь его написать, потом предложу студиям… она, блядь, прям горит., вернусь в Прагу как можно скорее,пожалуйста… по-венгерски… можно мне проскочить с тобой, мне надо… про Венгрию и венгров надо понимать одну вещь… нет, финдесикли: они как попсиклы, только в форме…по-венгерски… ну и в жопу Штаты… хочешь, приходи еще, я тебя нарисую… чувак, поезжай в Прагу, ты забудешь эту страну через двадцать секунд…по-венгерски… два дня здесь, два дня в Праге, потом экспресс до Венеции, не знаю, мы говорили про восток, типа Москвы… формально, я им насчитал вдвое, только не болтай… бесполезно, в общежитии, в общем, жутко…по-венгерски… «Жопа-касса» рулит, ты послушай этих ребят, они стебут… красотка и мексиканка и три с половиной банки масла… как сказать «поцелуй меня» по-венгерски?..по-венгерски… Я поэт, поэт,вадьок, как Янош Арань… деточка, Прага настолько обогнала…csókolj meg!
Из эпицентра давки и какофонии Марк видит нерешительно покидаемые диванчик и стол и неуклюжим прыжком первым оказывается на месте и их занимает.
– Ктовсе эти люди? – говорит Скотт Эмили, не сдерживая злобу. – Кто им посоветовал сюда прийти? Наши не должны…
Чарлз велит ему заткнуться.
– Нет, это тызаткнись.
С дивана Джон смотрит на Эмили, она сидит на столе, склоняясь, что-то говорит Марку. Джон раздумывает, припомнить ли ей поцелуй на мосту или притвориться, что его никогда не было, пытается точно дозировать свое внимание к Эмили в этот вечер, а потом, сам не уверенный в том, что было на мосту, сосредоточенно старается воспроизвести, ретроспективно хронометрировать и определить эмоциональное значение реакции каждого отдельного ротового мускула. Он слушает, как Эмили описывает Марку ухажера Джулии, и невольно представляет, что в этом описании отражается зашифрованное отношение самой Эмили к Джону: за «Джулией» скрывается Эмили, за «Кэлвином» – Джон. Джулия огорчается, Кэлвин для нее – все, что – дальше не слышно: Чарлз, надрываясь, что-то толкует Скотту про бизнес. Но я думаю, как Кэлвину пришлось – если Хорват, с другой стороны. Она определенно думает, что Кэлвин – это единственный способ завоевать доверие Хорвата и довести дело до конца, если она скажет ему, к чему это ее приведет? Или пусть скажет? Не с макаками, которые засели в Государственном приватизационном агентстве.
Две руки опускаются сзади на плечи Джону, и чей-то голос шепчет в ухо: «Лучшая радость – неожиданность». Удивленный и смеющийся Брайон – стремительный калифорнийский кореец, знаменитый восемь лет назад в школе Джона и Скотта вечеринкой в стиле маркиза де Сада, – появляется, окутанный совпадением, проступает в реальность, и Джон, моментально чувствуя, что уменьшается в росте и тускнеет, как и положено человеку, которому выпало представить компании новичка, представляет компании новичка. Брайон осекается, когда Джон говорит: «И, конечно, ты помнишь Скотта».
Джон наслаждается почти нескрываемым ужасом в лице брата, пока Брайон пытается увязать красивого мускулистого мужчину с неисправимым зубрилой и жирнягой двенадцатилетней давности.
– Конечно. Чувак, ты обалденно выглядишь! – только и может сказать Брайон, и Джон чувствует себя крупно ограбленным.
Брайон, в Будапеште в двухнедельном отпуске, садится за стол рядом с Чарлзом и батареей ожидающих напитков. Шесть лет, прошедшие с последней встречи с Джоном, Брайон описывает за полторы минуты: после колледжа одно лето работал в родном городе, в «парке, блядь, развлечений по мотивам Мориса Эшера», [59]59
Морис Корнелиус Эшер (1898–1972) – голландский художник, работавший с «невозможными фигурами» и изображениями бесконечности.
[Закрыть]занимался строительными работами, что по большей части значило прибивать лестницы вверх ногами к потолку. Потом вернулся в Нью-Йорк, еще раз попытался стать актером, но смог устроиться только моделью, причем последнего, унизительного сорта – моделью для паспарту. Полгода его фотографировали, пока он обнимал женщин под деревьями, качал детишек на качелях, в усыпанном блестками островерхом колпаке вглядывался в туманную даль, подняв новогодний бокал, и даже в исторических сценах, где его одевали в «китайский костюм» рубежа веков и ставили перед пыльным черным занавесом мрачно глядеть в старинный черно-белый фотоаппарат, который по десять секунд записывает каждый снимок, и всю эту работу заказывали производители паспарту, чтобы заполнять свои паспарту на витринах фотомагазинов привлекательными фантазиями-подсказками. Между прочим Брайон рассказал, как, будучи приглашен в первое свидание на домашний ужин в квартире одной «призрачно одинокой очень некрасивой» женщины в Нью-Йорке, увидел на полке над ее кроватью прямоугольную посеребренную рамку с паспарту четыре на шесть дюймов, в которой все еще содержался фабричный наполнитель – фотография Брайона (в толстом свитере, разгребающего ногой листья, задумчивая осенняя сцена).
– Лежу на ней, собираюсь кончать, и вдруг смотрю – а там я, в осеннем раздумье. Надо сказать, это было реально сильно. Странная такая красота. Одну ночь над кроватью этой женщины в самом деле стояла фотография ее бойфренда, одетого, как и полагается бойфрендам, в толстый свитер, только она об этом так и не узнала.
Махнув рукой на актерство, Брайон в итоге оказался в рекламе, и до сих пор там, и весьма преуспевает.
– Если я скажу тебе, Джонни, сколько денег я сделал, ты начнешь кашлять кровью, как чахоточный.
Брайон описывает свою работу в креативном отделе большого нью-йоркского агентства, в секции, которая нацелена на «тех, кого мы по нашей таблице одиннадцати групп классифицируем как „якобы волков-одиночек“»:
– В принципе, потребительские привычки каждого отдельного человека можно отнести к одному из одиннадцати типов. Это научный факт. Каждого человека на земле. Настоящие волки-одиночки на рекламу, конечно, не реагируют, но на всей планете таких не больше дюжины. А вот якобы волки-одиночки – другое дело. Очень большая ответственность, покупательная способность на миллиарды.
Джон наблюдает, как внимание Эмили льется на новичка, и тот тянется им упиться.
– С ЯВО главное – играть на бунт, чрезмерную эксцентричность и антисоциальную, даже патологическую грубость. Мы называем это «внутренними маркерами самооценки ЯВО». Вот, например, для «Пепси» я написал рекламу – ладно, честно сказать, это была командная работа, – ту, где парень, скрестив руки, облокачивается на заборчик, и на экране нет никакой колы: видно, что парень сердится, и он говорит: «Отвалите от меня с этой вашей дрянной мишурой. Я буду пить, что захочу, потому что я пью для себя, а не для болванов с Мэдисон-авеню, которые думают, будто знают все про мое так называемое поколение». И он выставляет пальцы, вот так, чтобы поставить кавычки вокруг поколения.Потом плюет, и экран темнеет, и ты видишь логотип «Пепси». Очень круто.
Пока Брайон говорит, все, даже Чарлз, склоняются к нему, будто он – только что прибывший в скучные болотистые леса Нового света посланец из Европы, принесший новости о родных, о городах, о королевском дворе.
– Все еще девственник? – при всех спрашивает Брайон у Джона.
– А как же! – отвечает Джон в ужасе, с особенным смешком, которым надеется замаскировать тему и загипнотизировать друзей. – Ты тоже?
– Невероятно! – рычит Скотт, когда локоть толпы, обтекающей кушетку, толкает его руку со стаканом.
Брайон отходит к бару и через несколько минут возвращается со стаканом и с парнем не старше девятнадцати-двадцати.
– Тебе надо поговорить вот с этими людьми, – говорит он. – Они – самый надежный источник, – и представляет Неда, который приехал в Будапешт на три дня, чтобы обновить венгерские главы экономного путеводителя, который издают студенты в его колледже. Нед косой на один глаз, а кроме того, подкошен разницей в часах, дымом, бессонницей и дорожными приключениями. На нем льняная рубаха, шорты-обрезки и футболка с греческими буквами студенческого братства, в треугольнике букв три волка курят сигары и облизываются, завидев ягненка в синем берете с кисточкой и дырками для черных ушек. На каждом из волков такая же майка, как на Неде, и так до бесконечности, или, по крайней мере, до физического предела разрешения шелкографии. Джон успокаивается: Нед – любовник Брайона, и за Эмили нечего бояться.
– Эй, – кричит Брайон Эмили – очевидно, только что сообразив, – не хочешь пойти вниз потанцевать?
Нед остается с четырьмя мужчинами и, ободряемый Чарлзом, предлагает, как новоприбывший, купить всем выпивку – предложение, которое все четверо благодарно принимают. Нед возвращается с напитками и сквозь гам кричит, что попал в трудную ситуацию, потому что не знает никого, кто по-настоящему живетв Будапеште, а только таких же рюкзачников, как он сам, и вот только что наудачу спросил того парня Брайона (о нет),потому что тот выглядел таким местным, но он тоже оказался туристом, а уже третий день из Недовых трех дней, и завтра ему надо спешить на большой аттракцион (в Прагу) и не могли бы они помочь ему с обновлениями его книжки?
Скотт агрессивно мотает головой и кричит:
– Всегда появляется хорек, Нед. Он приходит в хорошее место, где людям хорошо, и притворяется, что ему тоже хорошо, а потом уходит и рассказывает про это место другим хорям, и тогда через месяц их являются целые орды, и дышать невозможно из-за хорячьего говна, которое везде навалено.
Здоровым глазом Нед скачет туда-сюда в поисках союзника или объяснения, а вторым глазом равнодушно скользит над их головами.
– Я не буду в этом участвовать, – сердито говорит Скотт и немедленно спиной вперед засасывается в толпу.
– Не обращай на него внимания, – говорит Чарлз. – Валяй! Мы все живем тут не один год. Мы тебя прикроем, Недди.
Парнишка с облегчением благодарно улыбается. Достает из рюкзака большую записную книжку и пачку отксеренных карт и списков, и начинает бодро записывать все вранье, какое только могут выдать Чарлз, Марк и Джон.
– Гей-клуб, – говорит Марк про добрых три четверти озвученного Недом списка ночных клубов. – Голубой. Голубой и садо-мазо. Нормальный, но с уклоном. Голубой. Для бисексуалов и интересующихся.
Нед выказывает некоторое удивление такой пропорцией. Марк жмет плечами:
– У каждого поколения свой Содом. По каким-то причинам Будапешт сейчас стал самым голубым городом Европы.
– Я бы не стал писать цены в форинтах у этих отелей, – говорит Чарлз, заглядывая в Недовы записи. – Страна официально переходит на американские доллары через восемь месяцев. Это решено.
– У тебя уже был случай побывать в зубном музее? – Джон печатными буквами пишет на страничке «Стоит побывать» Скоттов адрес. – Самое большое в мире собрание слепков зубов знаменитых людей. Гипсовые модели – зубы Сталина, Наполеона и все такое. Симуляции, увеличенные фотографии. Там можно пройтись ниткой по восковой модели в натуральную величину и посмотреть, что за пакость выловишь из зубов Ленина, например.
– В войну там многое погибло, – вздыхая и с грустью покачивая головой, говорит Марк.
Пока Чарлз подробно описывает фантастический вид со зрительской галереи товарной биржи, где венгерские бизнесмены в костюмах продают (а иногда и забивают) настоящий живой скот в операционном зале, в офисном здании в центре города, и буквально торгуют свиными потрохами, а Марк влезает с описанием публичных секс-павильонов, которые раз в год, на день Святого Жольта, с восхода до полудня открываются в венгерских деревнях вот уже шестьсот лет, и Нед изо всех сил торопится записать, предвкушая место редактора уже на третьем курсе, Джон опять чувствует у себя на плечах отделенные от тела руки, которые сползают ему на грудь, потом массируют живот.
– Ты здесь, ищешь сладких удовольствий, дорогой братец, – шепчут ему в ухо, и Джон видит, что Чарлз смотрит на него и на его невидимую, но очевидную массажистку, склонив голову в зарождающейся радости.
– Искал, да. – Джон отвечает громко, для Чарлза. – Он только что пошел за выпивкой и сказал, что надеется, ты сегодня появишься. – Джон машет рукой туда, где последний раз видели Скотта.
– Жалко. Нам надо бы планировать умнее, любимый братец, – раздается шепот, на сей раз сопровождаемый кратким мокрым вторжением в слуховой канал – не иначе язык. Джон резко наклоняется вперед, чтобы освободиться и спрятаться от Чарлза, который все глазеет на них, не скрывая любопытства и веселья. Джон поворачивается, чтобы продолжить открытый разговор с остальной Марией, но ее уже всосала обратно пульсирующая масса.
Марк рассказывает Неду о сложностях вражды и противоречивых союзах между Густавом Неаппетитным, Отто Ларингианским и Лайошем Грубияном («Вам, наверное, известна эта знаменитая цитата: „Власть – это чудесно, а абсолютная власть – абсолютночудесна“»), но Чарлз прихлебывает из стакана и рассматривает Джона с тем же веселым любопытством.
– Что? – спрашивает Джон, но Чарлз молчит, полуулыбка появляется и исчезает с его лица.
Возвращается Скотт, и Чарлз говорит:
– Здесь сейчас была Мария.
– Искала тебя, – добавляет Джон.
Скотт отправляется на поиски Марии.
– Что?! – повторяет Джон громче, но видит, что Чарлзов смех не идет на убыль. Джон уходит к бару.
Позже Джон возвращается к столу, Неда сменил какой-то высокий длинноволосый детина в джинсах, джинсовой рубашке и джинсовой куртке.
– Я на твой место? – спрашивает он со славянским акцентом, но с места не двигается, и что-то в его тоне ясно указывает, что никакой готовности к этому он не выразит. Он наклоняется вперед, упираясь локтями в колени, и скручивает сигарету на столе. – Ты американец, как эти два?
Он мотает головой в сторону Чарлза и Марка, который бормочет: «Канадец».
– Бранко из Югославии, – бодро говорит Чарлз. – Он захотел присесть. Он классный.
– Из Сербии, – поправляет длинноволосый с суровым лицом.
– Какая разница? – спрашивает Джон, наполовину смеясь.
– Разница? Разница Черногория, Босния, Хорватия, Словения, Македония, – отвечает Бранко с омерзением, лижет и заклеивает папиросную бумагу и хлопает по джинсовой куртке в поисках зажигалки. – Большая, на хер, разница.
– Да ладно, – говорит Джон, не замечая Марковой тревоги и Чарлзова нетерпеливого внимания. – Не говори мне, что хотя бы можешь их различить. Вы, ребята, все на вид одинаковые. Поживи для сравнения где-нибудь, где есть настоящие расовые проблемы, скажем, в Нью-Йорке, где сразу видно, кто есть кто.
– Я серб! Я – серб! – Бранко рывком вскакивает и склоняется через стол, так что своим носом почти касается Джонова, и бьет себя кулаком в грудь. – Я – серб! – В углах рта у него пузырится слюна. – Я – СЕРБ!
– Восхитительно доходчиво, – выдавливает Джон и снова ныряет в людское море.
Он проталкивается к лестнице, ориентируясь на звук. Узким задымленным проходом, наступая на ноги и отводя чужие локти от своих глаз, Джон спускается в кишение и стенания «Жопы-кассы». В стороне он видит целующихся Скотта и Марию. Скотт показывает на потолок, корчит сердитую рожу и что-то говорит Марии, но тут она его щекочет, и он смеется. Джон втискивается в массу танцующих, выискивая Эмили и Брайона, не зная еще, как ему ненавязчиво их разделить.
Получая толчки и тычки, уворачиваясь от взметающихся рук и ног и мотающихся голов, пихая в ответ пихающих его, проклиная глупость Эмили, ушедшей с Брайоном, словно тот не был самым неприемлемым партнером в истории взаимоотношений полов, Джон слышит, как женский голос вроде бы произносит его имя. Высматривая знакомое лицо, он проталкивается к стене, его снова окликают и затаскивают в одну из стенных ниш. Она совершенно лысая, но Джон находит ее прекрасной. Тонкие выгнутые брови подсказывают, что волосы у нее были бы черными.
– Ты Джон Прайс.
Она пытается перекричать музыку. Американка. Джону остается только согласиться, что он Джон Прайс. Она смеется его смущенной улыбке и бесстыдному разглядыванию ее черепа.
– Давай! – кричит она и кладет его руку себе на макушку. – Немножко колется, потому что я с прошлого вечера не брила. Я Ники М. Я делаю для газеты фотографии. Я тебя видела там пару раз. Мне понравилась твоя вещица про морпехов. Очень благородно. Или дурашливо-благородно. Что бы ты там ни делал.