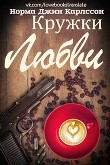Текст книги "Прага"
Автор книги: Артур Филлипс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 33 страниц)
Следующий удар отправил его в долгожданное беспамятство.
XIIПриговоренный, пока был без сознания, к пожизненному заключению, Имре Хорват три с половиной года провел в трудовом лагере.
Он не считал дни и ночи в узилище, потому что думал – еще за два дня до освобождения, – что заключение окончится только со смертью. Ему не казалось, что какая-то скрытая часть его личности от бед становится сильнее. Он не передавал тайком по цепочке заключенных истрепанный перевод конституции Соединенных Штатов или фрагментов Монтескье о естественных правах человека. Его не согревала неожиданная великая любовь к товарищам по каторге. Он не организовывал их, чтобы обеспечить слабым защиту сильных. Не прятал еду под грязной серой подушкой, чтобы отдать больным или умирающим. Не брал на себя вину за нарушения дисциплины, которых не совершал, дабы спасти от наказания других, и не завоевывал этим вечной преданности узкого круга заключенных. Он не находил нового утешения в своей старой заброшенной религии, хотя в лагере хватало католических священников. Не повторял про себя проникновенные мольбы, которые смягчили бы сердца приговоривших его судей Он не отказывался посещать учебные занятия, чтобы гордо встретить заменяющие их профессионально наносимые побои. Не оспаривал и не осмеивал своих учителей, с тонкой иронией в голосе не задавал им каверзных вопросов. Не чертил щепкой в пыли сложных схем, сидя на корточках в кольце кивающих, лузгающих семечки, настороженных последователей. Не завоевывал расположение охраны. Не оттягивал колючую проволоку, чтобы дать другим вперед него выползти на свободу, не укрывал под своими нарами западного шпиона, не вставал в новолуние выбить морзянку на рации, гениально собранной в таких условиях, где это под силу только самым блестящим умам. Он не испытывал сочувствия к заключенным, которые сами были коммунистами, обманутым, потрясенным, пожранным тем же монстром, которого они так любовно взращивали. Не надоедал соседям по бараку, которые были настоящими демократами и диссидентами, не искал их одобрения, не смотрел на них как на святых. Не вглядывался в изумлении в тихого, тощего, бледного сокамерника, понимая, что да, да, это и есть человек, который возглавит свободную Венгрию, если только у нас хватит терпения, и не делал потом всего, что было в его заведомо ограниченных силах, чтобы защитить этого человека от дурного обращения – по мелочи и по злому умыслу. Он не мечтал о том дне, когда всё, что вокруг, будет сметено. Не клялся запомнить или превратиться в кинокамеру. Он не думал, что его призовут свидетельствовать, не ожидал, что справедливость восторжествует. Не гадал, откуда явятся его спасители. Он не был мудрее своих тюремщиков, не засыпал каждый вечер с хитрой улыбкой, свободным, несмотря на иллюзорную видимость оков; не оставлял тюрьме тела, пока дух свободно парил. Он не был выше всего этого. Не скрывал слез. И не предлагал другим разделить с ним их боль. Не смотрел, когда кого-нибудь уводили, или избивали, или расстреливали. Не давал никаких обетов. Не обещал себе, что когда-нибудь и т. д. Он не отказывался сдаваться. И не умер.
И тогда пришло то, что называли оттепелью. Ее принесло с востока, и в ее умеренном тепле Имре позволили растаять под лагерной стеной и утечь обратно в город, откуда его взяли. И там сказали, где ему жить. И сказали, что ему делать. Спросили, какая профессия у него была, и снова сделали печатником, простым типографским рабочим в том самом цеху, который он поднял из руин шесть лет назад, в том самом здании, куда мать приводила его повидать братьев, отца и предков, обитавших в сумраке книжного леса. Он не знал, было ли это назначение недосмотром, совпадением, извинением, хитроумной проверкой или глумлением, и никогда не спрашивал, и старался оставаться таким, каким был в лагере, но понял, что это не выйдет, потому что нередко так злился, что не мог даже говорить. Он заправлял краску, управлял барабанами и старался быть таким же, как до лагеря, но понимал, что и это невозможно, ничто из того, что было раньше, не приводило его сюда: ни логика, ни последовательность, ни даже игра. От его действий ничего не зависело, и Имре заставлял себя не думать об этом.
Он почти не разговаривал. Он поправлял других рабочих у машин, он их не знал, но они слишком грубо подавали бумагу Они не слушали его замечаний, они не зауважали его, и он пе почувствовал себя вдруг прирожденным командиром, закаленным страданиями и невзгодами. И это его тоже злило.
На крутящихся барабанах теперь грохотала «Народная заря», но Имре не было дела до того, что в ее передовицах говорили об острой необходимости реформ. Он не замечал, что под новым и совсем другим логотипом «Хорват Киадо» газета начала сообщать о провалах коммунистов в соседних странах. Он не знал, да ему это было бы все равно, что газета призывает вернуться к «социалистической законности», что она извиняется за несправедливое заключение ни в чем не повинных товарищей и аплодирует первому секретарю Матьяшу Ракоши и премьер-министру Имре Надю за их восхитительное решение пожизненно посадить в тюрьму своего бывшего начальника АВО, и одновременное обещание впредь уважать гражданские свободы.
Имре Хорват держался нелюдимо и заставлял себя не думать о прошлом, о котором думал постоянно. Он порывался было навестить двух детишек, рожденных другим временем и другим человеком, но не узнал бы их, не мог принести никаких подарков и страшился разговора с их матерями. Собравшись с духом, в первый теплый мартовский день он осмелился на куцый визит к дочери, после чего больше не думал о новых попытках.
Он тихонько ходил на работу и с работы, мало говорил и боролся с яростью, отчего делался молчаливым на людях и плакал в одиночестве. Два раза в день он пил кофе, стоя у прилавка в кофейне недалеко от его тесной квартиры. О событиях начала октября 1956 года он не читал.
До вечера двадцать третьего числа. Потому что тогда в Будапеште все – даже столь упорно несведущие типы, как Имре, – поняли: что-то происходит. Имре подметал пол в типографии, отдавшись, хоть и не радуясь, сумеречно-тихому шебуршанию своего занятия, когда в стену погрузочного терминала рядом с открытой подъемной дверью громко постучал запыхавшийся молодой человек.
– Кто тут за старшего? – спросила его спутница, тоже запыхавшаяся, взволнованная.
– Я, – ответил им человек с метлой, потому что в этот момент он был старшим рабочим – переходящая должность, почти ничего не знаменовавшая, поскольку шла только уборка.
– Тогда вы можете это напечатать? – спросил парень. И тут Имре увидел пистолет, засунутый у того за пояс. И увидел румянец на прекрасном лице девушки. И вот Имре читает листок, который подал ему парень: подрывной митинг писателей и поэтов, потом студенческая демонстрация, расстрелянная АВО, войска, вызванные на подавление студентов и вместо того их вооружившие, требования, насилие. Наконец-то взаимное насилие.
– Да, мы можем это напечатать.
Тринадцать дней Имре мало спал, много читал и фактически не покидал типографский цех. Внезапно куда-то делись те, кто управлял типографией последние семь лет, но все время появлялись и исчезали новые лица. Новости приносили в любой час, отпечатанными на машинке, написанными от руки или просто на словах, теряя дыхание. Имре начал отдавать распоряжения: секретарю перепечатать вот этот текст, посыльному ускорить отправку рулонов, водителю развезти листовки по всему городу, студенту-художнику нарисовать, что скажу: дуэльный пистолет, да, такой, только ствол подлиннее, да, хорошо, теперь облачко дыма и пулю, но с буквами…
Они отсылали в щелкающий выстрелами Будапешт газеты, которые даже не были вычитаны. Орфографические ошибки и смазанная печать придавали изданиям убедительную точность и революционную подлинность. На оттисках ставили сверху дату и время и как можно быстрее вручали нетерпеливым водителям-развозчикам. (Работа уличного продавца газет внезапно стала лихой и опасной, прерогативой бравых молодых мужчин.) Сначала заголовки в «Фактах» мало что говорили Имре, будто он разучился отличать правдоподобное от неправдоподобного: Войска поддержали студентов против АВО; Русские, убирайтесь домой; АВО расстреляли 100 безоружных; Имре Надь шагает с нами; Борцы за свободу отпирают тюрьмы; Надь выгоняет русских из Будапешта; Пора на выборы и уйти из Варшавского договора; Главный штаб Партии пал перед нами; Надь выведет нас из Пакта; МЫ НЕЗАВИСИМЫ! МЫ НЕЙТРАЛЬНЫ!; Обговаривается полный вывод советских войск; Школы скоро откроются – советские войска вернулись; Советские войска уходят; Советские войска обещают уйти; Советские войска уже уходят; Советские войска пропали; Советские войска окружают город; Советы нападают – держитесь! Штаты нам помогут!
Имре бежал из Будапешта в ночь 7 ноября, за четыре дня до объявления военного положения. Он не прощался ни с кем и никого не звал с собой, в том числе своих детей и их замужних матерей – только тех, кто стоял с ним рядом, когда он решил ехать. Он уехал на оранжевом типографском пикапе. За десять дней до этого студент-художник нарисовал старый колофон Хорватов на дверцах и написал девиз типографии на задней двери. Теперь, когда улицы были разорваны следами танковых гусениц и все время слышались взрывы и стрельба, Имре счел за лучшее закрасить вылетающую пулю «МК», и только черные слова «Память народа» выделялись на вполне обычном грузовичке. Имре взял в машину трех работников типографии, которые вернулись и помогали печатать «Факты», вместе с их женами и детьми, одной собакой, одной кошкой и всеми пожитками, которые еще влезли. Пикап скоро влился в караван таких же набитых машин, которые ползли гуськом бампер к бамперу от западных окраин города к австрийской границе, с обеих сторон сопровождаемые колоннами тяжело груженных или порожних пешеходов, почти не отстающих от машин.
Пока не пересекли границу, Имре не спал трое суток. Въехав в Австрию, Имре, остановленный в сортировочном пункте, уснул, пуская слюни, прямо за рулем. Ему снилось, что он несет над головой чистый белый стяг. Устали руки, Имре собирается опустить флаг, но тут появляется его маленькая дочь – такая же, какой была во время его жалкого появления в первый теплый день марта, но теперь она говорит с жутковатой убедительной взрослостью: «Нет, папа, если ты опустишь флаг, будут ужасные бедствия. Все эти люди погибнут. По твоей вине». Она показывает Имре за спину, словно там ждут его следующего шага толпы последователей, зависящих от крепости его рук и от воодушевляющего вида его развевающегося стяга. Он оборачивается посмотреть, о ком она говорит, но за спиной никого нет. Повернувшись, Имре видит, что она смеется над ним до того, что слезы бегут по ее щечкам. И все же, не желая разочаровать ее, даже если никого больше нет, Имре стоит, воздев флаг над головой, руки ноют, ветер взметает пыль и бросает ему в глаза, и Имре хочется опустить руки, только на мгновение, чтобы протереть глаза, а ветер дует сильнее, Имре туда-сюда вертит головой, но ветер только сильнее, он со всех сторон, будто Имре стал мишенью, бурной гаванью всех ветров мира, которые пахнут картошкой…
Имре просыпается от того, что удивленный австрийский иммиграционный служащий в нетерпении шипит ему в лицо.
XIIIИмре проснулся в Австрии. Теперь он стал видеть цель, движение из пункта А в пункт Б, строгую логику за событиями его жизни. В Вене ему являлись драматичные фразы, что вертелись и свистели ему в лагере беженцев и позже, на деревянной скамье в холодном безлюдном парке в сумерках. Оспорить их Имре не мог. Они открывали истину: Для этого я и родился. Для этого погибли мои родные. Я ради чего-то лишился типографии в сорок девятом. Ради чего-то попал в лагерь. Я не случайно оказался старшим рабочим двадцать третьего.
Имре стало посещать чувство – властное, настойчивое, – что у него не просто есть назначение, но унаследованное назначение. Он стоит в длинной череде людей, кто-то стоит впереди, многие – позади. От него ждут, что он сохранит свое место в цепи и обучит следующее поколение, как им удержать свое. «Долговечная организация строится из недолговечных людей, и если организация хочет оставаться бессмертной, люди должны вкладывать собственную душу, свои недолговечные и незначительные жизни. Это истинно как о нации, так и о бизнесе», – писал Имре заявку в фонд, созданный голливудским кинопродюсером-венгром Богатый эмигрант ссудил Имре довольно, чтобы тот основал в Вене «Хорват Ферлаг», и эту сумму Имре вернул всего за три года.
Имре восстанавливался. Когда только было возможно, он брал на работу венгерских беженцев. Начал он с публикации серии коротких памфлетов по истории венгерской революции 1956 года на одиннадцати языках, и получил прибыль, продав несколько тысяч экземпляров в Организацию объединенных наций. Намереваясь показать всему миру, что стоит на кону там, в Будапеште, он нанял переводчиков: классику венгерской литературы, естественные науки, математику, музыку, пьесы, стихи, историю перекладывать на английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, греческий, иврит, и этот венгерский Вавилон Имре рассылал по всей Европе и Северной Америке. В «Хорват Ферлаг» изда вали еще сборники текстов по языкам и местной истории для венгров, старающихся адаптироваться к новым местам в Вене, Лондоне, Торонто, Кливленде, Лионе. Имре заказал новые двуязычные словари венгерского языка, который ненадолго вошел в моду после 1956-го, когда благородный Запад мимолетно отдал свое сердце свободолюбивым беженцам, коллективному человеку года журнала «Тайм».
Пятидесятые превратились в шестидесятые, коммунистический режим слегка смягчился, и Имре нашел возможности делать прибыль на изгнании. Он нанимал оставшихся не у дел венгерских ученых переводить новейшие Западные научные и медицинские труды, которые потом сам вез в Будапешт и продавал венгерскому правительству. При каждой покупке правительство приказывало государственному издательству «Хорват Киадо» раздирать книжки и перепечатывать обложку – без крамольного символа венского «Хорват Ферлаг» с буквами «МК».
Имре путешествовал с австрийским паспортом и потихоньку встречался со знакомыми из прошлых времен. Еще он возил подарки двум подросткам, которые из объяснения матерей не вполне могли понять, кто он такой. В свой первый приезд он пришел к ним с не по возрасту детскими подарками, которые отпрысков озадачили и рассердили, потом вернулся с радостно принятыми пластинками «Битлз». Впрочем, уже после этого второго приезда, по совпадению, о котором Имре изо всех сил старался не задумываться, обе матери – не знакомые друг с другом, – с разрывом в один день попросили его больше не приходить. Обе сказали, что его присутствие слишком смущает детей и их младших сестренок и братишек. А также деликатных, благородных мужей. Из поездок в Будапешт Имре возвращался с рукописями, которые ему тайно передавали старые знакомые, печатал несколько экземпляров за свой счет и убирал в архив издательства или пытался заинтересовать австрийское правительство и университеты, чтобы они дотировали выпуск тиража. Он устроил полки «Хорват Ферлаг» в одной университетской библиотеке, где гнездились (среди других, более популярных изданий «Хорвата») немецкие переводы вывезенных текстов – почти не тревожимые, в вечной готов ности. Иногда эти тайные дневники, эссе, притчи или истории цитировались в работах советологов, докторских диссертациях или научных статьях. Нечасто, впрочем.
Уже после нескольких поездок Имре стал посылать в Венгрию с приветами своих сотрудников. Они втайне встречались с его старыми знакомыми и вместо него предлагали государству новые книги. Возвращаться казалось ненужной тратой сил, это так неудобно, и, в конце концов, полно подчиненных, кого можно послать. Вена – славный город; а упрямо, неотступно возвращаться в трагический Будапешт – это нездорово.
Осознание миссии, такое острое в 1957-м, время от времени слабело. И когда так бывало – словно кончалось действие вакцины, – у Имре случались приступы паники, он бо ялся идти на работу, даже смутно не подозревая, отчего. Он замирал перед зеркалом в ванной или перед телефоном в холле, что-то бормотал под нос, произносил вслух имена людей, кого знал в Вене, искал, кому позвонить, но никогда не мог придумать, кому. И вместо этого он силился заполнить сосущие прорехи, внезапно отверстые в сердце. Он не понимал, что заставляло его вдруг бросаться во что-то – хоть во что, – почему он лихорадочно предлагал себя благотворительным организациям, или неделями каждый день высиживал на скамье в нефе католического храма, или шел на собачьи бега, или часами напролет играл в шахматы на холоде в сквере, или таскался по борделям с неукротимым аппетитом шестнадцатилетнего мальчишки и бюджетом и фантазией сорокадвухлетнего светского льва.
Короткое время в конце пятидесятых (и потом еще раз в 1968-м, когда чехословаки поставили недолговечный, однако шумно одобренный критикой римейк драмы, которую двенадцать лет назад ставили венгры), Имре интересовался сообществами политэмигрантов. Он вступал в организации с названиями типа «Венское общество поддержки свободной Венгрии» или «Всемирная группа „Свободная Венгрия“». И тихо сидел на собраниях, пока читали доклады, разбирающие провалы венгерской плановой экономики и с невообразимой точностью перечисляющие последние нарушения гражданских прав (102 ареста, 46 избиений), и вели дебаты о надлежащей роли Церкви и дворянства в любой будущей демократической Венгрии.
Временами Имре просто не мог прийти в типографию. Он уходил в контору, как обычно, пешком, но вместо того, чтобы через десять минут оказаться в своем кабинете, он и через несколько часов все еще бродил по городу или сидел где-нибудь в кафе. Когда на чистой силе воли он приволакивал себя в офис, то работал с великой и молчаливой напряженностью, дабы искупить прогул. Однако на следующее утро мог повторить всю процедуру, сидеть за уличным столиком в одиннадцать тридцать, поглощая четвертый эспрессо, надувая щеки над кроссвордом, качая ногой с частотой крыльев колибри.
С вершин религиозного пыла, в котором он поучал своих работников о важности их труда для венгерского народа и мировой культуры, он падал в депрессию, и тогда, бывало, если и приходил в контору, не покидал своего стола, и его венгерские помощники вели дела, не советуясь с ним, пока через несколько дней или даже недель он не выскочит из кабинета и не начнет задавать им горячечные бессвязные дотошные вопросы. После таких приступов вера в собственное призвание возвращалась, будто из отпуска: освеженная, теплая, уравновешенная.
Когда эти неутолимые чесотки проходили, Имре быстро и искренне удваивал свою приверженность делу. Он объяснял себе, что это было минутное умопомрачение, что он забыл, зачем живет на свете. Впредь не забывай, и больше никогда не заблудишься, говорил он себе, уверенный в неизменной твердости собственной памяти. Он даже записывал эти слона и клал в шкаф с бумагами, чтобы надежнее застраховать на будущее свою устойчивость и верность издательству. Он знал, что нужно будет обучить наследников предвидеть такие полны паники и сомнений. Им нужно будет так много узнать, чтобы сохранить бессмертие издательства.
В 1969-м его желудок пришел в такое состояние, что требовал обильного и почти постоянного вливания молока; даже через многие годы после того, как вылечился, Имре больше иочти ничего не пил.
В середине семидесятых он перестал нормально спать За ночь просыпался несколько раз и с каждым следующим разом сон не возвращался все дольше. Убедившись, что смена позы не приносит облегчения, он заставлял себя сопротивляться: не ворочаться в тщетной надежде с боку на бок под жужжание электронных часов, перещелкивающих 2:30 на 2:31, 3:30 на 3:31, 4:30. Для человека с его историей и предназначением было бы мелко стонать, метаться и скрипеть зубами оттого, что сон больше не приходит быстро и надолго. Если самые анекдотические тираны в мире не могли его сломать, небольшой недосып плакать не заставит. Он часами неподвижно, но без сна, лежал в постели. И вот каждое приходящее утро становится все более жестоким. Незадолго до пяти Имре первый раз идет в туалет. В этот час в его походке совсем мало монументального величия, приобретенного за годы изгнания. На нем пижамные штаны, подвязанные на желтеющем дряблом животе, лямка вчерашней майки спорит за территорию плеча с зарослями жестких седых волос, которые еженедельно усмиряет парикмахер, чтобы не ползли к краю ворота. Хотя ему нет семидесяти, Имре теперь часто спотыкается и, бывает, падает, разве что пока без серьезных последствий.
Как-то раз в 1986 году Имре вышел утром из квартиры в халате и со стаканом молока, наслаждался весенним солнцем, пробивавшимся сквозь грязную стеклянную крышу над внутренним двором. Он стоял у перил опоясывающей двор галереи и желал доброго утра соседям, уходящим на работу. Вверху лестницы справа от Имре появился слегка запыхавшийся молодой человек не из их дома. Он внимательно посмотрел Имре в лицо, Имре улыбнулся.
– Герр… Россман? – спросил человек, чуть замявшись. Краснея, он объяснил, что должен встретиться здесь с человеком, которого никогда не видел, ему только описали его, и он просит прощения за беспокойство, но если Имре не герр Карл Россман, то не может ли он показать, в какой квартире живет герр Карл Россман? Имре показал на дверь в противоположном углу двора, потом вернулся к себе в квартиру и, выждав секунду, всплакнул из-за того, что его приняли за Карла Россмана – очень, очень старого человека, ужасающе старого.
Он стал молодиться. Теперь утренние сборы занимали у него целых полтора часа, с упражнениями, разработанными для тонуса стареющих мышц, и сложным бельем, которое придает форму. Он приглаживал и постригал, подрезал и подпиливал, выщипывал и припудривал и выщипывал снова. Он носил специальные приспособления, которые нужно было осторожно надевать, подгонять, а потом вот так вот прижимать, со сложным аппаратом, купленным у французской фирмы и за большие деньги привезенным из Грасса.
В конце восьмидесятых, все глубже соскальзывая в свой седьмой десяток, Имре не думал бросать дела и продавать издательство; но, с другой стороны, не клялся продолжать дело любой ценой и ни при каких обстоятельствах его не продавать. Бывало, проходили месяцы без единой мысли о чем-то, кроме коммерческих винтиков и гаек: что хорошо продается, можно ли купить эту газету подешевле, почему этот цвет не отражается как следует, популярен ли еще Майк Стил, нужно ли увеличить выпуск того-то и того-то, а может, прекратить выпускать одно, а увеличить другое?
И вот пришел 1989-й. С первых же бюллетеней Имре точно знал, что происходит и что будет дальше. Снова и снова и всегда одинаково история повторяет страшный танец надежды и отчаяния: марши протеста, слабый, почти смешной оптимизм, правительство в растерянности – сегодня угрожает, завтра умоляет, рассыпает обещания реформ (искажая в речи незнакомое слово), – потом зловещий треск первых выстрелов, рокочущее, грохочущее приближение неизбежного, знакомая вонь, которая в любой момент подымется с раскромсанных улиц, теперь в любой момент, и потом… и потом… ничего? В этот раз взрыва так и не последовало. Имре приоткрыл один сощуренный глаз, потом другой; отнял ладони от ушей – тишина. Никакого подавления. Никакой бойни. Никакого вторжения с востока под прикрытием оскорбительно жалких оправданий. Никаких танков на улицах. Никаких хрупких бабочек внимания внешнего мира, так ненадолго садящихся на рану посреди центральной Европы. Вместо этого невозможное, но реальное: сбывается почти мессианская невозможность, непредставимая перестановка звезд на небе – Стена пала, Железный занавес пал, коммунизм пал, выборы и свобода, страна свободна и может ли такое быть? Или старик помешался, как Лир?
И опять, читая в кафе свежие газеты, смотря на гигантском экране в своем офисе новости по американскому кабельному каналу, разговаривая со служащими, Имре чувствовал остро как никогда, острее, чем все эти тридцать два года: обжигающее чувство предназначения примчалось из своего безответственно долгого отпуска. И вот однажды вечером он не взял, как обычно, очередной роман Майка Стила с прикроватной тумбочки. Вместо этого он громко смеялся. Лежал и смеялся. Поставил стакан молока и в голос смеялся последним невероятным вестям из дому.
Он смеялся, потому что понял. Он прожил все эти годы в Вене не просто так. Вопреки сомнениям сохранял издательство не просто так. Заботился о своем здоровье, внешности и деньгах не просто так. Он не завел семьи и не бросил якоря не просто так. Он нашел в себе силы не сдаваться не просто так – 1956–1989: тридцать три года, время Христа; Имре снова смеется. Теперь его призывают домой. Его зовут вернуть издательству влияние там, где его место, чтобы оно стало памятью и совестью народа и выжило в новом поколении, и в следующем, и в следующем за ним, и еще, и еще, хватит ли у него мудрости, сможет ли он опять все восстановить, сможет ли найти подходящих людей, кого подготовить и обучить, людей с культурой и видением, силой и неиспорченной молодостью, сможет ли как следует научить их, чтобы важность их дела пела им, как ему, сможет ли сформулировать для них те несколько алмазных правил, что гарантируют долговечность издательства. Эти новые лица вернут стране ее память и совесть, они с должным желанием возьмутся за работу для всей нации и научатся, как раньше он, на собственной непрочности строить прочное.
Отчетливая ясность этих видений была чудесна, и Имре восхищался, как это все произошло само по себе: твое предназначение может зреть десятилетиями, а ты и не поймешь до самого конца, когда перед тобой раскинется сад, который ты помог разбить и взрастить, сам того не зная, который ждет тебя.
В ту ночь Имре крепко спал и видел во сне – без неприязни – отца.