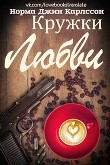Текст книги "Прага"
Автор книги: Артур Филлипс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
Имре выбрал для встречи маленькую чумазую кофейню, попахивающую хлоркой и мокрыми кошками: загадочный, по мнению Чарлза, – намеренно странный выбор места действия.
– Сравнимые бумаги я подписывал вон там, в том доме, – объясняет Имре. Он показывает через одностороннюю улицу на щербатую контору, куда вошел в день отцовских похорон, чтобы получить ржавые ключи от рассыпающегося королевства.
– Правда? Ну, вряд ли сегодня вы что-то будете подписывать. – Чарлз добывает из кожаного кейса пачку бумаг, которую ему вручил юрист вечером на празднестве в саду. Чарлз кладет бумаги на испечатанную стаканами и пожженную имитацию мрамора. – Давайте вы на досуге просмотрите вот это, а потом парафируете под всеми этими желтыми ярлычками, здесь, здесь и здесь и подпишете вот здесь. Поставите дату, потом еще раз инициалы вот здесь и подпишете заявку на тендер здесь и здесь. Кристина могла бы отвезти бумаги Невиллу в контору.
– В этот день юрист отца стал моим юристом, понимаете. Это был очень странный момент. – Имре прихлебывает кофе и, к удивлению Чарлза, задумчиво извлекает из внутреннего кармана сигарообразное перо. – Я, конечно, знал, что этот час настанет. Я должен был выждать годы, чтобы этот день пришел. И тем не менее, всегда немного неожиданно, когда это бывает.
Чарлз, не думая, соглашается.
– Но вам разве не нужно время, чтобы просмотреть бумаги?
– Да, да.
Имре постукивает зачехленным пером по страницам, но смотрит по-прежнему через пыльное обрызганное солнцем стекло куда-то через дорогу. Тыкает вилкой пирожное, и по растревоженной поверхности янтарной карамели пробегает трещина.
– Вы сейчас в похожем положении, как я был тогда; это замечательно.
– Конечно.
Чарлз оформляет лицо в согласии с Хорватовой мелодрамой.
– Как я мог быть счастлив в такой день, я теперь не могу сказать, но я определенно был. И этот город – обломок кораблекрушения, который когда-то был гордым кораблем, – я был счастлив, что помогаю заново отстроить этот корабль. То было, правда сказать, чудесное время, чтобы жить здесь. Нынешнее не так уж отличается. Восстанавливать. Знать свою роль.
В окно Имре рассматривает здание, где когда-то хранились капиталы его семьи, и тень того июльского утра, изменившаяся за годы скитаний, является ему. Он помнит зримую важность, что наполняла комнату. Отцовский юрист колебался: справится ли молодой человек с выпавшим ему случаем? Акт подписи ощутимо преобразил Имре: самый его росчерк стал переездом через незримую границу – путешествием от левого края пустой строки к правому, оставившим за Имре черный путаный след. Черная закорючка чернил и завершающий рубящий выпад черточки над «Horváth» – ´ – стали для него символом чего-то важного и большого. Каждый, кто был в комнате, это понял.
Чарлз не в первый раз досадует на сходство своего и Хорватова костюмов: сегодня утром оба в светло-табачной сарже, только у Имре пиджак двубортный. Чарлза всегда злит, если кто-то в комнате одет похоже на него. Это предполагает убывание его рыночной ценности – из-за неуникальности – и заставляет его чувствовать, будто он говорит с ребенком, который только что научился передразнивать.
Имре встает из-за стола и идет к окну, где перевернутые буквы, застарелая паутина и сгустки пыли бросают тени на его лицо. Он рассеянно держит в руке вилку, оставив перо на столе вместе с договором о партнерстве и приватизационной заявкой.
– Погоду помню, отчетливо. Солнце, редкие облака, ужасно жарко. Я почуял что-то плохое во дворе конторы – старый мусор на жаре. На отцовском юристе были брюки, сшитые из старых лохмотьев. Мы все так ходили в те дни, хотя некоторые носили это лучше остальных, вот именно вам я могу сказать. Самый важный день твоей жизни, чудесный момент, но понимать это в ту минуту, когда все происходит, будто Сам Бог держит тебя на ладони. Я понимал важность, что человек Имре становится теперь второстепенным по отношению к будущему этого. Так же и вы… Вы это усваиваете. – Имре говорит спиной к молодому собеседнику, уставившись в окно на потемнелую бурую кирпичную кладку на той стороне улицы. – Каждый из нас вместе – оооо, послушайте. Покажите мне, где подписать, и закончим с этим.
Но все же не отрывается от окна.
– Иисусе милосердный, со всякими взбрыками и странными вывертами, но дело сделано, – рассказывал Чарлз Джону в тот же день, вручая тонкий голубой чек, легкий полупрозрачный эквивалент семимесячного жалованья в «БудапешТелеграф». – После всего этого он едва смотрел, что подписывает. Так, поспрашивал про разные пункты наугад. Но в глазах туманилось от воспоминаний, когда я показывал, где ставить инициалы. Как, черт подери, ему удавалось хоть чем-то сорок лет управлять, это выше моего понимания. Да, я тебе говорил, что двое из инвесторов цитировалимне же твой очерк обо мне, когда подписывались?
Джон щурится и подставляет чек под дождь слепящих пламенных стрел, взлетающих с реки и сыплющихся в кабинет Табора. Бумага отбрасывает легкую синюю прямоугольную тень на глаза и нос Джона. Водяной знак – две сирены, целующие в щеки удивленного моряка, чьи рот и глаза – идеальные «О» изумления, – исчезает и появляется, когда Джон двигает листок вперед-назад между собой и светом.
– Я буду скучать по этому виду, – Чарлз припечатывает ладони к гигантскому окну. Он преуспел, скоро увольняется и откроет своей беспомощной вялой фирме, что в свободное время осуществил то, чего они не смогли проделать на работе. Он выудил достаточно средств из карманов разных денежных миссионеров, и с неожиданными инициалами Имре нынче утром этот консорциум стал держателем 49 процентов акций (с оставшимися у Чарлза полными 49 процентами голосующих акций) новой венгерской компании, объединившей «Хорват Ферлаг» (из Вены), Чарлзово значительное вливание инвесторских денег и приватизационные чеки Имре Хорвата (не бог весть какой подарок, просто жест гордого, но нищего правительства). В последний момент Габор велел своему юристу добавить в активы компании практически не имеющие ценности ваучеры, выданные Чарлзовым родителям за их детские квартиры. Теперь он был весьма влиятельный младший партнер в настоящем деле.
Два дня, однако, Джон не обналичивал свой чек – плату за «консультации по взаимодействию с прессой» – и не отправлял в свой банк в Штатах. Что-то не давало ему этот чек депонировать; слишком внезапное расставание с водяным знаком, шутил Джон сам с собой, к которому он еще не готов. Две ночи сирены целовали моряка, а Джон их разглядывал. Два дня он носил бумажку в кошельке и в странные моменты – набирая статью в редакции, бражничая в «Гербо», трахаясь с Ники, – представлял, как водяной знак – двумерный, бледный, текучий – оживает в его кармане: развевающиеся волосы сирен, мягкие губы на щеках обалдевшего мореплавателя, желание моряка стиснуть обеих в аквакарнальном объятии, спорящее с его знанием об их силе, его неизбежная капитуляция.
– Поцелуй меня, моя сирена, – мурлычет Джон на третью ночь лысой и голой женщине, которая пишет картину при свете лампы в три часа пополуночи. Она думала, что он спит. С легкой дрожью в голосе она холодно велит ему уходить и спать дома. Наутро Джон избавляется от своего истязаемого моряка.
XVIПосле десяти дней отсутствия Марка и шести неотвеченных телефонных посланий Джон безошибочно диагностировал вторую стадию Синдрома-Родители-в-Гости. Симптомы теперь легко распознавались в опустошаемом чумой сообществе. Первая стадия: невнятные упоминания: «предстоит хлопотная неделя», нарастающая задумчивость, немотивированные отклонения в поведении (раздражительность, инфантильность, истерики, замкнутость). Вторая стадия: полное исчезновение от пяти до четырнадцати дней, кроме (возможно) торопливого представления друзьям робких, запутавшихся в часовых поясах пожилых людей со своеобразным или нулевым чувством юмора. Третья стадия: внезапное и шумное возвращение в общество с гипертрофированной вездесущестью и жадным аппетитом к выпивке, танцам, флирту; приступы краснобайства, словоизлияние на тему радостей одинокой жизни в Будапеште.
Джону есть что порассказать Марку, когда тот выздоровеет. Чарлз Табор бросил работу – к немому изумлению вице-президента, – и через пятнадцать дней должен освободить бунгало, которое ему купила фирма. Депонировав свой чек, Джон прилично добавил к ежегодному доходу, но не может выдумать себе никакого приобретения, кроме разве что реактивного ранца, чтобы парить высоко над Будапештом, опираясь на конусы оранжевого пламени, – легендой местной журналистской диаспоры – на манер кометы. Он посоветуется с Марком, как лучше быть богатым, ведь Марк исполняет эту роль с таким достоинством. Еще Марк узнает, что Чарлз тоже воспарил в небе над крышами, по милости Джона, Теда Уинстона, отряда уголовных джентльменов с Уолл-стрит и ненасытного аппетита и сумасбродной логики американской машины новостей, которую в этом случае расшевелил сам Джон, щекоча статьями, что выходили одна задругой, пока сделка вызревала:
…Наконец, для тех, кто следит за моим репортажем о капиталисте, который спасает венгерскую культуру: мои источники сообщили мне, что заявка Габора и Хорвата о возвращении семейного предприятия находится на рассмотрении в правительстве, и изголодавшиеся по деньгам мадьяры находят ее чрезвычайно привлекательной. Другим претендентам следует подумать два и три раза, прежде чем браться за труд конкурировать с нашими зилотами. «Можно испрашивать массу другой восхитительной собственности», – сказал мне один высокопоставленный представитель Государственного приватизационного агентства, совсем как неграмотный продавец подержанных машин, улепетывающий на праздничный уикэнд…
…Новости из некоторых их зарубежных филиалов еще более унизительные, если такое вообще возможно. В Будапеште, например, после нескольких месяцев очевидного всем паралича, в течение которого фирма казалась неспособной стронуть с места ни один проект, молодой менеджер недавно уволился в несомненном разочаровании своими лодырями-нанимателями, и теперь он прикладывает собственные усилия к омолаживанию старого венгерского издательского дома. Эта история, освещаемая в местной англоязычной газете уже несколько недель, стала предметом международного внимания в свете недавно начатого прокуратурой расследования американских сделок фирмы, которое ведет прокурор, не особо скрывающий свои политические амбиции…
…И, на более радостной ноте, один из наших молодых кливлендцев показывает, чего можно добиться при некотором воображении, небольших деньгах, некоторой дерзости и большой охапке истинно американского идеализма и «Прорвемся!» образца озера Эри. Карл Максвелл с историей из красивого старинного города Будапешта, столицы государства Венгрии, расположенного далеко в Восточной Европе. Карл?…
Рассчитывая на новые платежи, Джон старался, и в своей колонке и вне ее, и дальше муссировать Чарлзов успех. Собравшись с духом, он играл роль энергичного репортера на стороне Чарлза, собирая урожай богатых людей и чиновников из венгерского правительства, раскопанных в ходе интервью и написания статей. Еще интереснее Джону было готовить для развлечения Марка описания этих безумных знакомств и докучных разговоров, фальшивого показного мачизма и робости. «Я оказался весьма одаренным сводником, – собирается сказать он своему другу. – Это благородная профессия с великой историей».
Но вот пришел день Скоттовой свадьбы, и вечером Габор доносит до неприглашенного Джона, что на скромной церемонии Марк примечательно отсутствовал. Чарлз, в припадке деликатности, едва не рассмешившей Джона, не упоминает отсутствия самого Джона, но зато выдает занятную версию событий, моменты бракосочетания, отобранные специально для друга: Эмили была в широкой круглой соломенной шляпе и сарафане, сандалии оплетали ее коричневые лодыжки.
– Другими словами, она будто пришла на прослушивание в рекламу душевых кабин.
В церкви почти никого не было: Чарлз и Эмили, несколько преподавателей английского, полдюжины Скоттовых студентов, квартет знойных подружек Марии и семеро ее родственников. Жених в подобающем случаю национальном венгерском костюме стоял между невестиными братьями – двумя пожарными гидрантами, завернутыми в парадную форму венгерской армии.
– Выглядело, будто суд по уголовному делу.
Католическая церемония тянулась навязчиво долго. Гимны разбухали и раскручивались в бесконечность, как симфонии, проповеди бубнились, будто лекции в колледже, благословения проходили как переговоры о слиянии и поглощении. Собрание поднялось и стояло, пока у Чарлза не затряслись и не заболели ноги, он все время выпрямлял спину. Потом сидели неподвижно, пока его ягодицы не расплавились на гладкой деревянной скамье, которая преобразовалась в дымящийся бетон. Несколькими часами и одним поцелуем позже всех отвели в соседний дом – на террасу отеля «Хилтон». Под желтым полосатым тентом на металлических шестах, сыплющих чешуйками белой краски и несущих на верхушках венгерские флажки, стояли четыре накрытых обеденных стола, чуть в стороне от таких же столов с таким же обедом для туристов, перепуганных и воодушевленных неожиданным видением откровенно нетуристской жизни.
И это все, что Джон узнал о свадьбе брата. С женихом он не говорил и не виделся с тех пор, как месяцем раньше тот объявил о помолвке. Он точно не получил письменного приглашения, как другие. И к тому же так и не сумел поздравить брата после пурпурноусого фиаско, хотя, возможно, только это и требовалось. Но теперь, после стольких лет погони, это было выше его сил. Не имеет значения. Уж тут-то серьезность явно не ночевала.
Марково отсутствие продолжилось до второй недели сентября, и Джон решил, что Пейтон, видимо, поехал в научную экспедицию. Зря он ничего им не сказал перед отъездом, но, значит, почему-то не захотел. Джон много раз заходил, оставил несколько сообщений. И вообще у него были занятия поинтереснее.
В тот день Джон останавливается у Марка под окнами узнать, не вернулся ли друг. Скотт – безнадежный случай, раз и навсегда, к Эмили он еще слишком смущается подойти, Чарлз носится туда-сюда между Будапештом и Веной, Ники странно недоступна и вредничает больше обычного, а до того, как Надя начнет играть, еще долгих два часа, и заняться Джону нечем. По правде сказать, он изголодался по компании. Ранний осенний дождь отлетает от Джонова крутящегося зонта, Джон стучит в равнодушную дверь, клацает неподатливой дверной ручкой, пялится в мятежно отражающие взгляд окна, и тут из соседней квартиры появляется большой бородатый венгр. Длинный поток иностранных слов – Джон выхватывает «az amerikai», – сопровождает это медвежье явление. Джон показывает на дверь Марковой квартиры и исправляет парящую на уровне его глаз бороду: «канадаи».Следует новая порция иностранного бурчанья. Наконец венгр трет большим пальцем правой руки об остальные и дважды бьет в Маркову дверь: судя по всему, просрочена плата.
– Ааа, – говорит Джон. – Okay, okay.
По-прежнему на языке жестов Джон убеждает мужчину – очевидно, хозяина квартиры или коменданта дома, – открыть, и они вдвоем входят в квартиру, каждый с разрешения другого.
Комендант останавливается перед прислоненной к стене огромной фотографией с Джоновым совокупляющимся торсом в центре. Щипая себя за бороду, он тревожно вперяется в картину, медленно кивает. Джон бродит из комнаты в комнату, открывая шкафы, выдвигая ящики. Маркова одежда исчезла, багаж исчез, туалетные принадлежности исчезли. Кое-какое грязное белье – теперь твердое и вонючее – осталось в стиральной машине, а в углу стоит Марков слоноподобный граммофон. Марковы книги и записи остались, все они сняты с полок и аккуратно сложены на кухонном столе, сверху конверт, надписан – «Ники». В панике разорвав, Джон, однако, не находит предсмертной записки самоубийцы (и тут же жалеет, что поддался моментальной панике), – только расплывчатый полароидный снимок: половина Марка стоит возле грандиозной работы Ники и показывает на нее с видом того же гордого обладания, что у елизаветинского придворного. Творение Ники на этом снимке перевернуто (профессор справа, придворный слева), а-видимая половина Маркова лица закрыта «Полароидом»: снимок сделан скверно, самим Марком перед зеркалом.
Что бы ни значила эта сцена, поначалу она кажется Джону какой-то ненастоящей, точно последнее непутевое хвастовство чудаковатого ученого – это не столько то, что он сделал, сколько то, что сделал бы.Марк не покончил с собой, его не похитили: он просто уехал, многозначительно ни с кем не простившись, и Джон по-детски сердится на такое оскорбление и через мгновение жалеет себя. Он звонит Чарлзу:
– Марк говорил тебе, что уезжает? – С облегчением узнает, что не единственный. – В таком случае, можешь кое с кем тут поговорить, если тебе еще нужна квартира. И скажи ему, пусть разрешит мне тут остаться одному, пока ты не приедешь. – Джон передает трубку хозяину (не желающему оторвать взгляд от грандиозной и вдохновляющей работы Ники).
Оставшись один, Джон понимает, что должен как-то шевелиться, что-то в этом сюжете понять. Он кипятит воду для чешского земляничного чая, урожая пустой кухни. Слушает и стирает три недели собственного одинокого голоса на автоответчике, в остальном чистом, умоляющий тон его посланий одновременно завораживает и отталкивает. Садится к маленькому столу под афишей Сары Бернар и картой, от которой остались одни края. Читает Марковы блокноты с начала и до конца, готовясь понять, ожидая объяснения, открытый для любых посланий, которые Марк или Судьба захотели ему оставить, даже начиная уже говорить себе, что да, Марк уехал не прощаясь, но это неважно, это не имеет значения, это несерьезно, никак не может сказаться на настоящих…
Датированные дневниковые записи начинаются в марте, за полтора месяца до Джонова приезда в Будапешт, и пару месяцев их содержание исчерпывается сжатыми, емкими, формализованными рабочими заметками: номера, цитаты, ссылки, перекрестные ссылки, планы глав, неоконченные эссе, описания антикварных магазинов, проткнутые библиотечными книжными шифрами в скобках. Рассуждения об отдельных эпизодах истории Будапешта и воздействии этих эпизодов на городскую среду усыпляют Джона; он доливает себе чаю и открывает окно. Он уже сомневается, что найдет какие-то послания, затерянный след того, что он надеялся отыскать, представляет себя – где-то в неопределенном будущем, в другом, лучшем месте, – будто он обнаружил, что кто-то из его друзей исчез, и настойчиво просматривает брошенные записные книжки исчезнувшего друга в поисках объяснения.
…без понимания и без интереса, предмет, отброшенный парламентом, и безответные вопросы об ответственности перед прошлым, игнорируемые населением, стремящимся (избирательно) забывать… см. тж: Лайза Р. Прут о коллективной ностальгии в эпохи преобразований…
…проц. населения, осведомленного о договоре семидесятилетней давности и им недовольного, замечательно – сравнить с ключевыми датами Запада. Перепроверить измено-центричные национальные мифы на ощутимую привязанность к до-изменным привычкам и т. д…
…Скоро ли страна или определенный сектор (пожилые, напр.) начнет тосковать по некой неуловимой атмосфере недавно отброшенного коммунистического прошлого (стабильность, безопасность и т. п.)? Стоит измерить проникновение и долговечность этой «nostalgie de la mine re», [74]74
Тоска по ничтожеству (фр.).
[Закрыть]и сравнить с распространенностью и долговременностью иронической псевдоностальгии по коммунизму (то есть фотографий в «А Хазам», «Пиццерия „Владимир Ленин“», участие молодежи студенческого возраста в китчевых демонстрациях в день Октябрьской революции и т. д.)…
…О чем подумать: подросток в Венгрии 1953 года бунтует против дураков, которые его учат, и против глупых сверстников, которые, как бараны, живут по партийной линии. Через тридцать шесть лет оказывается, что этот подросток был нравственным, герой совести. Вопрос: если бы он рос в Канаде, бунтовал бы он все равно, в любом случае, только потому, что он подросток? Замысел исследования: выше ли уровень ностальгии по юности среди тех людей, кто, как выясняется в ретроспекции, был юным при режимах, впоследствии признанных аморальными?
Эти первоначальные наполовину ученые старания скоро выбираются из зарослей академизма. Уже к концу мая Марковы рассуждения о том, как он относится к своей работе, доминируют, вытесняя саму работу. Письмо становится интроспективным, почти юношеским: описания одиночества и вожделения, которые смущают Джона, длинные списки вопросов о смысле жизни и работы, тирады против родных и знакомых, редкие эссе: Быть может, память – это вещество, жидкий секрет перепутавшихся комочков блестящего мозгового желе, выманиваемый на запах? А удар по голове может выбить это мнемоническое истечение? Или память – это электрическая сила, выпускаемая шарлатанами или мудрыми лекарями от нетрадиционной медицины, которые по схеме воздействуют на мнемоузлы и высвобождают на волю внезапный поток. Или это библиотека, пыльная и забитая книгами вопреки любой логике, хаос, удержать который не под силу никакому классификатору, книга за книгой сыплются, по тысяче новых толстых томов каждый день, заполняют фойе, ползут вверх по лестницам, затопляют шахты лифтов, забивают туалеты и умывальники, сокрушают металлические полки, словно бумагу, рыхлыми кучами вываливаются из разбитых окон на тротуары, и какие-то древние, порванные книжки, помещенные в библиотеку давным-давно, вновь оказываются доступны, и старики стоят, уставившись, и склоняются и дивятся, вороша рассыпающиеся страницы, которые едва не тают от их прикосновений и слез, когда они читают о животных, которые были у них в детстве, о секретных маминых рецептах, о необъяснимо грозных соседях и о том, как пахло лицо отца, когда он побреется…
Третья основная потребность человека. В отличие от Танатоса, который обращает взгляд человека вперед, к концу, и от Эроса, который обращает взгляд прямо вниз, Ретрос заставляет нас смотреть назад.
Последние несколько месяцев Марк не занимался никакой работой, быть может – вообще бросил серьезно работать уже через несколько недель после приезда. Иногда посреди своих излияний он пытался сосредоточиться, и тогда день или два шли серьезные записи того же толка, что вначале, но такое теперь бывало недолго.
Есть старая канадская философская школа, которая учит: то, о чем не говоришь, уходит; и это веский довод. Беды никому не по душе. Заглянуть им в глаза, когда я расслаблен – они напряжены. И почему? Потому что я перевернутый. Я висячий человек. Я хожу задом наперед, и мне нужно перестать этим гордиться. Ходить задом наперед на глазах у всех – неправильно. Все могло быть значительно хуже. Другим еще больнее, чем тебе. Погибшие на войне, конечно. Множество канадцев убили в Дьеппе, множество мальчиков с прошлым, множество любимых сортов мыла, множество ночей, проведенных у радиоприемника, множество разных воспоминаний. Всякий раз, когда я прошу людей видеть как я, они улыбаются. И они правы: надо перестать. Если вирус – нужен карантин. Я готов, говорю тебе, все кончено, оно трамбуется и трамбуется и трамбуется, я притаптываю и трамбую, притаптываю. Я готов. Я поправлюсь, пожалуйста, я так устал быть отдельно от всех, я настолько готов, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я поправлюсь.
Дневники не кончались тут, этим неприятным коктейлем надрыва и бреда. Напротив – и это обеспокоило Джона больше, чем все остальное, больше, чем скука Марковой научной работы, чем разъедающая тревога или все более убедительное, но все же какое-то невероятное понимание того, что Марк буквально «болен» и «в опасности», – напротив, последний из блокнотов заканчивался тем, что Марк осознал, как он выглядит, и содрогнулся. Джон видит, как Марку становится противно и как он кутается в ироничную веселость:
Постой! Это уже превращается в завещание того, кто «нездоров». Какая скука. Я стал нездоров. Я вижу, что мне надо увезти себя от вредных раздражителей, туда, где все мягкое и безопасное. Согласен? Вполне справедливо. Это неудача, моя беда, потому что неизбежно затемняет суть: болезнь скучна. Непереносимость к лактозе – не самое интересное про Эйнштейна. Если у меня не все тип-топ, это еще не значит, что я не прав. Я могу быть идеально здоровым, и все равно правым насчет всего остального. Миллиарды людей и здоровы, и согласны со мной. Я знаю, они есть; могу доказать; почитай мою диссертацию; я это доказал. Конечно, мне невыносимо говорить с ними, ни капли больше, чем ты можешь вытерпеть говорить со мной. Да и зачем тебе? Разумеется, каждому надо помнить: безответная любовь не смертельна, это просто временное расстройство пищеварения, которое не оставляет видимых следов, только незнакомую прежде, а ныне постоянную неспособность есть определенные, особенные, необязательные продукты – иначе получишь жестокое пищевое отравление. От креветок у меня газы – ну, я и не ем креветок. Я же не просиживаю ночи, плача о креветках, правда? Так что порядок. Две таблетки аспирина и стакан воды, помнишь? Теперь мне правда пора заткнуться. Я стал «!» и немного «ой» и в чем-то «А, понимаю…» Вот они каковы, жирные канадские гомики.
Этим и завершились попытки Марка Пейтона дописать свою диссертацию до популярной истории ностальгии. И Джон с горечью вспоминает, что так и не познакомил Марка с Надей, хотя тот несколько раз просил.
Джон не знает, куда девать глаза, его смущает, едва ли не устыжает все, на что ни посмотри: два обрывка несовместимой географии с мягкими белыми рваными краями, плакат с Сарой Бернар, пожелтевший в тех местах, где встречается со стеной, и забрызганный чем-то рыже-коричневым со сковороды, стопка блокнотов на пружинке и толстые тома: «Клочки славы, останки гордости, как умирают и остаются в памяти империи». «Был ли де Сад садистом? Был ли Христос христианином? Исследование аспектов именования, связанных с харизматическими лидерами». Будапешт 1900. «Вы мой командир? Мнемонически-темпоральные расстройства участников войн». На обложке верхней книжки, «Конец столетий, культурные трансформации в 90-е: 1290–1899» профессора философии Лайзы Р. Прут, материализуется муха. Прошвырнувшись несколько дюймов, останавливается передохнуть, потом гуляет дальше. Останавливается второй раз на черном вдавленном заголовке, оттиснутом на красной ткани Потирает руки и рассматривает Джона сквозь сотню золотых глаз. Джон прихлопывает ее на черной «К» из «культурных» и несколько минут рассматривает новые мушиные очертания в сером испятнанном дождем свете, что проталкивается в окно. Переломанные волосяные ножки и полупрозрачные крылья отходят от влажного тела, словно у авангардной скульптуры. И как бы сильно Джон ни дул, крылья дрожат, но не отрываются. Меньше чем через час Надя выйдет играть. Все, что всерьез, что на самом деле имеет значение, ждет его на скамье у рояля Появляется не задетый дождем Чарлз, в дверях перехваченный раскатами венгерской речи гигантского коменданта и однословными резюме его крошечной, упакованной в деним жены.
– Что с мадам Ностальжи? – спрашивает Чарлз.
– Кажется, Марк устал от этого города.
– Имел право. Он оставил что-нибудь пожрать? Подыхаю от голода.
Джон сложил блокноты в рогожный мешок, который принесла ему жена коменданта, и оставил троих толпиться в брошенной квартире и готовиться к торгу. Жена коменданта внезапно останавливается, прикрывает ладонью рот, и взвизгивает, глядя на бесстыдный фотоколлаж.
Джон пытается развернуть зонт, чтобы укрыть себя и дневники от основной массы дождя, но скоро ноги промокают по щиколотку, и вот он уже идет в темных грубых ботинках. Взморщенная лужа бросается и обволакивает его до паха; Джон щеголяет в пестрых колготах придворного шута. Проезжающие машины дважды массируют его обращенную к дороге руку холодной коричневой водой. К тому времени, как Джон пробрался к реке – хаосу концентрических кругов в бешеном соперничестве, – он продрог насквозь. Вот он уже бежит по мосту Свободы и дальше по Корсо, вот мокрый и запыхавшийся садится рядом с Надей на скамью у рояля в почти пустом клубе, в руках рогожный мешок, и с ребяческой надеждой – взятка. «Роб Рой».
– Расскажите мне историю, – тихо просит он.
– Святые небеса, Джон Прайс. Ты выглядишь…
– Какую-нибудь вашу историю.
– О чем?
– Все равно. Пожалуйста. Хоть о чем. Главное, хорошую.