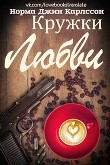Текст книги "Прага"
Автор книги: Артур Филлипс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 33 страниц)
– Вот именно, – говорит Марк – А мои подарили мне мундштук. Из слоновой кости и эбенового дерева. Антикварный. В четырнадцать лет я каждый вечер курил вместес родителями, надевал красный бархатный курительный халат, гетры и вставлял монокль Вот такого типа люди они были. Это они сделали меня таким.
Прибывает новый поднос с «уникумом» – любезность нетерпеливого Джона, проходившего через бар по пути в туалет.
– Ты врешь, да? – говорит Ники.
Когда возвращается Джон, они так хохочут, что Ники плачет, а Марк надсадно кашляет.
– Вообще, если хотите знать, я расскажу. Я не знаю, как это началось, – вот короткий ответ. Хотелось бы мне кого-нибудь обвинить, но, судя по всему, дело во мне. Я помню, как впервые это заметил. Вы правда хотите про это слушать? Это будет жалостливо.
– Жалостливо! – говорит Ники. – Да, давай.
Джон, не в курсе темы дискуссии, понимает, что Ники собирает мусор, дабы накормить свою прожорливую, истекающую слюной Музу, и любит ее за то, как она в открытую использует людей, даже его самого.
– Я отчетливо помню, как в четыре или в пять лет я катался у отца на спине по нашей гостиной. Он стоял на четвереньках – он был конь. Мы играли так каждый вечер, когда он возвращался с работы. Вот, отлично, и однажды он сказал, очень деликатно, просто замечание в сторону, со смехом и по-доброму, он сказал: «Ух ты, скоро будешь совсем большой, а? Такой большой, что я тебя не смогу больше катать!» Вот это оно и было. Я просто не мог поверить, что настанет время – скоро настанет, – когда наши вечерние скачки верхом закончатся, трепетная память о лучших днях. Вот тогда я понял: все хорошее умирает. Не успеет оно начаться, как уже ушло. Закон природы.
– Как жалостно.
– Я предупреждал. Ну ладно, следующая история повеселее. Она о том, когда я точно узнал, что не такой, как весь остальной мир.
– Нет, пожалуйста, – протестует Джон, – только не очередной чувствительный молодой гомик, который выбрался из кокона.
– Нет, – соглашается Марк. – Боже, я не об этом. Это ерунда. А вот то гораздо важнее. Помните рекламу «Морен Кина» тридцатых годов? Нет, наверное, не помните. Были такие рекламные плакаты французского аперитива. Не думаю, чтобы он где-то встречался в последние несколько десятилетий, но эти плакаты уже вроде как легенда. Ладно, дело в том, что впервые я увидел этот плакат лет в одиннадцать или двенадцать, и сразу в него влюбился. По уши. Я рассматривал альбом старинных рекламных плакатов, и этот просто сразил меня наповал. На плакате был зеленый дьявол, который старался штопором откупорить бутылку «Морен Кина». Он весь зеленый, только длинный тонкий рот красный и ярко-красные глаза. У него буйные ядовито-зеленые волосы торчат в разные стороны и зеленый хвост с наконечником вроде маленькой лопаточки. Он скалится и как будто подпрыгивает, зависает в воздухе, пытаясь открыть эту бутылку. И тут ты замечаешь его ступни: на нем такие вроде бы зеленые балетные тапочки. Не как у дьявола, соображаешь ты. Потом замечаешь, что он довольно пузат. Потом понимаешь, что это не настоящий дьявол. Это портрет какого-то толстого парня, который нарядилсязеленым дьяволом, наверное, на маскарад или еще куда, и вот он пытается открыть бутылку аперитива для гостей. Я любил этот плакат. Бывало, не мог уснуть – так его любил. Мне даже сейчас приходится себе напоминать, что нельзя смотреть на репродукции перед сном. Это была картина из славного времени, когда устраивались маскарады и люди собирались, чтобы вырядиться странными зелеными дьяволами, из времени большого веселья. Ну, значит, та жизнь, в общем, была – напиться и постараться урвать секса, но с такими вот затеями она казалась важнее и осмысленнее. Теперь я знаю, что ничего этого больше нет, что все хорошее на самом деле осталось в прошлом. Но в двенадцать лет я еще надеялся дожить и увидеть это славное время. Значит, ладно, Хэллоуин 1975 года. Я очень старательно готовился, тайно Родители спрашивали: «Кем ты нарядишься?», но я хранил это sub rosa. [73]73
В тайне (лат).
[Закрыть]Я нашел материал, много красил, шил, разрисовывал и так далее, да? Значит, я начал вечер на детском празднике. Там я пошел в ванную, и у меня почти полчаса ушло на то, чтобы как следует приладить зеленые волосы и все остальное. Я все сделал идеально. Зеленые балетные тапочки. Брюшко у меня было и тогда. Я взял штопор и бутылку колы, которую разрисовал под старинный «Морен». Я вышел, сбежал вниз, и никто не мог и близко догадаться, кем я оделся. «О, глядите, Марки Пейтон – маленький монстрик», – сказала чья-то мама. «Мама, Марк страшный», – сказала маленькая девочка и заплакала. Я попробовал им объяснить: «Я не страшный. Я весь из славных времен, веселых вечеринок, здоровских старинных реклам». Никакой реакции. «Эй, смотрите! Конрад Дэвис – автогонщик! Джин Маккензи – астронавтка!» А я все думал: астронавтка? они что, смеются? Но я подумал: эй, ведь здесь в основном просто дети. Вечером я приду домой, к родителям, у них будут гости к обеду, и я дам шикарное представление…
– И все скажут: «Смотрите, это толстый зеленый дьявол с тех чудесных реклам пятидесятилетней давности»?
– Ну да, – соглашается Марк. – Мне было двенадцать. Я думал, взрослые поймут. Я отправился домой и по дороге ду мал, что там будет утонченная компания, очаровательные люди в щегольских костюмах, попивают шампанское из высоких бокалов. Вообще-то непонятно, почему я так думал; родители мои были довольно наивные, самые заурядные обыватели торонтского пригорода В общем, я вышел к столу, за которым было полно людей в плохих пиджаках и платьях в цветочек, и эти люди спрашивали: «Кем ты оделся, дорогуша? И что это за плакат, дорогуша? Малколм (это мой отец), Малколм, судя по его увлечениям, мальчик – будущий алкоголик, хахахахахаха». И так далее. Мама спросила, кем нарядились другие дети, и я ответил: «Всякими современными ужасами. Космический скафандр, еще что-то». «Правда? – сказала она. – Как здорово! Астронавт!» Мне они все были так противны. И тогда я понял. Я понял, что со мной что-то не так, или что-то не так со всеми остальными. – Марк осушает стакан и безот четно смеется, чтобы к спутникам вернулась безмятежность, и глядит, как Джон держит Ники за руку.
Но Ники ничего не слышит; она что-то заметила на другой стороне улицы и сидит неподвижно, только косит глазами, следя за происходящим в сотне футов от нее, на лице разгорается гнев.
– Погоди секунду.
Она отталкивается от стола и бежит через проспект, выста вив ладонь тормозящим машинам.
– Должен признаться, я ее люблю. Я в нее абсолютно влюблен, на самом деле. Правда, Джон. – Марк вздыхает и трет глаза. – Мне кажется, вот с ней ты и должен быть.
– В кого влюблен? – рассеянно отвечает Джон. Между мчащимися и стоящими у тротуара машинами он то и дело через дорогу видит Ники у витрины под замкнувшей неоновой вывеской, сломанной и мигающей каким-то зеленым словом, нечитабельным, даже если бы Джон знал венгерский. Ники, взволнованно жестикулируя, что-то говорит молодой паре. Через несколько секунд она с силой толкает мужчину, он отступает, лицо удивленное, сердитое и будто бы даже веселое. Девушка рядом с ним вопит, слов не разобрать, хватает Ники за лацкан блейзера и сильно бьет по щеке.
– Оппа, – выдыхает Джон, и Марк тут же вскидывается. – Что-то новое.
Удар на миг парализует Ники, но потом она толкает девушку кулаком в живот, та переламывается пополам, и с Джонова места это выглядит так, будто Ники выпустила из нее воздух, выдернув пробку из пупка. Ники плюет в изумленного парня, который кладет ладонь на спину своей спутнице, поворачивается и медленно идет через улицу обратно, и с ее губ опять искрами брызжет фейерверк образной и красочной брани. Не садясь, она подзывает официантку и заказывает еще три «уникума». Усевшись, нежно щиплет Марка за щеку, а Джона за мошонку.
– Извините, мальчики. Старые дела.
– Кто это был? – спрашивает Джон.
– Я, кажется, уже сказала – старые дела, а? – Четыре белых пальца резко отпечатались на ближайшей к Джону щеке Ники – призрак поклонника, восхищенного мягкостью ее кожи, – и Ники быстро приканчивает свою долю со следующего подноса. – Без толку барахтаться в прошлом, правда, Маркус?
Марк отчаянно моргает, пытаясь сфокусировать взгляд, стереть летнюю дымку и приладить свои сморщившиеся к ночи контактные линзы.
– Можно мне тебя проинтервьюировать для моего исследования? Ты мой новый герой.
– Нет, не выйдет, – говорит она, поднимаясь и за руку поднимая Джона. – Потому что после драки, Марк, я люблю трахнуться. Я хочу, чтобы вот этот Джон увел меня к себе. Я бы пригласила тебя присоединиться, но неудавшийся гетеросексуал мне сегодня ни к чему.
Ники начинает выкладывать на стол форинты, но Марк отвергает их и сообщает, что намерен также купить большую фотографию, завтра он свяжется с организаторами выставки, чтобы все уладить. Ники буквально подпрыгивает на месте раз и другой, хлопает в ладоши. Откровенно тронутая, она целует Марка в лоб, гладит по щеке и, кажется, вот-вот заплачет. Благодарит, потом еще раз, потом уводит своего кавалера за руку в сторону проспекта Андраши.
Пока они молча шагают к его дому, где не поджидают скрытые камеры, до Джона доходит, что у Марка много денег, возможно, очень много. Месяцами Пейтон ставил и ставил всей компании выпивку, раз за разом платил за еду, каждую неделю что-нибудь дарил Джону, а теперь собирается купить произведение искусства, оцененное в девять месяцев Джоновой зарплаты, хотя у ученого нет никаких видимых источников дохода.
– Это как бы ужасно грустно, – бормочет Джон, имея в виду, что он то и не догадывался, а Марк, вероятно, самый близкий его друг в этом городе; но в изменчивом, неустойчивом эмоциональном пейзаже, который творит выпивка – и особенно «уникум», – Джон скоро переваливает печальный холм и входит в новую страну, приятную зеленую долину, где он счастлив оттого, что ведет такую интересную жизнь, счастлив оттого, что друг покупает произведение искусства, для которого позировал Джон, счастлив идти за Ники, которая, очевидно, знает какую-то тайну полного и насыщенного бытия, счастлив быть пьяным, счастлив оттого, что сегодня его не будут фотографировать во время секса, счастлив быть таким безусловно свободным от Эмили, таким ужасно грустным оттого, что сейчас не с Эмили, даже зная, что после всех его заблудших стараний он только отброшен назад и почти не знает ее; прикидывает, что Эмили должна чувствовать, живя в совершенной секретности, полагаясь только на свои решения; но Джон опять необыкновенно счастлив быть прижатым к этой кирпичной стене и чувствовать этот мягкий грызущий рот на губах, вкус сигаретного дыма и спиртного, потом лицом – ее лысину, шеей – ее лицо.
– Знаешь, что мне в тебе нравится, малыш? – Ники лижет его ухо. – К тебе ничего не пристает. Ты плывешь себе через все, совершенно спокойный.
После одинокой рюмки или двух Марк встает из-за уличного столика, возвращается прямиком в галерею и заявляет, что покупает фотографию, где занимается сексом пара, в эту минуту на самом деле занятая сексом (после того как Ники вынула из рюкзака подарок для Джона: лист негативов, на которых его выкрученное тело еще несет собственную голову, голову, на двенадцати кадрах выдающую узкий спектр череды бычьих и лисьих рож, которые обладатель головы несколькими минутами позже может лишь тщетно попытаться забыть, хотя и зная, что в эти минуты их воспроизводит).
Завершив сделку в диско-кино-галерее (теперь маленький ярлычок на двух языках гласит «ПРОДАНО»), Марк выходит в ночь, направляясь в отель «Форум», где в фойе его ждут удобные кресла и широкие столы с прозрачными столешницами, взрастившие сад чашек, расцветающих соленым арахисом, где по-западному вежливые официанты в черных жилетках принесут колу в маленьких бутылочках, и где, самое главное, «Си-эн-эн» покажет последние новости о кризисе в Персидском заливе и можно до рассвета сидеть, наблюдая, как разворачивается история надвигающейся войны, и в кои – то веки не думать больше ни о чем. Он так этого жаждет, что пару раз переходит почти на бег, который скоро прекращается одышкой человека не в форме, и самоосмеянием, и радостным сознанием, что бежать вообще нет необходимости, потому что новости идут двадцать четыре часа в сутки, самые, самые последние в любой час.
XIVБольшую часть августа 1990 года, впервые с тех пор, как раскрасил себя в зеленый цвет и удивился, почему его канадский мир не понял его и не полюбил, Марк прожил, решительно оставаясь в настоящем и перевозбужденно этим гордясь. Три недели назад он и не слыхивал про «Си-эн-эн», а теперь любит его, и более того – он любит свою любовь к «Си-эн-эн», свое искреннее наслаждение чем-то настолько, настолько современным. Эта слепая влюбленность доказывает, что с ним все будет в порядке, она отвлекает Марка от его множащихся страхов. Он быстро выучил имена американских генералов и чинов из Министерства обороны, всех постулаторов медиасети, титулы и взаимные влияния разных представителей коалиции. У себя в квартире Марк повесил квадратную четырехфутовую карту Ближнего Востока и ежедневно украшает ее – справляясь по свежему номеру «Интернешнл Геральд Трибьюн» о верных координатах, – бумажными силуэтами, за вырезанием которых проводит утра: маленькими корабликами – это флоты коалиции, маленькими танками – артиллерийские и бронетанковые соединения, маленькими касками – пехота, бумажными флажками множащихся участников войны и изогнутыми красными стрелками с подписанными датами, которые показывают продвижение войск.
Новости,и так буквально новы,война, по телевизору транслируемая в реальном времени шаг за шагом. Что может быть современнее, чем постоянно смотреть новости, освещение событий во всех концах Земли, которым прежде понадобились бы дни, недели, месяцы, чтобы до тебя дойти? Всем сердцем Марк живет в девяностых, в тысяча девятьсотдевяностых. Радостное ожидание, какого он никогда не знал прежде: когда новости опять выйдут в полчетвертого, будет ли там повторение того, что он слышал в трехчасовом выпуске, или в промежутке случится что-то новое? Сама мировая история творит себя для него каждые полчаса – вполне подходящий шаг времени, чтобы превратить Марка в развалившегося на облаке зрителя-олимпийца, которого рогатые козлолюди с меховыми ногами кормят из-рук лакомствами из золотых кубков и с серебряных подносов.
Три недели это непрочное счастье давало Марку какое-то агрессивное лихорадочное рвение в работе, но с некой личной отстраненностью и уравновешенностью: ведь высшая точка его дня – по которой он томился и в библиотеках, и в антикварных лавках, и за письменным столом, – необоримо перетягивала в настоящее,когда фойе отеля «Форум» распахнет Марку свои материнские объятия и он сядет наблюдать, как смертные выделывают свои кульбиты.
До самого вечера с Джоном и Ники, когда, через три часа после того, как они покинули его за столиком, он ясно понял, отчего «Си-эн-эн» доставляет ему такое удовольствие: новости похожи на старинную кинохронику. Он только что отсмотрел четыре повтора американских солдат, марширующих под закадровый журналистский баритон. Четыре раза, и каждые полчаса один придурковатый солдатик оборачивается прямо в камеру, и его губы складывают слова: «Привет, мам!» И с каждым разом отряд, шагающий мимо камеры, кажется все менее и менее современным, все более и более – будущим историческим документом или букетом будущих личных воспоминаний – когда я был в армии, меня показывали по «Си-эн-эн», мой сын поздоровался со мной на «Си-эн-эн», мой покойный сын, сын, которого убили на войне в пустыне, мой дружок сказал «Привет, мам!» по «Си-эн-эн», помню, сержант задал нам перцу из-за того, что какой-то шутник, которого я даже не знал, сказал «Привет, мам!», когда «Си-эн-эн» снимало нас при всем параде, твой отец был солдатом, вот он есть на видео, твой дед был в армии и воевал в первую войну в пустыне, можешь посмотреть запись на компьютерном визуализаторе, какой смешной ролик, мам, почему солдаты такие странные?На их пятом смотровом проходе мимо Марка приставшая к этим молодым парням качественная сепия – хроника с марширующими солдатами, посланными в который раз спасать мир, – уже могла бы с тем же успехом быть подергивающейся ускоренной черно-белой, и оглушенный открытием Марк встает из-за стола в фойе отеля, где он сидел в 3:37 утра, бросая в рот орешки и отпивая прямо из бутылки теплую кока-колу (которая из стеклянного соска почти такая же на вкус, какой была в теннисном клубе в Торонто, где Марк отсиживал раз в неделю – с шести до девяти лет, – глядя на плохую игру отца), и с горечью понимает, что его надули. Никто никогда не знает, что он старомоден; каждый думает, что он новехонький: рахитичный «Форд Т» не был рахитичным, когда его изобрели, трескучее радио не было трескучим до появления телевидения, и немые фильмы не были жалким предвестьем звуковых, когда звуковых еще не было. Телефон, у которого надо прижимать цилиндр к уху и вопить в стену, требуя нужный номер у загнанной телефонистки, жонглирующей штепселями, был пиком высокой технологии. Знать, что он хоть в чем-то не таков, было бы все равно, что признать: ты скоро умрешь, жизнь мимолетна и ты уже на полпути к тому, чтобы стать просто памятью или того хуже Настоящая и худшая трагедия Восточной Европы двадцатого столетия: они знали, что старомодны, прежде чем могли с этим что-нибудь поделать. Политика, культура, технология, человеческие жизни – устарели: ничего страшного, пока сам об этом не знаешь, но они знали Они знали, что там, за этой кошмарной Стеной, прямо за Железным занавесом (определяющая черта их существования, выстроенная и отлаженная в сороковых из колючей проволоки и минных полей, десятилетиями не менявшая устройства) жизнь идет быстрее, глаже, богаче и во всех красках.
Марк отворачивается от экрана и смотрит сквозь большое окно на почти пустую (один сутенер, один пьяный, один сонный бесприютный турист-рюкзачник) Корсо. «Си-эн-эн» – это кинохроника моего дня, думает он. «Моего дня» – говорит он вслух, и официантка поднимает глаза от протирания того же квадратного фута коктейльного столика, который она медленно, рассеянно полирует уже несколько минут. Моего дня: это само по себе горько. Умирание происходит повсюду вокруг него и внутри него. Быстрей, чем он способен жить и расти, он умирает и усыхает. Может ли быть – Марк с любопытством разглядывает ночной персонал отеля (портье, горничная, катающая ведро, официантка), – что какие-то люди еще живут и растут, не знают, что все кругом уже старое и умирает? Будет ли правильнее сказать им, или правильнее придержать язык?
Тот же яд сочится ему в кровь двумя часами позже, когда на небе появляется солнце. Марк в глубине саудовских территориальных вод, в полусне надписывает даты на изогнутых стрелках, переставляет бумажные корабли и вдруг понимает, что все его действия бесполезны, тщетная попытка не замечать шума. Ему никого не одурачить. Марк в злобе разрывает карту посередине, оставляя Запад и Восток свисать двумя бесполезными лохмотьями со стены, и медленно кромсает каждый любовно вырезанный кораблик, каждый танк, каждую каску, каждую выгнутую стрелку, сгребает маленькой грудой, перековывает свои мечи на конфетти. Еще сильнее зловещее предощущение разит в полдень, когда люди из галереи поднимают его от потного, со скрученной шеей, сна, доставив его покупку, и принимают от него кучу форинтов в коробке из-под обуви, и Марк прислоняет здоровенную картину, обернутую в коричневую бумагу и обвязанную шпагатом, к облупившемуся шкафу из фальшивого дерева. Не стоит и разворачивать: художество уже устарело. Ники – невероятный эксцентричный персонаж чьих-то будущих мемуаров о богемном Будапеште конца столетия, и грядущего читателя в год публикации шокирует то, как она выглядит в свои восемьдесят, и он предпочтет держаться старых зернистых фотографий, на которых Ники осталась прекрасной лысой женщиной. То же чувство заколотилось в сумерках, когда Джон зашел за Марком и они зашагали на вечернюю тусовку (в доме у юриста Чарлза Габора, яркого англо-мадьяра, который нанимает артистов будапештской оперы петь у себя в саду, пока гости решают дела, пьют и флиртуют), заговорили о Персидском заливе, и Джон рассмеялся, когда Марк безнадежным голосом сказал, что будет война.
– Какая война? Война из-за этого?
– Не какая-нибудь война, а этавойна. Нашавойна. Само ощущение этого города изменится, оно уже меняется. Это не просто конец августа 1990 года. Это последние месяцы нашего мира, кончается предвоенное лето нашего поколения. «Каково это ощущалось – лето перед войной? Ты понимал, что время кончается? Ты видел, что все это скоро сметет?» Лето перед войной.
Джон поворачивается на ходу, присматриваясь к другу.
Марк чувствует на себе взгляд, и, понимая, как звучат его слова, хочет как-нибудь успокоить друга, пусть даже его слова звучат так лишь оттого, что так ужасна истина, но не находит что сказать, и не видит, как объяснить, что это – и лето, и погибающий мир, – это он,сам Марк. И пока они не спеша идут сквозь тихий и приятный вечер, время шумит у него в ушах, несется мимо пьяным потоком машин, сверхзвуковыми поездами, стадом роняющих пену, вращающих глазами и подымающих облака пыли зверей, Он отпустил свою стражу. «Си-эн-эн»! Отчего-то он перестал бдить, следить за временем, и теперь придется платить за свое нерадение. Теперь придется сидеть грубо привязанным к столбу, в глаза вставлены расширители. Одна мысль утешает его, новая мысль: может быть, время мчит мимо не так болезненно в местах, которые не выглядят старыми, у которых нет истории. Например, в Торонто.
– Еще страдаешь с похмелья? – спрашивает Джон.
Они идут мимо отеля «Геллерт» (в котором все путеводители стандартно воспевают «увядшее великолепие», на пару недель в середине мая сделав «Геллерт» Марковым любимым пастбищем на Будайской стороне) в первом отчетливом прикосновении вечера, когда сырость испаряется под прохладным вздохом ветерка, и вдруг Марк закусывает губу и говорит, что неважно себя чувствует, и прежде чем Джон успевает что-нибудь толком выговорить, канадец разворачивается и шагает обратно вверх по Геллерту к своей квартире.