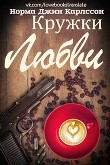Текст книги "Прага"
Автор книги: Артур Филлипс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)
Может, все еще обернется так, что вчерашнее событие окажется спасительным ледоколом, паровым клапаном. Еще один толчок – и все состоится, наконец начнется. Утром: дождь символически закончился, голубое небо, желтый камень моста, голоса птиц над голосами машин, вечное движение реки, клочки облака, словно ресницы только что раскрылись после супружеского сладкого сна. (И все же какое-то бесформенное сомнение копошится во внутреннем ухе, жужжит где-то за краем поля зрения, строит злые рожи, не дожидаясь, пока Джон отвернется.) Он придумывает слова для разговора, и рокот и плеск Дуная, что слышны с этого лучшего из всех возможных мостов, – барабанные раскаты к птичьим гобоям и автомобильным струнным. Прямо перед ним оранжевые безрукавки пожилых муниципальных уборщиков: остановились и метут тротуар жесткими метлами из прутьев – реквизит из волшебных сказок. Джон проходит, один из метельщиков опирается на свое орудие и с безразличным лицом ловит его взгляд. Джон по-венгерски желает ему доброго дня. Старый метельщик неопределенно гмыкает в ответ и возвращается к сгребанию в кучу маленьких кусочков синего и белого неба – осколки зеркала, разбитого и брызнувшего по тротуару.
Впереди в тени Парламента молодая женщина стоит на коленях, спиной к Джону, голова низко опущена. Без задержки минуя ее и оглядываясь через плечо, Джон видит, что она гладит кошку, лежащую на тротуаре, головой у женщины на коленях. Та тихонько плачет, кошкины внутренности вылезли, мокро вывалились на тротуар. Полузакрытые оранжевые кошачьи глаза вяло провожают идущего мимо Джона, но сил двинуть головой или лапой у несчастной твари уже не осталось. Женщина гладит застывшую мягкую кошачью голову. Джон видит, что она не испугана, хотя и в слезах, хотя ничего не может сделать, не может вызывать дежурную летучую бригаду виртуозных кошачьих хирургов. Она плачет и гладит животное, и у Джона нет слов спросить, что случилось, предложить хоть какую помощь или утешение. Потрясенный, он идет дальше, пытаясь сосредоточиться на тексте письма к Эмили (запасной вариант, если не удастся выманить ее вниз в фойе выслушать его основную речь).
Он повторяет заготовленные фразы (Я бы никогда ничем тебе не…).Репетирует и слегка изменяет их, пока незнакомый морпех звонит наверх (Я сказал то, что сказал, только чтобы ты поняла, я…).
– Она в отпуске, – приглушенный микрофоном голос с алабамским акцентом просачивается сквозь пуленепробиваемое оргстекло. – Ды, с сегодняшнего. Ня, не сказали. «Очередной отпуск» – все, что сказали. Хотите оставить сообщение, сэр?
На обратном пути к реке он редактирует обращение, которое теперь переносится в ее бунгало (Я только хочу, чтобы ты поняла, как…).По пути Джон заходит в редакцию, любезно проговаривая за Эмили ее ответы (Конечно, я на тебя нисколько не сержусь, входи, всякое бывает, мммм, ты ужасен…).
– Отлично. Нас нежданно посетил Пройс. Минуточку вашего времени, саа. – В последнее время главный усвоил манеру диккенсовского учителя, и Джону смешно от такого вызова: строгая бровь, манящий указательный палец крючком, медленно сгибается и разгибается, будто главный прилежно щекочет подбородок невидимого перепуганного ребенка. Редактор затворяет дверь, прыгает в кресло и начинает яростно черкать в бумагах. – Очень хорошо. Прайс. Ты уволен. Очистить стол и вон отсюда через – будем справедливы, – пятнадцать минут. И нет: никаких рекомендаций.
Джон падает на пустой стул и трет глаза, еще сухие и зудящие после относительно бессонной ночи (Ты и правда хотела бы, чтоб я оказался страдающим девственником?).
– Дружище, я полужив. Я уже сто лет толком не спал. Да, пока не забыл: на стриптизерш у меня, наверное, еще денек уйдет. Почти готово.
– Нет необходимости, – бормочет редактор и яростно вычеркивает целую строчку.
– Ой, ну не давите. Правда, еще денек. Сегодня у меня встреча с тем квартетом, который ставит оргию в пустыне. Обещаю – к завтрашнему готово.
Редактор поднимает глаза от черканья:
– Ты еще здесь. Ты меня слушал? Пятнадцать минут начались, когда я сказал «пятнадцать минут».
– И еще у меня есть другая идея. Как думаешь: может, сделать серию очерков о послах, таких светских. Теннис с американским послом. Безнадежное рысканье по ресторанам с французским. Секс клубы с датским. Грустное, нищее разглядывание витрин с болгарским и северокорейским.
– Ты что, вомбат? Простые же действия. Забери свои вещи. Мои оставь. И уходи. Больше не попадайся мне на глаза.
– Вы на что-то злитесь?
– Мистер Прайс. Если вы так хотите провести… – Театрально отодвигается манжета, взгляд на циферблат черных пластиковых часов, подсчеты в уме, манжету на место, пальцы сплетаются на крышке стола, – …тринадцать минут – как хотите. Ты думал, посольство не пожалуется? Ты думал, я тебя прикрою? Или что ты прокатишь за символ свободной прессы? Это преступление – печатно называть сотрудников посольства шпионами или хотя бы этим угрожать. Прав ты или нет, посольство все равно сердится. А отвечать мне.
– Они сказали, будто я сказал, что я на… – Несколько долгих секунд Джон таращится на немигающего главного. Смутная возможность, что Эмили все неверно поняла, сказала кому-то из начальства, а те позвонили главному…
– Ты еще здесь? Ты ведь не собираешься утомлять меня лекциями о свободе печати, а, мой юный идиот? Все-таки у тебя побольше ума. Давай иди.
Джон сидит не шелохнувшись и пытается сообразить.
– Вы хотите, чтобы я позвонил кому-нибудь и объяснил, или что?
– Нет Я хочу, чтобы ты ушел. Сейчас же.
– Вы собираетесь уволить меня за это? Это смешно. Я поссорился со своей девчонкой, и вы увольняете меня за измену родине? Абсурд.
– Еще здесь? Ладно, мистер Прайс. Очевидно, ты думаешь, что я мартышка. Я согласен, это, нафиг, не «Таймс» и не «Прага Пост», но, знаешь, мы не окончательно коррумпированные, глупая ты манда. Ты получал или ты не получал плату от персонажей статей, которые ты писал для нашего издания?
– Но это совершенно вырвано из контекста. Вы все не так поняли, кто бы ни был вашим источником.
Главный уже заводился, его ноздри зажили собственной активной жизнью.
– Еще здесь? Отлично. Мистер Райли, необразованный, болтливейший человек из службы безопасности посольства, который ночью пробудил меня от глубокого сна, также сообщил мне, что это не ваша девчонка, мистер Прайс, и что вы, я цитирую этого несчастного, «до сегодняшнего дня хищнически преследовали упомянутую молодую особу». Так что вы уж меня простите, мистер Прайс, но я снова спрошу: вы, нахер, еще здесь?
– Это стопроцентный нонсенс. Абсолютная ложь.
– Восхитительно. Уже горячее отрицание. Преступный сексуальный шантаж? Ну вроде того. Злоупотребление доверием газеты? Да, но тут ничего серьезного, скорее вопрос интонации. Преследования? Конечно, нет. Миста Пройс, вы еще здесь?
Но его уже нет. Большие часы на стене отдела новостей с гулким щелчком удобно укладывают минутную стрелку на цифру три, спустя пятнадцать минут после прихода Джона, и Джон выходит за дверь редакции с тремя предметами, которые с полным правом может считать своими. Прямо за дверью его останавливает Карен Уайтли, целует, шепчет: «Если я чем-то могу помочь…» – и спешит обратно в редакцию.
Несколько бесполезных попыток за несколько часов – никто не отвечает в ее странно опустевшем бунгало, и потому с быстротой сна и внезапной темнотой декорации меняются, и Джон стучит в дверь уже на том берегу реки, в Пеште. (Возвращался он другой дорогой – не рискнул опять увидеть кошку.) Он понимает – с мимолетной ясностью, которая легко забывается через миг, – что неверно классифицировал: Эмили это не всерьез, просто немного вышла из себя. Он стучит в дверь единственного серьезного человека, которого знает. С ней выйдет деловой разговор без эмоций, на ровном киле, холодный душ реальности на липкую нереальность дня.
Она открывает дверь и оставляет открытой. Ни слова не говоря, возвращается через комнату к холсту. Влезает на заляпанную краской деревянную табуретку, тянется за кистью, но тут же снова ее кладет. Вильнув бедрами, крутит табуретку и оборачивается к Джону.
– Так что было прошлой ночью? Трахнул свою крестьянку? А?
– А тына что злишься?
– Трахнул. Невероятно.
– Перестань. Я пришел, потому что мне надо с тобой поговорить. Меня только что уволили, я как-то…
– Прошу тебя.Перестань. Хватит. Уйми эту мелкую тряску, которую я слышу, ладно? Объясни мне кое-что: как я превратилась в такую, к которой ты приходишь поплакаться? Один раз – ладно, но это было маленькое чуднóе исключение. Я самый неподходящий для такой работы человек в мире. Не бывает человека, которого это интересует меньше, чем меня, ясно? Именно поэтому у нас есть правила дома. – Она опять вертит сиденье бедрами и хватает кисть.
– Ты ревнуешь?
Она запускает кисть кувыркаться через всю комнату – кисть ударяется в грязное ростовое зеркало со слабым «тик-клик-клик», оставляя на стекле два синих мазка.
– Боже мой. Люди, вы меня убиваете. Вы меня, блядь, убиваете. Если я и ревную, то, поверь мне, здесь нечем гордиться, мудила. Как же вы мне все омерзительны.
– Пожалуйста, поговори со мной. Я себя чувствую так, будто…
– Хватит, Джон, что бы ты там ни чувствовал,это жизнь, и далеко не самая интересная ее часть. Так что избавь меня.
Джон валится навзничь на ее постель и бросает в потолок заскорузлый, заляпанный краской теннисный мяч, ловит прямо у лица.
– Раз уж ты спросила – нет, я не трахнул свою крестьянку, хотя почему это заботит тебя, я постичь бессилен. Я знаю ее дольше. Я всегда чувствовал к ней, не знаю, как будто…
– Иисусе всеебущий. – Мольберт с грохотом валится на пол и на спинке скользит навстречу своему быстро приближающемуся двойнику. Джон ловит мяч на отскоке и замирает, одной рукой стискивая желтый ворс, будто окаменевшая кошка с клубком. – Слушай, тупица, мы тут все в кого-нибудь влюблены, понял? Поголовно. Каждый распоследний идиот, которого я только знаю. Это слегка утомляет. Если мы все начнем говорить о наших маленьких тайных болях, они перестанут быть тайными, и мы все будем такие одинаковые, что, наверное, друг друга поубиваем. – Ники смотрит на Джона в упор и тяжело переводит дыхание. Ее тон меняется – теперь он чуть спокойнее, принужденно добрый: – Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста,уходи, дай мне поработать.
Джон лежит в своей постели. Бунгало Эмили настойчиво провозглашает свою опустелость, а телефон – глухое одиночество. Джонов автоответчик воспроизводит не меньше пятнадцати щелчков положенной трубки и одно длинное послание с угрозами от «Ли Райли, хочу пообщаться с вами по поводу некоторых жалоб от многочисленных лиц женского пола из состава сотрудников посольства, у меня, сэр, фактически несколько жалоб, поданных многими нашими леди о том, что можно классифицировать только как…»
Джон отключает запись. Он лежит в постели, и в голове звучат слова полюбившейся ему песни, хотя голос венгерский и незнакомый. Джон окунается в сон и выскакивает, как ребенок, преодолевший холодную морскую воду. В балконную дверь входит Надя, она несет с собой лунный свет.
– Это вопрос силы воли, Джон Прайс, – говорит она своим крепдешиновым голосом кинозвезды, – и сильные люди такого просто не допускают.
– Чего не допускают? – спрашивает он. – Чувств или разговоров о них?
– Вот именно, – отвечает она и садится ему на грудь – отчетливо слышен слабый хруст. Медленно, нежно она ведет своим молодым прозрачным лунным пальцем по его сомкнутым губам. Медленно, мягко просовывает палец ему в рот, сначала прозрачный лунный ноготь, затем старинный бесплотный сустав – поначалу это нежное сексуальное ощупывание. Внезапно Джону страшно, но он не знает, как управлять мышцами челюсти, чтобы воспрепятствовать вторжению, Ее ноготь режет мякоть Джонова языка – треск, будто рвется ткань, – потом легчайшим мимолетным прикосновением крошит зубы. Проткнутый содрогающийся язык остается на месте, а зубы сыплются в горло, забивая его, – все, кроме одного огромного моляра с аркой двух корней, вроде моржовых клыков, который она вынимает у него изо рта и держит двумя пальцами перед его широко открытыми мокрыми глазами. – Будет что включить в отчет, – шепчет она и старческой рукой касается Джоновой промежности, потом уходит тем же путем, каким пришла, через закрытую балконную дверь, забирая с собой лунный свет.
Он много спит, часто, хотя не всегда – ночью. Ли Райли оставляет ему несколько сообщений, и Карен Уайтли тоже. По булыжному говору дремучего юга и красочной солдатской фразеологии Джон пробует реконструировать самого Райли; он рисует лысого, плотного отставного морпеха с прищуром и усами (похожего на телевизионного частного детектива в дублированном сериале по немецкому кабельному каналу). На улицах Будапешта он встречает несколько воплощенных приближений к этому наброску и пытается, всякий раз слишком поздно, избежать встречи взглядами. Трудно отыскать Эмили, не натолкнувшись на Райли или его людей. Как он будет держаться, когда его станут избивать? Будут ли ему при этом нашептывать жаркие угрозы или, не мудря, поставят на непреодолимую силу неуличающей бессловесности? Объявят ли они себя или прикинутся венгерскими хулиганами, нанюхавшимися клубными ребятишками, цыганами? Фингалы. Сломанный нос, пинки по ребрам или в пах. А потом в мемориал Бориса Карлоффа – несколько швов несвежей ниткой от курящей вонючей медсестры.
Она все не возвращается. Когда дверь ее бунгало после мучительно долгой неподвижности открывается и Джон слетает с деревянной скамьи через дорогу, он натыкается только на выходящую Джулию.
– А, это ты! Мы тебя сто лет не видели, – воркует она, такая совершенно обычная. – Как ты? Нет, она в отпуске. Ну, типа, как правило – две недели, но вообще-то я не знаю. Она не сказала. Но, слышишь, я скажу ей, что ты забегал. А ты поскорее куда-нибудь с нами сходи, даже если еееще не будет, мм? О, извини, дорогой, это было жестоко, да? Между нами, я думаю, вы, ребята, правда здорово подходите друг другу. Конечно, мы об этом говорили, глупый. Но знаешь ведь, Эмили ничего нельзя внушать. Еще бы ты не знал. Она как… нуда ладно. В любом случае приходи. Мы с Джулией сегодня вечером идем в новый…
Джон сидит в «Гербо» – если не в тот же день, то в какой-то очень похожий. Ему нужно убить время, и оно послушно выстраивается в очередь к эшафоту. Дни лениво отказываются различаться. Она может прийти в «Гербо», поддержать старые традиции.
Райли больше не оставляет сообщений, так что Джон, подняв воротник, снова храбро является в посольство. Другой морпех (или тот же морпех, но в другой маске) говорит:
– Миссоливервотпускесэрнехотитеоставитьсообщение?
Джон качает головой в металлический интерком. Он выходит из здания, когда осторожный лимузин выгружает на тротуар пассажира. Джон узнает посла, Робин Гуда с Хэллоуина, вспоминает ее руки, затягивающие шнуровку на его ярко-зеленом колете.
– Она в отпу-пуске, сынок, – заикается посол на Джонов внезапный вопрос на тротуаре, а венгерские полицейские с автоматами окружают их, обернувшись вовне, готовясь к возможному нападению, – кокон синих виниловых спин создает внезапное и сбивающее с толку уединение посреди улицы для импровизированного интервью.
– Куда она поехала? – вопрошает Джон.
– Вы как жена французского по-посла. «Где ми-милая Эмильи, hein?Мы хотим сделать приглашение на обед?» Но, сынок, как я сказал мадам Ле-ле-ле летние отпуска – это частное дело. – По какому-то неуловимому для Джона сигналу оболочка из полицейских раскрывается с одного конца, и посла всасывает здание. Джон смотрит, как черная кованая решетка закрывается за дипломатом, снисходительно принимающим скрипучий, но формальный поклон Старого Петера. Полиция рассеивается: по будкам, за углы. Где-то рядом играет боливийский оркестр: гитары и дудки, горы и кондоры, любовь и месть, можно купить кассеты.
В дверь звонят, звонили, позвонили, скоро перестанут звонить – брызги глагольных времен кропят его сон, пока он не встает и не плетется в тумане к двери.
– Балбес, у тебя что, будильника нет? – Чарлз одет в потертые джинсы, футболку с рок-группой, давно вышедшей из моды, и кеды. – Просыпайся, чувак. Поспать можешь в машине и разбить ее на обратном пути. Там это меня уже не касается.
Оранжевый пикап «МЕДИАН ВЕНГРИЯ» с черными крыльями на боках несет в брюхе Чарлзовы пожитки. Чарлз правит, подавшись вперед, подбородок на руках, сложенных на руле, радио потрескивает, ловя и теряя средний диапазон.
– Ты выглядишь триумфатором, – говорит Джон, когда они выезжают на автостраду, неотличимую от автострад Огайо, Калифорнии, Онтарио, Небраски.
– Это просто потому, что я триумфатор.
Чарлз – первый человек, который сделался маленькой знаменитостью на глазах Джона (и даже с его помощью). Пробивной юноша, сделавший имя на Диком Востоке, возвращается домой на лакомую должность в какой-то нью-йоркской венчурной фирме, или в инвестиционном банке, или в хедж-фонде, или еще где-то, в какой-то финансовой ерунде – Джон не в силах вникать в детали. Чарлза воспевают как единственного героя, пережившего стремительный упадок его фирмы, вызванный ею самой, – даже в статьях, которых Джон не писал, не планировал и не инспирировал. Вот он и возвращается в свой мир, через Цюрих, как крестоносец (белое распятие на кармине хвоста) из завоеванной Святой Земли, едет заверить свой народ, что их Евангелия истинны и сильны, а красные дьяволы с легкостью обращаются.
– Ты заходил к Имре попрощаться?
– Да, мамочка, я попрощался. Знаешь, его хваленые «коммуникативные умения», – Чарлз выпускает руль, чтобы показать кавычки, и пикап виляет в медленный ряд, – сильно преувеличены. То есть я спросил его: «Имре, правда ли, что, если исключить существенные флуктуации в стоимости форинта – и перебейте меня, если они кажутся вам более или менее вероятными, чем мне, – стоимость венских владений издательства относительно его венгерских владений со временем будет только постепенно возрастать, даже если предположить, что в течение десяти лет Венгрию примут в Европейское сообщество, или нет?» И, знаешь, он моргнул два раза, а это, как мне сказали, значит да.
Последние строения Пешта приблизились, пролетели мимо, уступили место однообразному жужжанию линий электропередачи и изгородей, прерываемому нетерпеливыми изумрудными знаками, каждый из которых, поправляя своего предшественника, сообщает, как далеко затаился аэропорт.
– Будешь скучать по Будапешту? Тут ведь был твой большой триумф?
– Нет.
– Нет, правда. Будешь?
– Правда? Нет.
– Да ладно тебе. Тебе не грустно уезжать? У тебя должны быть какие-то чувства к… к…
Джон сбивается, Чарлз сигналит и выразительно бранится на оплошность другого водителя.
– Надо признать, ты меня слегка разочаровываешь, Дж. П. Когда мы познакомились, у меня были на тебя большие надежды, но послушать тебя теперь… Ты позволил себе стать одним из этих унылых жалких попрошаек, которые бродят повсюду и умоляют других разделить их чувства. Ты гнусный жалкий попрошайка чувств, гремящий кружкой. Миру больше не нужны разговоры о чувствах. Это не здоровый курс; в этом нет пользы. Уж поверь мне. Я с этим разбирался. Я уделил этой теме немало весьмаосновательных размышлений. Люди, которые говорят о своих чувствах, ничтожны. Я не сторонник подавления, но правда – чувства никак нельзя принимать всерьез. Уж поверь, это лучший совет, который я могу тебе дать как друг. – Чарлз задумчиво постукивает по рулю в такт какому-то брит-попу, что пробивается сквозь помехи на средних волнах. – Ты во многом похож на меня, знаешь, как и все, кого я встретил в стране гуннов. Минус моя сосредоточенность и готовность платить цену. И минус харизма, конечно. Факты таковы – и это научныефакты, Джон, – чем меньше говоришь о чувствах, тем меньше их замечаешь, и наконец становишься всамделишным человеком, а не каким-то комком чувств,который целыми днями скачет и разглядывает собственную задницу – Чарлз оборачивается к Джону, и машина виляет вправо. – Но ладно, маленький попрошайка, ладно, вот тебе они, мои прекрасные чувства: я тут всё ненавижу, ненавижу этот замызганный городишко, ненавижу венгров, старик, и всю их сраную жалкую недоделанную коррупцию и лень, и это отношение, которому они с рождения учат детишек: что мир должен их спасать, потому что история так крепко их пришибла, и что их все время предают, и все остальное. Меня просто убивает нытье этих людишек. Венгры – все до одного – это кучка…
– Ты тоже венгр. Ты. Тоже. Венгр.
– Это некрасиво, Джон, После того, как я только что пытался тебе помочь.
Подъезжают к грузовому терминалу «Свисс-эйр», Джон остается пристегнут к пикапу, а Чарлз выскакивает и начинает трудовые переговоры особой разновидности: одну за другой кладет десятидолларовые банкноты в открытую ладонь грузчика в фартуке, тем временем строго его инструктируя. Когда подходящая сумма наличных заполняет ладонь рабочего (он даже качает рукой вверх-вниз, будто взвешивая), прочая работа на терминале временна замирает; вся бригада из четверых мясистых грузчиков (в алых фартуках с белыми крестами на груди) взламывает пикап и бережно сносит Чарлзовы вещи в тележку. Любовно навешиваются ярлыки, быстро идет оформление бумаг. Рукопожатия со всеми. Еще несколько Гамильтонов.
– Знаешь, на что я будуоглядываться с умилением? – спрашивает Чарлз, когда оранжевый пикап, заметно облегчившись, визжит на развороте и мчит по дороге к пассажирскому терминалу. – Потому что ты прав. У меня останетсяодно дорогое воспоминание. Воспоминание, которое, по-моему, содержит всё – мой личный опыт, но и символическое обозначение того, через что прошла эта страна, пока я тут был. Даже больше – панораму эпохи моего поколения. Миг, в котором слилось это все, – его руки движутся в величественном и неопределенном жесте, – то, о чем я буду рассказывать моим детям, если мне удастся его достоверно передать. То есть я знаю, что я не великий говорун. Я простой бизнесмен. Но знаешь, что это был за момент, Джон? Смешно – видеть, как это происходит, и знать, что вот этотмиг ты будешь хранить в сердце, всегда будешь хранить. Знаешь, какой? Когда те две невозможно страхолюдные девки из-за тебя сцепились. Раньше я никогда не видел, как дерутся страшные тетки. Это было свежо.
Джон крутит настройку приемника в безуспешной охоте за чистым сигналом. Сквозь туман прорезывается голос австрийского диджея, который что-то бормочет поверх песни. Чарлз выстукивает ритм на руле, пикап замедляет ход и занимает место в урчащей очереди.
– Я примеривался не говорить родителям, что возвращаюсь в Нью-Йорк. Думал, не нанять ли тебя писать им здесь письма от меня, рассказывать, как мне тут нравится. Что я решил подать на гражданство. Взял в жены хорошенькую гуннскую девчонку. Поселился в детской квартире отца в первом округе. Посылать фальшивые фотографии, которые умеет делать твоя лысая подружка, типа, я с детишками на пикнике на острове Маргариты. А я все это время буду дома, как белый человек, стоять в очереди в «Забаре». Но, к сожалению, ты меня прославил, так что теперь они будут сидеть у меня на диване и тарахтеть про блестящий Будапешт тридцать восьмого года. – Чарлз проползает несколько футов, берет парковочный талон, засовывает в козырек лобового стекла. И смеется – непривычно, грустно: – Я тебе говорил, что я у них второй ребенок? Я родился после того, как умер первый. Матьяш. Он умер от лейкемии в четыре года – долгая и страшная смерть. До сих пор в доме повсюду его фотографии. Я с этим вырос. Всегда чувствовал, не знаю даже, как… будто от меня ждут… – Чарлз сосет губу и въезжает на стоянку между двумя «трабантами». Неподвижно сидит, глядя в лобовое стекло.
– Ты врешь, – говорит Джон.
– Ты угадал, вру. Но все-таки. – Они идут к терминалу. – Мы все-таки были двойняшки, а второй – он был мальчик, – родился мертвым – вот это правда.
– Нет, не правда.
– Ну, наверное, нет.
Стены аэропорта оклеены рекламами: консалтинговые фирмы, аудиторские фирмы, рекламные агентства, компьютерные сети, двуязычное временное трудоустройство, немецкие кондомы. Громкая трансляция поливает венгерским равно понимающие и непонимающие головы. Двое американцев ссутулились в пластиковых креслах. Чарлзов посадочный талон трепещет, словно оперенный хвост, торча из заднего кармана экстравагантного черного кейса с монограммой (хитрый знак: мол, не надо спешить оценивать пассажира по футболке и поношенным джинсам). Они взбалтывают кофе в пенопластовых стаканах, и Чарлз задумчиво говорит:
– Знаешь, может, еще выйдет так, что Имре больше всех выгадает от этой сделки.
– Разумеется. Он ведь почти целиком парализован.
– Смешно, но не поэтому. Найдутся такие, кто скажет, что он получил больше, чем заслуживал.
– Что это значит?
– Так, ничего. Замнем. Я все равно не согласен с этими тухлыми намеками – невнятица – так что не должен их распространять. Он хороший человек, наш Имре. Хороший. Он открыл мне великую возможность. И я рад, что смог что-то извлечь из нее для нас обоих. И для моих инвесторов.
– Но того ли он хотел? – спокойно, лишь немного смущаясь, спрашивает Джон.
– Получить удар? Да, думаю, того.
– Того ли он хотел?
– Ты понимаешь,что он быд самым крупным акционером, или нет? Я сделал ему столько денег, сколько ему и не снилось никогда. Я сделал Имре Хорвата мультимиллионером, когда он уже не мог даже управлять собственной компанией. Это ты понимаешь, нет?
Чарлз что-то говорит, с такого расстояния не слышно, швейцарской стюардессе, та смеется, берет его билет. Чарлз оборачивается и невнятно машет Джону – жест, который показывает глупость прощальных отмашек в аэропортах. Чарлз ступает в узкий деревянный тоннель, на другом конце которого – Нью-Йорк. И уходит. Окон нет, неоткуда посмотреть, как самолет разбегается или взлетает. Все здание вполне сошло бы за второпях выстроенную студию звукозаписи. Джон шаркает на выход, мимо угрюмых рядов такси, платит за стоянку из тех денег, которые Чарлз сунул ему в руку перед посадкой. И все? Это и есть конец эпохи?
Джон отъезжает от аэропорта и видит, как Чарлз снова идет к посадочному тоннелю, снова показывает билет хорошенькой швейцарской стюардессе у входа, но на сей раз Джон добавляет смысл и надлежащую концовку. Рев, небеса с грохотом разверзаются: оскорбленное божество не потерпит, чтобы события кончились пшиком без всякого урока. И Кристина Тольди – огненный, пульсирующий, бесполый ангел мести – окликает его: выкрикивает только фамилию, будто взывает ко всем его предкам, к его народу, его подунайскому племени: Габор!Он оборачивается посреди приоритетной посадки. В левой руке черный кейс с монограммой; правая еще не выпустила конец посадочного конверта. С другого конца стюардесса вынимает посадочный талон, но теперь эта стюардесса отброшена на грязный деревянный косяк терминала, белая сборчатая блуза моментально расцветает красным, будто мультипликатор без звука заливает контур нарисованной розы. Ее голова бьется о дверь, и шляпка-таблетка сползает на глаза. Тело в конвульсиях оседает на пол, и шляпка комично встопорщивается на носу, а груди, которыми Джон только что восхищался, вздымаются неровным неглубоким срывающимся дыханием. И снова вспарывающий треск – пук рассерженного Бога, вновь имя, от вопля кровожадной гарпии осыпаются стекла, и теперь красное расплывается на плече рок-футболки, заливая фаллический гитарный гриф, и наконец-то, в присутствии десятков свидетелей, лицо Чарлза Габора освещено чистой эмоцией без иронии. Люди визжат и прячутся под пластиковые стулья, они навсегда запомнят вид похожих на старую высохшую резину внутренних органов, который открылся им, когда реальность прорвалась сквозь искусственность и нелепость окружающей каждодневности. У останков Чарлза Габора не остается времени умолять или пространства для маневра: следующий выстрел отрывает ему щеку. Он падает, и последнее, что он видит в жизни, – стоящая над ним Кристина. Она дважды стреляет ему в шею, потом, всхлипывая, направляет пистолет на себя.
Джон въезжает на стоянку за складом издательства «Медиан», где Имре Хорват подметал пол вечером 23 октября 1956 года. Он ждет, когда по радио, которое он все-таки уговорил поймать короткие волны, закончится его песня. У сдвижных ворот Джон спрашивает Ференца, офис-менеджера, и бросает ему ключи. Домой он едет на метро. Он странно истощен. Сон не может ждать и минуты. Голова Джона стучит по пластиковой обивке сиденья.