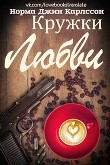Текст книги "Прага"
Автор книги: Артур Филлипс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
Она дышит тяжко; это не укрылось от внимания швейцарского доктора. Она настаивает: он сжал ее руку, когда она произнесла его имя.
– На этой стадии болезни, фройляйн, чрезвычайно маловероятно, чтобы такой перелом, и, хотя я знаю, трудно, как это бывает слышать, но, кто не врач, часто обманывается из-за…
Кристина Тольди плотно зажмуривает глаза и мотает головой, еле заметно передергивается, будто стряхивая с плеч и с шеи снежные альпийские манеры врача, и наотрез отказывается слушать еще хоть слово. Ей некогда бороться с упрямствующим неверием. Она произнесла его имя, и он наконец ответил; это чистая правда.
Но форменная улыбка доктора не сворачивается, неподвижно натянутая над аккуратно постриженной треугольной белой бородкой. С высоты своего огромного роста он смотрит на фанатичную маленькую женщину, как на маленькую девочку, которая еще верит в Деда Мороза, и дает отвести себя в палату, и терпеливо баюкает безвольную руку пациента, и покорно молчит, пока Кристина, все больше напрягаясь, распевает – с каждым разом все медленнее, – имя пациента. Он стоит с другой стороны кровати, немного сгорбившись, прозрачная планшетка под мышкой, остро чувствуя, как тикают часы, рука потеет в руке коматозного пациента, гнев точно отмеренными дозами разбавляет его терпение, капля за каплей, повтор за повтором: Имре… Имре…
– Теперь, пожалуйста, послушайте меня, фройляйн. Мне придется настоять. Я имею к вам всяческое сочувствие, но герр Хорват переживает – майн гот.
С обострившимся вниманием он в молчании ждет еще несколько минут (теперь легкокрылых, а прежде неуклюжих) и наконец пишет по-немецки в свою планшетку – зафиксированный факт: 22.20–22.35: пациент отвечает на вербализацию, производя пожатие руки, слабо, Зх/.25 часа, каждый случай немедленно после объявления имени пациента, только правой рукой.Кристина склоняется и нежно целует уснувший лоб, гладит искаженное, обросшее серебряной бородой лицо.
– Это чудесно, Кристина, чудесно. Я абсолютно потрясен. Пожалуйста, сразу звоните мне, как только будет о чем сообщить. Я буду на месте весь вечер. И конечно же, я сейчас всем здесь сообщу счастливую новость. – Он кладет трубку. Ее воодушевление не оставляет безразличным. – Этот диапазон вот тут, – говорит он молодому австралийцу, вдвоем с которым они допоздна засиделись на работе, галстуки у обоих распущены в вытянутые Y, – продажи иностранных переводов венгерской классики из нашего каталога, по странам. Как видим, не золотая жила, но недорого и гарантированно восстановимо…
– И все же нам нужно сохранять реалистичный взгляд на разворот событий, – говорит врач, впрыскивая инъекцию здорового швейцаризма. Он умеет распознать, с проницательностью, за которую его давно ценят коллеги, что эта неуравновешенная юная леди легко может пасть жертвой гиперэмоциональной реакции, если больной не вскочит сей же час с кровати и не начнет перед ней плясать. Эта картина веселит врача, и он вывешивает на лицо улыбку – равно для собственного удовольствия и чтобы унять перевозбуждение Кристины.
«Берегись, мировое зло – идет Венгрия!» – две статьи, посвященные участию Венгрии в антииракской коалиции, заставили Джона несколько дней непрерывно разъезжать И он еще не истощил свой траченый запас иронии; он замечает несоответствие окружающей обстановки своим внутренним монологам, которые может останавливать лишь на время и с большим трудом Например, «Я напыщенный, сентиментальный идиот» ревет так громко, пока он сидит в приемной только что назначенного пресс-офицера штаба венгерской армии, что с тем же успехом его могли бы передавать по общей трансляции. «Она была одним из тех редких людей, которые знают, как надо жить» – это рвалось из пошлого либретто днем позже в полевом лагере, пока адъютант из пресс-службы водил его от одного нетопленого здания к другому нетопленому зданию. Первое из нескольких исполнений «Что за придурок целый час воет в кабинке венгерского туалета?» происходит под аккомпанемент ритмичного «шуп-пуп-бам» минометных стрельб на припорошенной снегом продуваемой равнине на полпути между Папа и Шопроном. Написание первого выпуска «Берегись, мировое зло – идет Венгрия!» в редакции «БудапешТелеграф» тормозится особенно настойчивым, богато аранжированным римейком «Я напыщенный и т. п». Назавтра в полдень он нетерпеливо и почти на двух языках расспрашивает поочередно трех служащих «Блюз-джаза» и наконец добирается до того, кто знает Надин домашний адрес. «Она была из тех редких и т. п.», – мурлычет подавляемая реприза, пока он ходит взад-вперед мимо ее дома тем же вечером и на следующее утро, и на следующий день, смехотворно не решаясь войти или постучать в облупившуюся маленькую дверь, вырезанную в громадных старинных каретных воротах. Удивляясь зияющему отсутствию духа, он ретируется к Ники. Она – единственный человек, кого Джон может представить своим спутником, и не важно, сколько недель прошло с тех пор, как они виделись в последний раз.
Кривые пластмассовые грабельки царапают его подошву и возвращаются в бархатный футляр в кармане докторова пиджака. Прошли управляемые эксперименты, включающие последовательности звуков и голосов, с разной громкостью произносящих разные слова. Долгие дуновения пахнущего паприкашем дыхания овевали его лицо. Булавки кололи ему пальцы на ногах, сначала тихонько, потом, когда врач вышел из палаты, свирепо; Кристина тычет иглами с такой силой, что бусинки крови выступают на грубой шершавой поверхности его бледных желтых ступней. Оставаясь одна, она берет его руку и монотонно повторяет его имя, модуляции едва ли заметнее, чем у усердного прихожанина, для которого значение произносимых слов уже начало затираться. Особая машинка удерживает его веки открытыми, затем с почти утешительным жужжанием отпускает их закрыться и отдохнуть. Лечащий врач сообщает новости: недавние исследования показывают, что в определенных случаях, имеющих нечто общее со случаем нашего герра… герра… (смущенное заглядывание в планшетку) герра Хорты, кажется, можно предполагать, что примененная в нужном месте очень слабая электрическая стимуляция может, видимо, оказать целительное воздействие. Кристина не соглашается бить своего кумира током на основе таких вялых догадок. Добросердечная медсестра-англичанка подсказывает, что музыка, к которой джентльмен был неравнодушен, пока пребывал в сознании, вполне вероятно, поможет немного ускорить события; прежде она видела, что это довольно неплохо действует. И вот вскоре в палату доставляют маленький лазерный проигрыватель и компакт-диск с традиционной цыганской музыкой (за то и другое с радостью заплатил Чарлз), и они в самом деле, под внимательным взглядом Кристины, вызывают беспорядочные и еле заметные сокращения правой щеки и еще по крайней мере два пожатия второй степени правой рукой, но потом – ничего. И вот одним поздним – очень поздним – вечером, при громко работающем телевизоре (горделиво невнятное объяснение, чего добились американские специальные подразделения в тылу иракцев), Кристина бьет Имре по липу. С конца января она практически живет в двух больничных комнатах, и теперь, после недолговечной радости от того пожатия руки, как бы громко, ласково, соблазнительно ни произносила она его имя, оно больше ничего в Имре не вызывает. В этот вечер Кристина немного выпила, и вместе с алкоголем в ее кровь просочилась малая мера жалости к себе. Ее обычно хорошо размешанные чувства слегка створожились, и, к собственному смущению, она сердится на Имре. В этот вечер она дала ему две пощечины, бессмысленно взывая к нему. Она бьет его от злости и от обиды, и еще оттого, что это может быть безрассудной, необычной, но успешной терапией, продиктованной чувствами, что прочнее и глубже самодовольной швейцарской медицины. Так или иначе, глаз он не открыл, и, прибавив телевизору громкости («каждый из этих парней несет то, что мы зовем „горячим яйцом“, и лучше об этом распространяться поменьше»), Кристина тяжело опускается в анатомическое кресло рядом с кроватью и позволяет себе поплакать, чуть-чуть и с полным самоконтролем.
– Печально это слышать. Я и сам надеялся на музыку. Пожалуйста, держите меня в курсе. Нет, нет, конечно, нет, это все нормально. Обязательно будьте там. Здесь дела потерпят без вас. О, нет, конечно, милости просим. – Чарлз кладет трубку. – Такое дело, Кристина – настоящее достояние этой организации Вы должны ее удержать – не буду учить вас вашей работе. Не сомневаюсь, у вас хватает собственных людей такого типа, но она местная, а это реально помогает. – Чарлз отказывается от австралийской сигареты.
Я знаю, что я один из многих паразитов, но иногда мы видим тело своего носителя в лучшем ракурсе. Сказать по правде, оттуда, где я присосался, идея Венгрии и ее бывших социалистических товарищей, внезапно якобы приобщившихся к НАТО, вызывает чувство, будто меня знакомят с детьми новой жены отца, моими сраными сводными братьями и сестрами, которые переезжают к нам, начинают играть моими игрушками и зовут моего папу «папа». Но вместе с тем у кого не заболит душа о венгах, новичке в большой школе? Как малютка, которого выбирают в последнюю очередь, когда разбиваются на команды для игры в кикбол, Венгрия робко стоит у края площадки, пока наконец президент Буш не скажет: «А-а, блин, смелей, Жольт! Конечно, мы рассчитываем на твое мужество!» Или, как то красноречиво объяснил лейтенант Пал, у которого я был на минометных стрельбах: «В общем, я совсем не уверен, что наши минометы будут так уж полезны в условиях пустыни. Так что мы с большей радостью и уверенностью поможем медицинским персоналом». Что ж, вода под мостом течет быстрее, чем раньше, и эта нынешняя эпохальная война, кажется, превратится в воспоминание прежде, чем дело дойдет до продуктовых карточек и ночных гражданских патрулей, или у нас появится возможность спать с женами ушедших на фронт солдат Как однажды заметил один мой друг, в наши дни трудно уследить за сменяющимися эпохами. Теперь начало марта, и это помещает нас в лихорадку и эйфорию послевоенного времени. Конечно, война, которая начинается с черчиллианских призывов к крови, поту и слезам, победе любой ценой и спасению свободного мира, но заканчивается военным эквивалентом поведению злобного ребенка-дебила, который внезапно забыл, зачем душит хомячка, и отбрасывает жертву в сторону, пока она еще способна задышать…
– Йо, позвони мне, когда будешь дома. У меня тут опять наши островитяне. Так здорово наблюдать умелых людей в работе. Уж и забыл, как они выглядят, так долго тут живу. Понравилась, кстати, твоя штучка про войну в Заливе. Позвони, когда будет Минута, надо о настоящем деле поговорить, ладно?
– Гей-го, вот и король 1991-го! Давно никому не засовывали, ваше величество. Какой прайс на любовь? – Она чмокает его в щеку и за руку подводит к бельевой веревке, слабо натянутой перед черными шторами, образующими ее лабораторию. На веревке на прищепках висят, еще немного влажные, десять увеличений, которые она только что размножила, – пасущиеся козы, статуя Вёрёшмарти, классические французские полотна с голыми богинями в разных позах, каждое окороковое бедро обильнее предыдущего. Есть и снимки, еще в дорожках блестящей испаряющейся влаги, событий, в которых он играет главную роль, но которые так и не одолели короткий путь в его короткую память. Джон разглядывает их в изумлении, гадая, могут ли это быть коллажи, но на вид они слишком нормальные, Ники не стала бы возиться, и кроме того, они слабо тревожат что-то: если не память, то, по крайней мере, узнавание характера: скамья у рояля, несущая их с Надей, и Декстер Гордон прямо позади них курит на стене; табуретка у стойки – кажется, он целует ее в ножку, над ним два озадаченных лица; его лицо, ярко освещенное сверху, на сцене «Блюз-джаза», он держит микрофон, глаза дремотно прикрыты, губы выгнуты в плутовской сладострастной ухмылке; его верхняя часть в кабинке в «Блюз-джазе», голова пьяно опирается на две ладони, короткая струйка слюны отражает голубой свет – единственный цветной штрих на черно-белой композиции.
– Пойдешь со мной? – в конце концов выговаривает он и даже немного подлизывается, чтобы размыть ее неожиданное безразличное сопротивление. – Ради искусства. Тебе это должно показаться, знаешь, художественным. А мне твоя компания очень бы не помешала. Я брожу там уже три дня. Мне кажется, тебе бы стоило просто, знаешь, из любопытства. – Какая-то частичка его спокойно вопрошает, не настал ли так долго приближавшийся миг, когда наконец она придет к нему.
Кристина Тольди заснула, и не когда-нибудь, а в три часа пополудни, в анатомическом кресле, сложив руки на груди, зацепившись каблуками за перекладину кресла, тяжело уронив голову почти на колени. Даже во сне у Кристины немеет шея, и в полудреме она чувствует каждый болезненный просвет между позвонками: затекший, горячий и почти слышимо хрустящий. Она мотает головой из стороны в сторону, нашаривая подушку, которая уже несколько недель бывает у нее только во сне, на миг открывает глаза и видит, что Имре смотрит на нее. Глаза Кристины закрываются прежде, чем сознание регистрирует увиденное, и еще несколько секунд она пробивается наверх, прорывает неожиданно толстую поверхность и выныривает в окончательную бодрость. Но и тут она теряет еще секунду или две, пока фокусируется взгляд. Его глаза закрыты. Ей все могло присниться. Она берет его руку, гладит лоб и зовет, вразумленная.
– У него все так же, – отвечает Чарлз. – Спасибо, что спросили. Мы не перестаем надеяться на дальнейшие перемены.
– И его состояние применительно к этому соглашению?
– Не изменилось, – отвечает Невилл.
Привратник в ее доме – роскошноусый атлетического вида мужчина в пламенно-красном спортивном костюме – широко разулыбался, едва глянул на них через кружевную занавеску на двери своей квартиры в стене арки, ведущей во двор. Он с первого взгляда понял, что это иностранцы, и, открывая дверь, сразу извиняется:
– Nem English, пет Deutsch.
– Надя, – просто говорит Джон и лицом показывает: он понимает, что его не проводят к дверям живой женщины, Только теперь он соображает, что не знает ее фамилии.
– Igen. – Привратник сочувственно кивает.
Джон поворачивает воображаемый ключ.
– Иген? – спрашивает он. Венгр широко пожимает плечами и смотрит в пол, а его брови поднимаются в двуязычном сомнении. – Моя бабушка, – говорит Джон по-английски, потом изловчается по-венгерски: – Мать на моей матери. – Привратник непонимающе трогает зализанные назад волосы, и тогда Джон выкладывает пред собой две ладони, одну над другой, изображая семейное древо. – Моя мать, – говорит он и шевелит нижней рукой. – И моя мать, – продолжает он, шевелит верхней. – Надя.
Комендант жмет плечами, запирает свою дверь и ведет их четыре лестничных пролета вверх, ритмично шлепая спортивными сандалиями. Джон представляет, как его бедная старенькая подруга каждый день вскарабкивается и спускается по всем этим ступенькам.
– Amerikai? – спрашивает их проводник, когда они останавливаются наверху передохнуть. – Юувэсссэй?
– Иген.
Венгр кивает с восторженной многозначительностью, брови летят вверх.
– Igen, igen,юувэсссэй, юувэсссэй, nagyon jó.– Он ведет их в короткий темный отнорок главного коридора. Задерживается у последней двери этой неосвещенной оконечности этажа и рассеянно брякает ключами. – Jó.Нью-Йорк Сити, – начинает он непринужденно.
– Yes, New York City, – соглашается Джон.
– А, Калифорния, – подсказывает венгр, кивая.
– Yes, yes, – вторит Джон. – California.
Наконец венгр отпирает и распахивает перед американцами дверь.
– О'кей, – говорит он почти с грустью, вероятно, рассчитывая, что его пригласят внутрь, – о'кей.
Наконец он ретируется, оставляя родственников умершей женщины в квартире одних. На секунду его притормаживает скрежет скользящего засова.
– Пожалуйста, пожалуйста, Имре. Пожалуйста. Имре. Пожалуйста, Имре. Я же видела тебя сейчас, правда, Имре? Пожалуйста, теперь еще раз, Имре.
Невилл раздает четыре экземпляра документа и открывает свой на странице 6.
– Нам еще нужно обсудить два пункта. Мне ужасно неловко вспоминать о них сейчас, но, возможно, мы сможем быстро достичь единодушия и инициализировать соглашения. Думаю, к четырем мы всех отпустим. Самолет у вас когда?
Две комнаты – узкий прямоугольник, подставленный к стороне маленького квадрата, – напоминают самые первые, дразнящие камеры фараоновых гробниц, только хуже освещены. Джон нашаривает лампу. Ники идет в дальний конец квадрата и отодвигает тонкую нечистую салатовую штору на единственном окне. Джон медленно обходит комнаты по периметру; он безошибочно чует аромат нежилого. Погнутый обесцветившийся железный вертлюг выступает из стены прямо над изножьем утлой кровати, с него свисает на плечиках Надино красное платье. Кровать не застлана; простыни кое-где поистончали. На тумбочке вверх корешком любовный роман в бумажной обложке, открытый чуть дальше, чем на середине. На перевернутой обложке под английским названием и именем автора голый по пояс мускулистый герой с рапирой хватает за плечи женщину, а та откинула назад голову и согнула ножку. Рядом с книжкой лежит потрепанный англо-венгерский словарь и блокнот, заполненный убористым венгерским письмом – незаконченный перевод любовного романа. На полу маленький кассетный магнитофон, на нем – две кассеты без ярлыков. На крюке над малюсенькой плитой связка острых сушеных красных перцев, дьявольская гирлянда. В тесной Надиной ванной (шкаф в стене прямоугольника прихожей) Джон находит обильный сад парфюмерных бутылочек, коллекция без всякой логики ни ради ежедневного использования, ни ради странного вложения денег: десятки флаконов, балансирующих на раковине, теснящихся на рахитичном плетеном стуле и на полу, сохранившем лишь отдельные плитки, у большинства сосудов в утробе лишь несколько последних слюнявых пузырьков запаха; золотистые, прозрачные и нежно-голубые жидкости, едва омачивающие кончики пестиков своих распылителей Белье – мучительно старое, старое, старое – выгнулось на краю треснутой ванны с болтающимися ленточками замазки.
Ники по-прежнему у окна – подносит к свету маленькую фотографию в рамке.
– Смотри, что она хранила, – говорит довольная Ники. – Не могу сказать, что одобряю эту рамку.
Она показывает Джону новогодний снимок за роялем под фресочным курящим Декстером Гордоном, единственную фотографию в квартире. Ни афиш на стенах, ни писем, ни обрезков, ни лоскутков, ни медалей – никаких свидетельств. Джон плюхается на кровать.
– Тут ничего нет. Ничего, – бормочет он, удивленный, что не раскопал ни одного доказательства в карликовом комоде – ничего, кроме кое-какой одежды, металлических форинтов, гребенки и платяной щетки. – Это не ее жизнь, – с грустью говорит Джон. Может быть, кто-то уже заходил сюда и забрал все личные вещи, пока он на улице дрожал на мартовском ветру и неверном солнце.
– Хорошая карточка, – говорит Ники, – я бы сказала. Она была так счастлива, когда я принесла ей пачку на выбор. Это мне очень польстило. Ну, и вообще приятно. Она так потешно к тебе относилась.
Угасающий солнечный свет лижет руки Ники, и Джон замечает, как они изящны и прекрасны. Несмотря на обгрызенные ногти и надорванные, волнистые кутикулы, несмотря на пятна краски; ее длинные пальцы изгибаются грациозно, и она подносит фотографию к свету с нежностью, которая подкупает, даже если это акт самолюбования. С такими пальцами она тоже могла бы стать пианисткой. Джон отцепляет тонкую нечистую штору от размочаленного колышка; она снова заслоняет окно. Джон представляет их двоих в этой маленькой квартире в вынужденном мраке военного затемнения, в зловеще непредсказуемом электрическом напряжении кризиса, мятежа, репрессий. Танки катятся по улице, по его улице, где он прожил с ней все эти мирные годы. Джон кладет фотографию на тумбочку, накрывая ею бумажный роман, берет Ники за руки.
– Но послушайте, мистер Говард. Я уверен, что мистер Мельхиор прилетел в такую даль не для того, чтобы услышать, как вы на этой стадии предлагаете значимые изменения в договоре.
– Пусть, Кайл.
Опять без интонаций, глаза где угодно, только не на лице собеседника.
– Как я уже говорил, это несущественные изменения, но я не могу с чистой совестью рекомендовать Чарлзу…
– А может, давай не будем париться по мелочам, Нев? Хьюберт приехал издалека, чтобы покончить с делом.
– О, мой Имре, благодарю, благодарю вас. Вы слышите меня? Вы можете показать, что слышите меня? У вас такие прекрасные глаза, вы так добры, что показали их мне! Спасибо. Можете пожать мне руку? Можете? О, очень хорошо! Только, конечно, не тратьте сил. Вы так добры, так добры. Я хочу позвать врача. О, ведь вы не знаете, где вы, бедняжка, вы так добры. Я вернусь через минуту. Не пугайтесь. Я здесь, я все время была здесь. Вы не понимаете меня, да? О, вы так растеряны, пожалуйста, просто верьте мне, вы поймете, вы скоро станете собой, Хорват-ур.
И если за ним придут, он хочет, чтобы его забрали именно так – из ее объятий, из этой узкой маленькой кровати, что едва выдерживает их двоих. Пусть они все повылезают из своих танков, пусть сидят, таращатся и аплодируют ей и Джону, которым на них плевать. Ее руки повсюду, ее рот повсюду, их одежда – опустелая, съёжившаяся бесполезной кучей; пусть русские забирают. Так и не покинув своей любимой маленькой квартирки, они совершили успешный побег, Джон и его жена с прекрасными руками пианистки, хриплым голосом, мягкой однодневной щетиной на бритой голове и приобретенным привкусом той кошмарной челюсти. Его прекрасная храбрая жена: она не согласится сейчас оказаться ни в каком другом месте, только здесь, в постели с ним; она предпочтет занятый врагом город, где Джон, любому безопасному раю, где Джона нет. А список, на составление которого они потратили долгие часы, пусть его, пусть русские сожгут его, или съедят, или отдадут озадаченным бессильным дешифровщикам. Нет таких границ, которые надо пересечь, которые они не могут пересечь здесь и сейчас, когда их тела сливаются – тела Джона и его жены, – когда они так тесно прижимаются друг к другу, что больше толком не различишь, где кончается один и начинается другой; происходит слияние, как и всякий раз, когда они вместе; они обмениваются частицами, и ни один в конце не остается таким же, каким был в начале. И пусть забирают ее рояль, ее мольберты и холсты, ее фотолабораторию, все ее секретные бумаги из посольства – к черту все это.
– Вы можете моргнуть? Можете? Доктор, он моргнул? Это он для нас моргнул, да? О, Имре – Хорват-ур, простите, что называю вас Имре. Вы спали так долго…
– Фройляйн, наверное, стоит дать ему прийти в себя постепенно. Мы не хотим шокировать…
– Да, хорошо, но пустите от меня. Хорват-ур, если вы меня слышите, быстро моргните два раза. Вы можете… эй! Так! Вы такой храбрый! Эй, швейцарец, видели? Вы видели? Мне бы вы не поверили, но вы сами видели! Он слышит, и он сказал да. Два миганья – это будет теперь «да», ладно, Имре? А одно – «нет». Пока вы не заговорите, мы будем делать так… О, так много всего рассказать вам, да. Пустите от меня, швейцарец! Ладно,'я уйду, но, Хорват-ур, я вернусь. Сейчас отдыхайте, Имре, и я все вам расскажу, когда вы почувствуете более энергично. Пожалуйста, швейцарец, отстаньте меня.
– Поразительно, я купил эту фиговину неделю назад в Токио, а она уже не подает признаков жизни. Не пишет ни черта. Заплатил пятьсот долларов за золотой корпус с монограммой для этого чертова пера.
– Пожалуйста, возьмите мое.
Стук в дверь, сначала тихий, и сразу – громче.
– Amerikai?Эй! Amerikait Mit csinálnak? Nyissák ki az ajtót!
Топот солдат – Джон выжидает еще секунду, – топот солдат, они знают, что он здесь. Пусть разобьют засов и снесут дверь, пусть штурмуют, несчастные имбецилы, жестокие недоразвитые дети; пусть застрелят меня прямо здесь, такого, я в последний раз упаду обессиленным в ее объятия, на ее тело.
Ощущение прежде неведомое, дрожь сквозь резиновые мускулы. Удивительно, что мысли движутся намного быстрее соответствующих событий. Необычно и волшебно, будто возвращение в себя после невероятно долгого и глубокого сна. Замечателен вид перьев, едущих через лист; они движутся так медленно, что Чарлзу видно, как чернила черными реками обтекают крохотные шарики в кончиках перьев; ему слышен скрип этих шариков, как они прорезают в бумаге каналы, слышен шелест чернил, устремляющихся в эти каналы, и затем потрескивание, когда они застывают. В продолжение одной росписи ему хватает времени подумать о несчастном Марке Пейтоне: не такой уж он (подумать только!) дурак, как выяснилось: естьмгновения, которые значат много, которые стягивают к себе и в себя все три временные зоны – прошлое, настоящее, будущее – и сотворяют из них странные гибриды: будущее прошлое, настоящее будущее, прошлое настоящее. Когда его собственное перо прорезает, наполняет и студит прекрасные линии и размашистые завитки его росчерка, Чарлз знает, что будет чувствовать, вспоминая этот момент через сорок лет, как будет расти его любовь вот к этому мигу. Он наслаждается не только шорохом своего пера, царапающего бумагу в эту секунду, но и тем, как этот звук с каждым проходящим годом становится все прекраснее – так, будто каждый новый отзвук громче прежнего, и, наверное, звенит громче всего в годовщины (12 марта 1992 года; 12 марта 1999 года; 12 марта 2031 года), но столь же громко и в даты, никак не связанные с этой, вызываемый разными мелочами: сломанное золотое перо, человек с основательной бородавкой под носом, галстук как у Невилла (в странном вкусе, как у всех, кажется, бриттов – где он выискал этот узорчик?), металлический одеколон, как у бедняги Кайла Но больше всего здесь настоящего – зрелище вот этой росписи и ее поразительное значение: он продал намного дороже, чем купил. Его алхимия явно удалась. Что такое финансовый гений, как не способность видеть будущее быстрее остальных? Эта подпись – вот сейчас она льется из-под маленького металлического шарика, – доказывает, что он умеет выхватить самую суть возможной сделки, быстрее других оценить ее главную ценность и смешать с новыми актива – ми свои собственные волшебные многоплодные семена. Пейтон был прав, и в этот миг правда: Чарлз искреннезавидует ученому в его страстных штудиях (…одно из самых прекрасных свойств игры…).Сердце колотится в ушах, и Чарлз боится, что покраснеет, или захихикает, или еще как-нибудь выдаст себя.
– Ваш коллега очень лояльна к вам, и был с вами в каждый из этих дней теперь уже очень долгое время.
Имре не настолько владеет мышцами, чтобы засмеяться или заплакать, но новость от холодного врача на плохом венгерском – что партнер не покинул его (в том, чем бы ни были эти дни и недели), – проникает сквозь облака его периодического полусознания, и он надеется, что Кристина или врач поскорее приведут Габора к нему. Он понимает, что лежит в больнице, и что очень устал, что у него двигаются глаза, но больше ничего, и что в горле у него катастрофически сухо. Но что Карой не покинул его и бывал здесь каждый день очень долгое время в течение этого… Глаза у него опять закрываются, и врач вытирает лужицу влаги в уголке рта своего пациента.
– Эй, amerikai!Нью-Йорк! Калифорния! Эй, эй! Tor! Porte!
– Да ради Христа, подумай головой!
Ники вылезает, голышом топает через узкий прямоугольник и отодвигает засов на сотрясающейся двери. Столкнувшись с этой лысой наготой, этой самоочевидной презрительной яростью, красный спортивный костюм пятится, неубедительной похотливой ухмылкой защищаясь от картины голого тела, затем поворачивается, угрожая чем-то непостижимо венгерским. Вернувшись, готовая продолжить с того места, на котором ее отвлекли, Ники застает своего партнера в слезах.
– А эточто такое? – спрашивает она, все еще злясь на вторжение и теперь ужасаясь такому грубому нарушению правил дома. Но она не жестока; она может заставить себя чуть привалиться к бело желтой известке стены, положить голову всхлипывающего мальчишки к себе на колени, гладить его влажные курчавые волосы и бормотать маленькие стыдные бессмысленности – кажется, людям нравится, чтобы их бормотали в таких случаях, – пусть она и распекает себя за всю ту работу, которую не сделала сегодня.