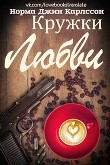Текст книги "Прага"
Автор книги: Артур Филлипс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
Джон вспоминает имя, напечатанное мелким шрифтом сверху вниз сбоку на газетных фотографиях новых ресторанов, музыкальных групп и покидающих Венгрию советских танков: инициал «Н», потом что-то на «М», что-то иностранное и щедрое на слоги, инкрустированное необычными согласными.
– Я видел твои фотографии. – Вопя, он каждый раз наклоняется к ней. – Всегда думал, что ты мужчина.
– Спасибо.
– Напомни, что такое «М»?
– Да забудь. Польская фамилия. Ты всю ночь будешь спрашивать, как она, проклятая, произносится, когда мы могли бы поговорить о чем-нибудь поинтереснее. Просто Ники М. Эй, а ты какого роста? Сколько, где-то пять и десять?
Ники тащит Джона из ниши обратно в толпу. Разговор, до тех пор напряженный, оказывается вовсе невозможен, и они танцуют, пока обоих не прошибает обильный пот. Ники выдергивает край черной маечки из камуфляжных брюк и обмахивает живот. В танце Ники смотрит Джону в глаза дольше, чем он может выдержать, и он то и дело находит повод отвести взгляд: вытирает пот со лба, глядит в пол, показывает на кого-нибудь, кто смешно танцует, или в танце поворачивается к ней спиной. Но она всегда готова снова смотреть ему в глаза. Она что-то кричит, он не может разобрать.
– Что?
– А ты весь в сексе, правда? – снова кричит она – утверждая, не спрашивая.
– Что это значит?
– Просто кое-что про тебя. Просто ты настолько весь в сексе.
– Нет, нет, – орет Джон. – Мне интересны разные вещи, например – ну, разные вещи. – Джон изображает озадаченность. – Ну, может, ты права. О как! Допустим, я весь в сексе.
Ники не смеется его клоунаде, а поднимает брови, кивает – мол, понял? – и наконец отводит глаза, поворачивается и танцует, прижавшись к Джону спиной и сплетая свои пальцы с его.
На воздухе он садится на ступеньку и забывает про Эмили, пьет и болтает с Ники. Она каждый день бреет голову унаследованной от деда опасной бритвой с ручкой из слоновой кости. Бритву она правит на кожаном ремне со своими инициалами и выжженным черным профилем Фриды Кало. [60]60
Фрида Кало (1901–1954) – мексиканская художница-символистка, известная своей экстравагантностью.
[Закрыть]Маленькое жалованье в «БудапешТелеграф» она тратит на свою «настоящую жизнь» – она фотограф и художница. Через две недели она участвует в коллективной выставке в фойе/галерее кинотеатра «Рацца», пусть он приходит, ей правда хочется, чтобы он пришел.
Они снова на диванчике. Купили еще выпивки. Чарлз все старается угодить Нелу. Наконец составитель гида собирается идти и рассыпается в благодарностях.
– И передайте тому светлому парню, что мне очень жаль, если я его чем-то обидел, – говорит он Джону, и того вдруг берет ужас за Неда из-за вранья, которое парень увозит в своем рюкзачке. Джон думает, не остановить ли Неда – не сказать ли, что они его обманули. Но тут возвращаются Эмили с Брайоном и Марк, бледный и потный, чем-то огорченный, и Джон воображает толпы туристов, которые будут звонить Скотту в дверь, чтобы посмотреть зубы Гитлера, и ему сразу легчает.
– Тут становится тесно, – говорит Эмили. – В сезон саранчи не до пикников.
– О, про деревню! Как мило! – Ники растягивает слова, пародируя речь незнакомки, плюхается рядом с ней на кушетку, берет за руку и начинает расспрашивать, будто Эмили прилетела с другой планеты или из другой главы истории. Джон наблюдает за лицом Эмили, занятой разговором с самой непохожей на нее женщиной на Земле, и сравнивает их контрастирующую привлекательность. – Ты настоящая? – спрашивает Ники у Эмили, когда возвращаются Скотт с Марией, и Скотт, прижимая к губам руку Марии, опять напоминает всем, что «нам по-настоящему угрожают», но никто особо не обращает внимания, и, как будто оказаться всем вдруг в одном месте – это слишком неустойчиво: искусственный, порожденный циклотроном атом с неестественно разбухшим числом протонов и нейтронов, люди поспешно распадаются обратно в плазму и растворяются в ночи: Марк читать («Позвони мне, Дж. П., ладно? Я хочу познакомиться со старой пианисткой»), за ним Эмили – спать («Так здорово, что мы с тобой познакомились, Ники»), потом Брайон («Отличная работа, Скотт, правда, хорошо выглядишь, так держать» и объятие для Джона, который подозревает, что старый школьный друг уходит, чтобы тайно встретиться с Эмили), потом Скотт с Марией, обняв друг друга за талии, уходят, не сказав ни слова никому. Ссылаясь на завтрашнюю работу и обещая Джону, что позвонит насчет следующего задания «по этой теме с Хорватом, которая, похоже, в конце концов обернется очень интересно для нас с тобой», испаряется Чарлз, оставляя Джона с Ники, развалившихся на диване.
– Ктобыли эти все? – спрашивает Ники, берет его руку и кладет себе на макушку.
– Понятия не имею.
Его возбуждает щекотное шуршание ее щетины по скользящей ладони.
– Думаю, мы еще где-нибудь пересечемся. – Ники встает, наклоняется и его целует. Они касаются друг друга носами, и Ники делает большие глаза, мягко передразнивая его удивление. – Но отправляться вместе домой, познакомившись в клубе, – это, по-моему, чересчур, – говорит она с улыбкой триумфатора и тоже исчезает.
VIII– Карой, если ваш план хорош и ваши умения таковы, как вы утверждаете, вы сделаете, что вы предлагаете, за месяц, и тогда условия подойдут. Справедливо?
Более чем справедливо. В среду утром, пожимая Чарлзу руку, Имре дает ему тридцать дней, чтобы найти финансирование на возрождение «Хорват Киадо». Чарлз задается вопросом, какие еще венчурные фирмы получили такое же эксклюзивное предложение.
Имре не выпускает Чарлзову руку много дольше, чем это естественно, и пристально смотрит ему в глаза:
– Я хочу не только банк. Я хочу будущее.
– Я прекрасно понимаю. Потому я это и делаю.
Соглашение было простое. Чарлз, испросивший и быстро получивший в фирме отпуск за свой счет, чтобы найти деньги на расширение, обновление и репатриацию издательства «Хорват», располагает августом на завершение первого этапа. При полной поддержке своей компании (у которой, объяснил Чарлз, связаны руки записанными в уставе территориальными ограничениями, но которая с нетерпением ждет Чарлзова успеха) Габор снесется с группой западных инвесторов и обеспечит их обязательства по финансированию. Условия этих соглашений – полностью его дело. Миноритарные инвесторы заключат с Габором индивидуальные договоры, так что деньги, которые он принесет Хорвату, будут представлять, по сути, одного человека (Чарлза), освобождая Имре от переговоров с группой. Значит, Чарлз будет представлять консорциум, который в Чарлзовом лице получит 49 процентов акций новой компании, составленной из новых Чарлзовых капиталов, венской «Хорват Ферлаг» и символически недостаточных (или недостаточно символических) ваучеров, оплаченных венгерским правительством в возмещение отнятой в 1949 году первоначальной типографии «Хорват Киадо». Имре сохранит 51 процент от новой компании, чьей первой сделкой будет предложение цены за хвост «Киадо» венгерскому государству, по сути – выплата выкупа за освобождение и возвращение прошлого Имре. (На самом деле все еще проще. Чарлз, ни словом не упоминавший фирме о Хорвате, с тех пор как она блестяще отбросила лучшее предложение, которое ей светило в этом году, не возьмет отпуска за свой счет и не станет откалывать таких номеров – выбросить кабинет, жалованье, визитные карточки, – пока сам не заключит с Имре жизнеспособную сделку.)
Неловкое молчание вторгается в номер. Раскрошенные и загустевающие остатки легкого завтрака, разбросанные по черному лакированному подносу у открытой балконной двери, привлекают уличный шум с площади Сентаромшаг и с ним каких-то мелких скачущих клещей. На роскошном зеркальном дубовом распиле прикроватного столика лежит вверх обложкой открытая последняя головоломка про Майка Стила – «Намылить, сполоснуть, убить, повторить», – образуя маленькую защитную кровлю над очками для чтения в роговой оправе. Открытая дверь шкафа выставляет напоказ дюжину дорогих костюмов, время от времени дрожащих и покачивающихся на сквозняке. Чарлз молча собирает записи и наброски бизнес-плана. Когда мужчины еще раз безмолвно жмут руки на пороге номера, приходит девушка из чистки забрать в стирку белье в сумке с клеймом «Хилтона», а из комнаты по другую сторону холла появляется мисс Тольди, чтобы подготовить мистера Хорвата к остальным сегодняшним встречам. Она сухо кивает Габору и с удовольствием захлопывает дверь одновременно за Чарлзом и девушкой из прачечной.
Через несколько часов Джон Прайс сидит в своем углу в редакции «БудапешТелеграф» почти в одиночестве. Карен Уайтли взяла четырехдневный отпуск развлекать приехавших в гости родителей, еще двое сотрудников только что уволились – один возвращается домой, другой принимает катапультирующее, посрамляющее гравитацию предложение стать вторым человеком в свежевылупившемся будапештском бюро международного информационного издания.
Уставившись на курсор, Джон раздумывает о двух покоривших его личностях, пытаясь отделить серьезность Имре от серьезности Эмили.||||
||||В Будапеште рядом с нами повсюду ходят люди, пережившие моральную проверку. Смелый ходит прямо, трус ходит горбясь, но мы заметно отличаемся от них, столь же заметно, как если бы носили декоративные шрамы на щеках и диски в губах. У себя на Западе мы избежали кое-каких экзаменов, и есть те, кто благодарит Бога за||||
Господи, она пошла домой с Брайоном.
||||эту, по-видимому, окончательную отмену страшного испытания. Но некоторые из нас, наверное, страстно хотели бы этого. Мы знаем, что могли бы его и не пройти, как не прошли многие из тех, что ходят по улицам Будапешта крадучись и опустив глаза. Мы знаем, что оказаться под ярмом тирана не доставило бы нам удовольствия. И все равно есть среди нас, приехавших с далекого Запада, такие, кто думает об этих испытаниях с некой завистью. По крайней мере ты знал бы, кто ты есть. Ты знал бы, из чего сделан. Ты знал бы пределы своих возможностей. А если ты прошел испытание? Если не сломался? Можем ли мы точно знать, что оказаться под этим ярмом не доставляет никакого удовольствия?||||
Жизнь – произведение искусства. Эмили поняла бы, что это значит. Что есть у Имре. Чего никогда не понять Скотту. Я еще не готов для нее, и она это знает. Я недостаточно серьезный. Я недостаточно какой-то. Она ждет, пока я стану вполне каким-то. Эмили пытается научить меня жить как она. Ждет, пока я отчетливо что-то увижу и покажу ей, что я это вижу. Она не может меня целовать, пока мы не равны.
||||И хотя мы видим во многих венграх естественную зависть к нашему богатству, нашему покою, нашему помилованию от Истории, даже в глазах побежденных все же остается своя гордость, и она оправдана. Даже у тех, кого сломили, кто пошел на компромисс, кто прислужничал, кто сбился с пути, кто думал, будто поступает правильно, поступая плохо, или знал, что поступает плохо, но чувствовал, что у него нет выбора, кто воспользовался преимуществами того времени и теперь раскаивается или просто, задыхаясь от гнева, получает возмездие – даже в глазах этих людей я замечаю что-то сильно похожее на снисходительность: нас не проверяли, и они это знают. Нам никто не предлагал прислужничать, чтобы спасти друга, отличать темно-серое от темно-серого. Даже те, кто не выдержал, становятся как будто выше, когда смотрят на нас, которые даже не пробовали выдержать. Они не только завидуют нам. Они и смеются над нами. И я не могу сказать, что они неправы.||||
Может, она и сейчас с Брайоном, взяла выходной лениться и любиться под липкими простынями и открывать окна, голой и медлительной нести холодное питье? Та лысая девчонка здесь.
Тут, в привычных условиях, Джон соображает, что на самом-то деле несколько раз видел Ники в редакции, она вот так входила в отдел новостей, с папками подмышкой, тонкая и агрессивно элегантная в блейзере, футболке, берете, джинсах и солнечных очках.
– Развлекись! – говорит она и бросает Джону на стол огромную папку из вытертой кожи, завязанную на углах толстыми черными шнурками с разлохматившимися кончиками. – А мне нужно убедить нашего парня из колоний что-нибудь взять отсюда.
Ники хлопает по второй папке, один раз стучит в дверь и входит в кабинет редактора.
«Нашел и вернул, понял?» – приписано у телефонного номера на почтовом ярлыке на внутренней стороне обложки. Джон переписывает номер.
Первая фотография в стопке – большой, размером с газетную страницу, черно-белый аккуратно смонтированный коллаж: в большом зале несколько сотен советских правительственных чиновников – жирных, недовольных, в одинаковых костюмах, – сидят и внимательно смотрят на оратора, который стоит на трибуне с красочными серпом и молотом на передней стенке. Оратор – высокий русский военный чин, маршал в мундире, на груди забрызганном медалями и орденскими планками и цветением затейливых эполет. На трибуне лежит его фуражка – огромная русская военная фуражка, похожая на наклонившуюся суповую тарелку с козырьком. С необыкновенно серьезным и напряженным лицом маршал тычет указкой в висящий у него за спиной огромный экран. На экране для сотен аппаратчиков спроецирован мультипликационный персонаж – человекоподобная мышь в двуцветных туфлях и глухо застегнутой нарядной рубашке. Мышовы короткие штанишки, однако, спущены на лодыжки, потому что мышь яростно мастурбирует. Бусинки мультипликационного пота летят с его лба и больших черных ушей. Глаза крепко зажмурены в диком исступлении, одна маленькая четырехпалая лапа стискивает мультипликационный член, а вторая высоко поднимает портрет Константина Черненко, одного из последних и покойных генеральных секретарей Советского Союза.
Следующая фотография в папке – поменьше, тоже черно-белая: молодая пара сидит на груде булыжника, битого кирпича и остатков мебели от какого-то взорванного здания. Они сидят перед камерой бок о бок, только повернулись друг к другу для поцелуя. Его болтающиеся ноги – в вельветовых брюках, выше – простая белая рубашка, обут в рабочие ботинки с развязанными шнурками, на шее платок. На ней длинное платье и черные туфли, лодыжки скрещены. Видно, что они сильно влюблены друг в друга. Глаза у них закрыты. Два солдата непонятной национальности дерутся слева от них. Правый солдат только что вогнал штык противнику в живот. У него убедительно-свирепое лицо: пот и сажа, исхлестанные страхом и ненавистью. Его жертва схватилась за клинок, погружающийся в ее кишки. Глаза у второго солдата широко распахнуты в мольбе.
– Вот это моя настоящая жизнь.
Ники вернулась неслышно.
– Мне нравится. Мне правда понравилось.
– Да? Серьезно? – Видно, что она безусловно и искренне тронута этим одобрением, которое пробулькало на его губах не осознаннее, чем слюна. – Как здорово это слышать. Боже, как здорово.
Джон не может придумать, чего бы умного сказать о ее работах, но ее радость заразна, и Джон доволен эффектом своей похвалы. Она открывает другую папку – для газеты, – ставшую только что на пять снимков легче, и кладет на стол. Ники встает позади Джона, навалившись на спинку его кресла, кладет руку ему на плечо и медленно перелистывает перед ним фотографии. Рука Джона плывет вверх и ложится на руку Ники, и он смотрит, как сменяются фотографии.
Более традиционные репортажные снимки: политики ораторствуют на ту или другую взаимозаменяемую тему; витрины новых сверкающих магазинов; советские танки выкатываются из Венгрии через сорок лет после прибытия с половинками русских, которые улыбаются и машут на прощание из открытых люков; потные участники популярной венгерской техно-роковой группы визжат в стробоскопах. Художественные сюжеты или бытовые сцены: стилизованный ночной снимок анимированной неоновой рекламы, осветившей один из будапештских проспектов – дымятся чашки неонового кофе, медленно подмигивают курильщики, – марками, которым суждено просуществовать какие-то месяцы; чумазые лица цыганских детей, сидящих в грязи: их усталые глаза, кажется, знают, что они – одновременно потомки и прародители бесчисленных поколений обездоленных детей, которым пришлось или еще предстоит позировать бесчисленным поколениям сочувствующих, но бессильных фотожурналистов; соседство западных бизнесменов и венгерских крестьянок, иронически пойманное объективом в очереди в «Макдоналдс».
Джон бросает через плечо новые комплименты только затем, чтобы посмаковать радость, которую они рождают в Ники, радость, которая так обаятельна, что Джон подумывает, уж не трюк ли это, который она исполняет по необходимости.
– Если тебе правда понравилось, у меня в студии есть еще. Какого, мы решили, ты роста? Пять и десять? Десять с половиной?
Чарлз целый день набрасывал и переписывал свои заметки к совещанию инвесторов и бизнес-планы «Хорват Холдинга». Он закрылся в кабинете и велел Жуже не мешать. Около пяти он пробрел мимо кабинета предсказуемо сонного вице и позволил пригласить себя внутрь для бессмысленного разговора.
– Чарли, у меня через восемнадцать минут начинается пятидневный уикэнд. Выпадаю из обоймы до вторника. В Вену. Венские малютки. Единственный плюс работы в этом болоте.
– Ну, и еще зарплата.
– И внимание прессы, – подытожил босс.
Игривое солнце, прыгая из облака в облако, мгновениями освещает медные детали и стеклянный колпак драгоценного антиквариата вице – биржевого телеграфа 1928 года.
– Да, я вот вспомнил – хотел кое-что у вас спросить, – спохватывается Чарлз, уже повернувшись к выходу. Чем небрежнее сейчас прозвучит его вопрос, тем круглее и надежнее будет прикрыта его задница потом, если что-то пойдет наперекосяк. – Тот проект с издательством, помните? Парень из Австрии? Раз мы его не захотели, я подумал, я бы порекомендовал ему другие варианты финансирования, может, представил бы кое-кому. Мне этот парень как-то понравился, и я хочу ему помочь, понимаете? Не возражаете?
– Делай что хочешь, – отвечает босс, на шестнадцать минут раньше намеченного поднимаясь собрать какие-нибудь случайные деловые бумаги и папки, которым выпадет прокатиться на пять дней в Вену и приехать обратно нетронутыми. – Хочешь со мной в город В, Большой Чак? Привезем фройляйн нейлоновые чулочки…
В длинной неразгороженной прямоугольной комнате с полдюжины незаконченных холстов на мольбертах дозревают, укрытые тряпками, другие застенчиво прижались лбами к стене – наказанные, устыженные, обязанные обдумать свои ошибки в композиции или цвете. Ники разворачивает парочку, чтобы Джон рассмотрел, и купается в его озадаченных хвалах. Открывает еще одну папку с фотографиями. Показывает лабораторию за занавесками и сохнущие, как белье на веревке, свежепроявленные снимки. Ники почти не разговаривает, только сообщает названия. «Библейские экстраполяции», – говорит она перед тремя небольшими живописными досками, выложенными в ряд на древней слоящейся столешнице в пятнышках краски. Ники идет параллельно Джону с другой стороны стола и смотрит, как меняется его лицо от серии к серии, как в этом лице отражается и преломляется для авторской переоценки ее работа.
«Иоанн, глава 19, стих 38 1/2». Гора Голгофа под луной, жуткая кьяроскуро, серебрящиеся холмы запачканной грехом земли усыпаны распятиями. К ближайшему распятию, пустому, приставлена лестница; Иосиф Аримафейский и Никодим, освещенные слабым сиянием из ниоткуда, снимают тело Иисуса. Иосиф, помогая себе задранным коленом, пытается ухватить и удержать в руках один конец обернутого в холст трупа. Вторая половина тела уже тяжко шлепнулась в грязь, и Никодим с вытянутыми руками, захваченный в тот самый миг, когда уронил свою ношу наземь, дергает плечами, таращит глаза и ежится от стыда. Иосиф оглядывается через плечо, почти прямо на зрителя – посмотреть, не заметил ли скандального происшествия какой-нибудь будущий евангелист.
«Бытие, глава 2, стих 25 1/2». Адам, с выпуклой, мощной, как у маньеристов, мускулатурой, стоит, обняв дерево. Ногтями скребет, обдирая, кору, руки сплетены, вены и сухожилья набухли, скульптурные ноги широко расставлены. Длинные темные волосы разбросаны по плечам; глаза закатились, рот широко открыт; нитка слюны соединяет губы. Ева стоит позади Адама, ее руки встречаются где-то в точке, заслоненной его бедром, обращенным к зрителю. Евина голова склонена набок, хитрая улыбка различима на лице. Целиком высунутым наружу языком она ведет по узелкам Адамова позвоночника.
«Евангелие от Матфея, глава 12, стих 50 1/2». В стороне, слева, вопящая подобострастная толпа и поднятые ею клубы пыли теснятся вокруг Иисуса, который возвышается над ней, на голову выше самого рослого из последователей. Они уходят, покидая выбеленную солнцем и оставленную Спасителем площадь, на которой никого, только его мать, брошенная на жаре (заметной по струению воздуха вдалеке). Мария стоит неловко, кажется, это последний миг – больше она не выдержит. Рядом никого. Сын удаляется, на ходу возлагая ладонь на макушку одному из последователей; он смотрит прямо вперед, в противоположную от слабеющей матери сторону. Он знает, что она там, брошена.
– Его последнее заявление было политико-религиозной необходимостью. Он революционер. С народом. Он не может связывать себя какой-то случайной биологией.
– А ты хорошо знаешь Библию.
Чем сильнее ее работы смущают Джона, тем сильнее ему кажется, будто Ники что-то такое понимает, что у нее есть безымянное нечто, нужное ему.
– Ложись, – она показывает на неподвижные белые волны незастланной односпальной кровати.
Джон прижимается головой к подушке. Вытягивается, закрывает глаза и какой-то упоительный миг не знает, с кем он; в самонаведенной темноте он нащупывает шелушащуюся поверхность Скоттовой футболки на теле Марии, невозможно мягкие и плавные обводы челюсти Эмили, легкую тысячеячеистую шершавость бритой икры Карен, шуршание лысой головы Ники. Джон дивится, зачем столько лет боялся опасности деморализации от столь невинного занятия.
Ники садится рядом с подушкой, лицом к изножью кровати, которая встречает ее скрипучим приветствием на две ноты.
– Я тебя уже раскусила, – говорит Ники и своими перевернутыми губами касается Джоновых. – Я тебя вижу насквозь. Я все знаю о том, чего ты хочешь.
Джон открывает глаза на угрожающие слова, сказанные любовным тоном, над ним парит ее опрокинутое лицо, но она закрывает ему веки кончиками пальцев, которых он не видит.
– Скажи, что, по-твоему, ты знаешь. – Джон представляет всех женщин, кому могли бы принадлежать пальцы, которые скользят по его лбу.
Она всовывает слова ему в ухо:
– Я знаю, что на самом деле ты хочешь не меня.
Ее правая рука зависает над Джоновым ремнем, посылая трескучие молнии синих искр.
– Да ну? – шепчет Джон.
– Я знаю девушку твоей мечты. Эй, я сказала, не открывай глаза. Закрой. Закрой.Рассказать тебе о ней? – Кровать скрипнула, и Джон слышит, как Ники идет по комнате.
Он крутит головой, как слепой, почуявший новое присутствие.
– Ладно, расскажи мне о ней.
Кровать приветствует ее возвращение. Ники садится к нему лицом, целует в губы и прижимает ладони к его груди.
– Расскажу, если не будешь открывать глаза.
– Скажи, кто это, если не ты.
– Давай без этого. – Ники мрачнеет в неподдельном осуждении. – Правило номер один этого дома: не придуривайся. Мы оба знаем, что это не я. Закрой глаза. – Ники убирает ему пряди со лба и запускает пальцы в волосы. – Я вижу, что волосы у нее, как у Вермееровой [61]61
Ян Вермеер (1632–1675) – великий голландский живописец.
[Закрыть]«Женщины с кувшином». [62]62
Здесь и далее Ники упоминает картины и скульптуры, у персонажей которых не видны именно те части тела, о которых она говорит.
[Закрыть]– Джон открывает глаза и начинает говорить, что ничего не понимает в живописи и, может, она покажет ему карти… – но Ники прижимает палец к его губам: – Чш. Заткнись и слушай. – Джон кивает, и его веки медленно опускаются, а рот приоткрывается, будто они связаны общей системой шестеренок. Ники прижимается губами к его лбу, потом шепчет: – Ее лицо – то, что всегда тебе грезилось. – Она слегка тянет его ресницы губами. – У нее глаза Мунковой [63]63
Эдвард Мун к (1863–1944) – норвежский художник, один из основоположников экспрессионизма.
[Закрыть]«Мадонны». – Кусает его за ухо. – И уши Джоконды.. – Джон вновь пытается заговорить, но она останавливает его губы. Он пытается представить лицо, описанное ею. Представляет лица, которые знает: пробует, но одну за другой отвергает Карен, Марию и даже Эмили.
Ники принимается расстегивать ему рубашку. Костяшками пальцев проводит ему по губам.
– Рот у нее красивее, чем у меня, гораздо красивее, как у девушки в «Поцелуе» Дуано или «Мире Кристины». [64]64
Картина американского живописца-реалиста Эндрю Ньюэлла Уайета (р. 1917).
[Закрыть]– Ее пальцы пробираются ему за шею. – А шея у нее, я вижу, как у женщины в «Поцелуе» Климта. [65]65
Густав Климт (1862–1918) – австрийский живописец, символист и модернист.
[Закрыть]Или она больше похожа на «Ленивую обнаженную» Боннара? [66]66
Пьер Боннар (1867–1947) – французский живописец и график.
[Закрыть]Как, Джон? – Джон медленно кивает. Рубашка расстегнута, и ее губы порхают по его груди. – Можешь представить ее груди, Джон? – Ники берет его тяжелую руку и опускает его ладонь на свою футболку, Джон невнятно бормочет. – Как у Энгровой [67]67
Жан-Огюст-Доминик Энгр (1780–1867) – французский художник-неоклассицист.
[Закрыть]«Купальщицы Вальпинсона»? – Джон кивает, и Ники крепко прижимает его ладонь к своему телу. – А руки ее созданы для тебя. Чтобы обнимать тебя. Как у одной известной мне Венеры.
Ники высвобождает его руки из рукавов, словно мать, ловко раздевающая сонного вялого ребенка, ее ногти оставляют нечеткие следы в треугольнике волос на груди Джона, потом катятся по ребрам и вниз вдоль боков.
– Хочешь знать еще кое-что? – Опять полузадушенное бормотание, глаза на сей раз плотно зажмурены Женщина появляется перед ним в том порядке, как ее описывает Ники, будто рассеивается туман, но медленно, мучительно медленно, от макушки и вниз, дюйм за дюймом, невыносимо медленно, волосы, глаза, уши, рот, шея, груди, руки. – Живот… – Его руки ощупывают голый череп Ники, а ее язык скользит по корчащимся змеям его живота. – Как у «Маленькой учительницы» Шардена. [68]68
Жан Батист Симеон Шарден (1699–1779) – французский живописец.
[Закрыть]– Его джинсы летят через комнату усердным легкоатлетом, скользят по полу и останавливаются в тесном объятии с ножкой стола. – Ноги у нее, как у официантки в «Баре в Фоли-Берже» Мане. [69]69
Эдуар Мане (1832–1883) – французский художник импрессионист.
[Закрыть]– Порыв ветра сдувает последние пряди тумана, и женщина предстает перед Джоном целиком.
Он чувствует, как она ложится рядом. Глаза не пропускают спет, сквозь закрытые веки он пристально смотрит на великую любовь своей жизни, и пока эта женщина всюду трогает его, тянет его на себя, прижимает к стене, вопит и дергается под ним, он понимает, что впервые участвует в своей настоящей жизни, произведении искусства. Вспыхивают яркие огни, но Джон борется и держит глаза крепко закрытыми, он не позволит себя оторвать, он больше не позволит любимой убежать и спрятаться, танцевать в недосягаемости, дразнить из обманчивой близи, с той стороны притаившегося зыбуна, проплывать всего одним мостом ниже по течению. Вспышки обращают черный в желтый и синий, но Джон не даст блуждающим огонькам сетчатки его одурачить, он не откроет глаз, не даст ей опять ускользнуть.