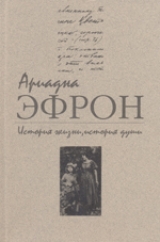
Текст книги "История жизни, история души. Том 2"
Автор книги: Ариадна Эфрон
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
Вечная моя жалость – это то, что нельзя Вас с Зиной перевезти в Тарусу, которая и затевалась-то с мыслью, с мечтой о вас! Всякая, связанная с Тарусой, радость мне вполрадости, всякая её красота – вполкрасоты, т. к. всегда – под лейтмотив: «ах, если бы Лиля видела! Если бы Зина видела»! И в самом деле: если бы вы обе видели, как стеной стоит и цветьмя-цветёт голубая, цвета грозы, фиолетовая, цвета аметиста, белая, чуть кремовая, цвета сливок – сирень! Как застыла она в торжестве своего расцвета, в своём апогее, в своём полудне! А сейчас её красота меня лишь тревожит и даже раздражает, потому что вечно помню, что вы обе, такие мне родные и такие мои – моё «поколенье с сиренью!»' – рассованы по больницам, и весна проходит мимо или светит вам лишь отражённым светом! <...>
Что же ещё добавить к этому «сиреневому» разговору? Что я вас обеих всегда люблю бесконечно; и что в этой любви – толку чуть, ибо, как мама где-то писала, – «любовь есть действие», а действия от меня – как от козла молока. <...>
Крепко обнимаем, целуем, любим! Будьте, Лиленька моя, здоровы, и пусть Бог пошлёт всего самого лучшего и доброго!
Ваша Аля
Не тратьте сил на учеников, ибо первых у вас меньше, чем последних и, в общем, последние не стоят траты на них первых!
1 Начальная строка второго стих. М. Цветаевой из цикла 1935 г. «Отцам» (II, 331).
П.Г. Антокольскому
30 мая 1966
Дорогой мой Павлик, от всего сердца поздравляю Вас (и всех нас!) с Вашей статьей-воспоминаниями в «Новом мире» – почти совпавшей с Вашим юбилеем1 (и слова-то всё не те — и «статья», и «юбилей» – но Вы и так понимаете, что – за словами!). Такой подарок от юбиляра! Павлик, милый, прелестный Павлик моего детства, просто обнимаю Вас!
А вот Вам подарок тридцатилетней давности (лета 1937 г.) – мамины строки о Вас; и ещё давнее – давность, т. к. – с 1917 г.2
«Был Октябрь 1917 г. Да, тот самый. Самый последний его день, т. е. – первый по окончании (заставы ещё догромыхивали). Я ехала в тёмном вагоне из Москвы в Крым. Наверху, на голой верхней полке молодой мужской голос говорил стихи. Вот они:
“И вот она, о ком мечтали деды И шумно спорили за коньяком,
В плаще Жиронды, сквозь снега и беды,
К нам ворвалась – с опущенным штыком”.
[и до «Тот голос памятный – Ужо тебе!» – мне, т. е. Але, почему-то помнится «и шумно спорили у камелька», но я, наверно, ошибаюсь.]
– Да что же это, да чье же это такое, наконец?
– Автору – семнадцать лет, он ещё в гимназии. Это мой товарищ – Павлик А.
Юнкер, гордящийся, что у него товарищ – поэт. Боевой юнкер, пять дней дравшийся. От поражения отыгрывающийся – стихами. Пахнуло Пушкиным: теми дружбами. И сверху – ответом:
– Он очень похож на Пушкина: маленький, юркий, курчавый, даже мальчишки в Пушкине зовут его Пушкиным.
...Инфанта, знай:
Что за тебя готов я на любой костер взойти,
Лишь только буду знать, что будут на меня Глядеть – твои глаза...
А это – из “Куклы Инфанты”, это у него пьеса такая. Это Карлик говорит Инфанте. Карлик любит Инфанту. Карлик – он. Он, правда, маленький, но совсем не карлик!
...Единая – под множеством имён...
Первое, наипервейшее, что я сделала, вернувшись из Крыма -разыскала Павлика. Павлик жил где-то у Храма Христа Спасителя, и я почему-то попала к нему с чёрного хода, и встреча произошла на кухне. Павлик был в гимназическом, с [блестящими] пуговицами, что ещё больше усиливало его сходство с Пушкиным-лицеистом. Маленький Пушкин, только – черноглазый: Пушкин – легенды.
Ни он, ни я ничуть не смутились кухни, нас толкнуло друг к другу через все кастрюльки и котлы так, что мы – внутренне – звякнули, не хуже этих чанов и котлов. Встреча была вроде землетрясения. Потому, как я поняла – кто он, он понял – кто я. (Не о стихах говорю, я даже не знаю, знал ли он тогда мои стихи.)
Простояв в магическом столбняке не знаю сколько, мы оба вышли – тем же чёрным ходом и заливаясь стихами и речами...
Словом, Павлик пошёл – и пропал. Пропал у меня, в Борисоглебском переулке, на долгий срок. Сидел дни, сидел утра, сидел
ночи... Как образец такого сидения приведу только один диалог: я, робко: – Павлик, как Вы думаете, можно то – что мы сейчас делаем – назвать мыслью?
Павлик, ещё более скромно: – Это называется – сидеть в облаках и править миром...»
Это – из черновой тетради 1937 г.
Ещё раз крепко обнимаю Вас, спасибо за слово о маме (наспех пишу, еду в Тарусу, оттуда напишу).
Ваша Аля
' 19 июня 1966 г. П.Г. Антокольскому исполнялось 70 лет.
2 А.С. приводит с купюрой отрывок из «Повести о Сонечке» (IV, 294-295).
П. Г. Антокольскому
6 июня 1966
Спасибо за письмо, дорогой мой Павлик! Как бы ни бежали годы, а Вы – всегда всё тот же, каким я Вас помню с детства, скорый на отклик, на ответный всплеск, как волна на брошенный – нет, не камень, а кубок из баллады!1 Конечно же, годы прибавили Вам мудрости – иначе зачем бы было их жить? – но юности Вашей не откусили ни кусочка, так что Вы – не в накладе, да и мы вместе с Вами... Потому, вероятно, мама и запомнила Вас гимназистом, а не студентом, пронеся с собой – в себе – сквозь жизнь – Ваше прелестное, романтическое мальчишество, душевное отрочество – si noble et si prompte a la riposte8383
Такое благородное и так быстро откликающееся (фр.).
[Закрыть]; кстати – первые из качеств, отнимаемые жизнью: noblesse8484
Благородство (фр.).
[Закрыть] сменяется осторожностью (когда не «бдительностью»), а скорость отклика – портновским «семь раз отмерь, один отрежь». Я ничего сейчас, отсюда не могу возразить или подтвердить насчёт 1917 или 18-го года; знаю лишь, что чудом сохранились мамины записи. Книжки и тетради тех лет с дневниковыми, а не постфактумными2 записями, в т. ч. о Вас и о встрече с Вашими стихами в октябрьском вагоне (окт. 1917); есть у неё и проза под назв<анием> «Октябрь в вагоне»3 – по дневниковым записям, и там тоже – Ваши стихи о Свободе, прозвучавшие для неё впервые именно тогда. Но от окт<ября> 1917 до самого 1918 г. – всего два с чем -то календарных месяца...
Вообще в архиве многое сохранилось о Вас, и, в частности, почему-то множество моих детских, почти младенческих по возрасту, но чётких и грамотных на удивление записей и о Вас, и о Ваших с мамой друзьях, и подробные изложения Ваших пьес...4
К сожалению, уже и у моего возраста руки коротки — не успевают многого; а мне надо будет многое переписать для Вас.
Мамин двухтомник уже высадили из гослитовского плана; мы надеемся, что всего лишь на год. Вот ужо приедет Вл<адимир> Николаевич^ узнает точнее. Будь он здесь, сумел бы удержать книги в плане.
Как жаль, что Ваша с мамой настоящая встреча – после её возвращения в СССР – не состоялась. Вы показались ей далёким и благополучным в трагическом неустройстве её жизни по приезде. То была эра не встреч, а разлук навсегда – те годы. На днях напишу Вам подробнее о статье Вашей, ибо и Вы немного кое-где «напутали». Обнимаю Вас, главное – будьте здоровы!
Ваша Аля
Тарусская тетка5 жива и в меру доступного поправляется; дома и стены помогают.
1 Ассоциация с переводной балладой В.А. Жуковского «Кубок».
2 В записи М. Цветаевой «О любви. Из дневника. 1917» приведены ее беседы с П.Г. Антокольским (IV, 482-484).
3 В опубликованном варианте очерка М. Цветаевой «Октябрь в вагоне» нет упоминания о П.Г. Антокольском. О том, как ею были услышаны стихи Антокольского о Свободе («И вот она, о ком мечтали деды...»), Цветаева рассказывает в «Повести о Сонечке» (см. также письмо тому же адресату от 30 мая 1966 г.).
4 В «Страницы воспоминаний» А.С. включила свою запись 1919 г. «“Кот в сапогах” Антокольского в Третьей студии Вахтангова» (см. Т. Ill наст. изд.).
5 В.И. Цветаева.
В.Н. Орлову
6 июня 1966
Милый Владимир Николаевич!
Примите мои запоздалые со-радования Вашей – наконец удачной – поездке; запоздалые, ибо Вы, без всякого сомнения, уже вошли в задыхновенный темп обычной, нашей, жизни и итальянский Ваш праздник уже опустился на дно души; откуда Вы извлечёте хотя бы кусочки его, когда мы с Вами увидимся.
В статье «Павлика» моего детства не всё (фактическое) точно, многое смещено и т. д., но в ней столько искреннего, истинного и неугасимо молодого чувства, что это – бесконечно трогательно по существу и бесконечно романтично по форме. Он хочет писать предисловие к высаженному из плана гослитовскому 2-х-томнику, и пусть; но я, конечно, жалею, что отказались от этой статьи Вы. Павлик навсегда юн, восторжен и возвышен; это прекрасно вообще и небезопасно в частности; не говорю о какой-то реальной «опасности», а лишь о том, что отсутствие равновесия во вступительной статье отчасти лишает и руля и ветрил драгоценный корабль; Вы – идеальнейший лоцман трудных книг; а Павлик – всегдашний и навсегдаш-ний юнга, под синевой не угадывающий рифов; ну – что Бог даст.
Жаль, что Вам, наитальянившемуся, осточертела Эстония; всё же там тихо, а ведь ничто в наши дни так не восстанавливает сил, как тишина; исчезающее из обихода понятие и состояние. И Таруса теперь шумна, галдит на все чужие голоса, и я могу работать лишь рано утром и поздно вечером, в результате чего не высыпаюсь и болит голова.
Однако ныть не буду: всё хорошо, всё слава Богу, а что до головы, то каждый носит на плечах именно ту, что заслужил, и пенять тут не на что и не на кого.
Очень стараюсь переводить свою предпенсионную испанскую пьесу, получается пока что жуткое не ахти, никак не вползу в трудовую воловью колею; много ещё всяких дел и – быт, будь он, наконец, ладен!
Всего, всего Вам самого доброго, самый сердечный привет Елене Владимировне – когда она вернётся из своих, всегда в это время пыльных, странствий? Когда и где – отдых в нынешнем году? Пишите иногда хотя бы!
ВашаАЭ
Е.Я. Эфрон
12 июня 1966
Лиленька моя дорогая, надеюсь, что это письмо застанет Вас уже дома; пожалуй, я сама так же томилась вашей неволей1, особенно в последнее время, как и вы обе. <...>
Тут у меня форменная свистопляска, гости не переводятся, из-за чего не переводится и Тирсо де Молина... <...> Я не считаю дружественных набегов дачных соседей и визитов праздношатающихся туристов, к<отор>ые все вдруг возлюбили Цветаеву не прочтя ни строки... Я дико устаю от всего этого мельтешенья, болит голова, и, конечно, тормозится злосчастный перевод... впрочем, когда они у меня не тормозятся? Боюсь, что всё лето так и пройдёт – в околоцветаевском ажиотаже, именно ажиотаже; причём людей праздных, отдыхающих и зачастую слишком говорливых... – Несколько дней вдруг было совсем по-позднеосеннему холодных, ветреных, с низкими и мерзкими – не по сезону – почти снежными тучами, сегодня, по случаю «дня выборов» распогодилось. Ходили втроём (Ада, Аня и я) выбирать от Калужской обл. почему-то Юрия Гагарина (написала – и догадалась почему: Калуга – родина Циолковского) и ещё председателя одного из колхозов Козельского района (есть и такой!). Председатель этот уже успел у нас прославиться: должен был выступать перед избирателями, собравшимися со всего района, чтобы, так сказать, познакомиться; но по дороге наклюкался так, что его не только ввести, но и внести в зал оказалось невозможным. Встреча не состоялась; товарищ же был избран единогласно; почему бы нет? явно – свой в доску. Исполнив свой гражданский долг, мы с Аней устроили себе праздничную пробежку по опушкам, набрали немного грибов (лисичек и даже белых) и десятка два ягодок начинающей краснеть земляники; и голове моей сразу стало легче, «чего и Вам желаю». Наверное, Вы не скоро соберётесь с силами и со временем, чтобы написать мне полтора (хотя бы!) слова, и я буду гадать на бобах и надеяться на лучшее, м. б. Зинуша, когда выберется, найдёт минутку и напишет мне открытку; очень жду! Крепко целуем Вас и любим.
Ваша Аля
1 Е.Я. Эфрон и З.М. Ширкевич лежали в начале лета 1966 г. в больнице.
П.Г. Антокольскому
21 июня 1966
Дорогой мой Павлик! (– а много ли нас осталось, с полувековым правом давности зовущих Вас Павликом?) – спасибо за книжечку1 (они, как и дети, хороши только толстые, а эта чересчур худа: и почему нет дат под стихами?). Тут у меня есть подопечная девочка, Таня, почтальон: уроженка одной из здешних деревень, кончила тарусских 10 кл<ассов>, никак не может попасть в институт (нет связей и всегда не дотягивает полбалла!) – умница, талантливая, самородок; по-настоящему любит и понимает стихи. Ваши уже читала (сама) и говорит мне: «А стихи Антокольского знаете? Они совершенно удивительные: одновременно и молодые и мудрые» Абсолютно права девчонка. Самодельная обложка черна, как вечность, поэтому я на неё наклеила звезду. Глаза у Вас на портрете тревожные, а знаете ли, что они у Вас всегда были такие, не просто глядящие, вглядывающиеся, а прислушивающиеся? Я помню.
Спасибо за письмо, за быстрый и глубокий отклик; и мама всегда так отзывалась, только окликнут, быстро и глубоко отзывалась не эхом, а нутром, заранее родством к окликающему: раз позвал, значит – нужна. Это был и внутренний (как у Вас) – дар; это была (как у Вас) и принадлежность к тому поколению: отзывчивому и действенному.
Насчёт 1917-18 годов: думаю, вы оба правы; стихи Ваши мама услышала в окт<ябре> 1917, а познакомиться Вы могли в нач<але> 1918 – это ведь очень близко по времени, каких-нб. два-три месяца. Осенью 1917 мама была в Крыму, до всяких событий; отсюда и «Октябрь в вагоне» – когда возвращалась в Москву. Я в самый «переворот» – так ведь это тогда называлось, помните? сидела в Борисоглебском с тётками2; близко бухало и грохало; шальной пулей разбило стекло в детской; утром в затишье вышли было из дому, но кинулись обратно: в переулке лежали убитые. Папа участвовал в боях за Москву – за Юнкерское училище, за Кремль; прибегал домой посмотреть -целы ли мы? один раз прибежал с огромным ключом от кремлевских ворот. Над воротами этими тогда была икона Георгия Победоносца... Мама была сдержанна, собранна, сжата, без паники. Как всегда, когда было трудно. А с тех пор было трудно – всегда.
Вы знаете, что мне показалось чуть смещённым в Вашем образе мамы? Она кажется как-то грубее и больше ростом, как-то объёмистее, чем была на самом деле; у Вас: статная, широкоплечая... широкими мужскими шагами...3
А она была небольшого роста (чуть выше Аси), очень тонкая, казалась подростком-девочкой мальчишеского склада; тут бы, пожалуй, не статная подошло бы больше, а стройная: «статность» как бы подразумевает русскую могучую стать, к<отор>ой не было. И шаги были не мужские (подразумевающие некую тяжесть поступи, опять же рост, и стать, и вес, к<отор>ых не было) – а стремительные лёгкие мальчишечьи. В ней была грация, ласковость, лукавство – помните? Ну конечно же – помните. Лёгкая она была.
Платье наипростейшего покроя, напоминающее подрясник. Да, конечно, по тем временам, когда все вещи и все покрои куда-то девались, исчезли, у всех – кроме М-me Луначарской! Но вообше-то «подрясники» маме не были свойственны; при её пренебрежении к моде вообще, она не была лишена и женского, и романтического пристрастия к одежде, к той, которая ей шла. Всю жизнь подтянутая, аккуратная (совершенно лишённая Асиной расхристанности) – она носила платьица типа «бауэрнклайт»4, являвшие тонкость талии и стройность фигуры; как Беттина фон Арним!5 А та одежда – из портьер, одеял и прочего – была бесформенной – кто умел шить? (Это у меня des propos еп Гай8585
Просто так (фр.).
[Закрыть] по поводу, вообще...)
Глаза у мамы были без малейшей серизны, ярко-светло-зелёные, как крыжовник или виноград (их цвет не менялся и не тускнел всю жизнь!).
Насчёт маминой комнаты (простите за все эти мелочи!) – её маленькая комната внизу, рядом с моей детской, там, где был секретер, и орёл, и шкура волка, не была сплошь завешена ковриками – только один, левый у двери угол; ковер скрывал углубление, вроде стенного шкафа. Комнатка была полутёмная и без ковров; маленькое окошечко. «Чердачная» комната, наверху – была довольно большой (бывшая папина), но казалась Вам маленькой, т. к. всё основное было сосредоточено у окна, выходившего на крыши. Там тоже не было ковров, «Комната» – из её стихов ко мне, кончавшихся словами: «В тот (страшный? не помню точно! – АЭ) год, отмеченный бедою, ты – маленькой была, я – молодою»6. Там есть слова: «...Чердак-каюту, моих бумаг божественную смуту...» И действительно была – каюта! (А рядом – громадная кухня с плитой из иллюстраций Доре к сказкам Перро – и оттуда – лаз на самый чердак.)
Но вот что важно: моя сестра Ирина7 вовсе не была безнадежно больной. Она просто родилась и росла в ужасающе голодные годы, была маленьким недокормышем, немного, от недоедания, недоразвитым, т. е. в три года говорила, как двухлетняя, не фразами, а словами; впрочем, знала и стишки, и песенки. Ножки у неё были немного рахитичные, мама всё сажала её на подоконник на солнышко, верила, что поможет... Ирина была прелестная, прехорошенькая девочка с пепельными кудрями, лобастая, курносенькая, с огромными отцовскими глазами и очаровательным ротиком. Из всех, бывавших у нас, больше всего любила Сонечку Голлидэй – звала её «Галида», и «Галида» ужасно любила её, ласкала, нянчила; я как сейчас вижу обеих, таких маленьких', таких прелестных, ах ты, Господи Боже мой! (У меня, к счастью, сохранились две фотографии Ирины.)
Потом добрые люди – практичные добрые люди – убедили маму отдать нас на время в образцовый детский приют в Кунцеве: «при Вас девочки погибнут, а там кормят – продуктами “АРА”8». Мама долго сопротивлялась, наконец – сдалась. Увы, во главе образцового приюта стоял мерзавец, спекулировавший этими самыми детскими американскими продуктами. Приехавшая через месяц навестить нас мама . нашла меня почти безнадежно больной (и брюшняк, и сыпняк, и «инфлюэнца», и ещё что-то); вынесла меня на руках, завернув в шубу, на большую дорогу; «транспорта» в те годы не было; какие-то попутные сани увезли нас. А Ирина ещё «дюжила» – ходила, не лежала; всё просила «чаю». А пока мама билась со мной и меня выхаживала, спасала, Ирина умерла в приюте – умерла с голоду – и похоронена была в общей яме. Дети там, как выяснилось, умирали по несколько человек в день. Там просто не кормили. Так вот в маминых стихах: «Старшую у тьмы выхватывая, младшей не уберегла»9.
Иринина смерть сыграла огромную роль в мамином отъезде за границу, не меньшую, чем папино там присутствие. Мама никогда не могла забыть, что здесь дети умирают с голоду. (Поэтому я на стену лезу, читая (о, не у Вас!) стандартное: «Цветаева не поняла и не приняла...») Чего уж понятнее и неприемлемее!
У Вас масса верного и точного в статье – и то, что мама зачёркивала причину возникновения стихов; и то, что она никогда не была поэтессой, всегда – поэтом. Вообще, Вы умник и молодец, и я ужасно рада. Не обижайтесь моим «замечаниям» – не то слово, просто мысли по поводу.
Да, конечно, рыцарь от поэзии, сиречь Орлов, без Биб<лиотеки> поэта не усидит10; но отдохнуть ему надо, голову проветрить. За мамину книгу я ему очень благодарна, а в предисловии он показал себя весьма умелым лоцманом. Не сомневаюсь, что написал бы статью и лучше, и глубже, кабы не лоцманские функции и, увы, необходимая оглядка на «княгиню Марью Алексевну».
Не думаете ли Вы и о статье к сборнику (предполагаемому) пьес маминых – в «Искусстве»? Там много вещей столь знакомой Вам поры; и столько знакомых героев (и тот – несбывшийся! – Юра 3<авадский>, и та, ушедшая, Сонечка...). Сейчас, среди очередной переводческой спешки, ещё пытаюсь делать и выписки из книги о Лозене11 для примечаний к «Фортуне», к<отор>ая может не пойти... «И ты, Лозен, рукой белей, чем снег, ты поднимал за чернь бокал заздравный...»12
Вашей книги о поэтах13 у меня нет. Простите за сумбур и спешку. Обнимаю Вас, Павлик, милый! Будьте здоровы!
Ваша Аля
' По-видимому, П.Г Антокольский подарил А.С. свою книгу «Четвертое измерение. Стихи. 1962-1963» (М., 1964).
2 С Верой Яковлевной и Елизаветой Яковлевной Эфрон.
3 В статье «Книга Марины Цветаевой» П.Г. Антокольский так описывает Цве таеву: «...статная, ширококостная женщина с широко расставленными серо-зелеными глазами.. <...> Широкими, мужскими шагами пересекает она Арбат. <...>
Синее платье не модного и не старомодного, а самого наипростейшего покроя, напоминающее подрясник, – туго стянуто в талии желтым офицерским поясом» (С. 213).
4 Bauernkleid (нем.) – крестьянская одежда.
5Бвттина фон Арним (урожд. Брентано) (1785-1859) – немецкая писательница, чьи книги «Переписка Гете с ребенком» и роман в письмах «Гюндероде» увлекали М. Цветаеву в юности.
6 Неточная цитата из 2-гостих. цикла «Але» «Когда-нибудь, прелестное созданье...» (1919). Правильно: «Как, в страшный год, возвышены Бедою, / Ты-маленькой была, я – молодою» (I, 495).
7Ирина (1917-1920) – младшая дочь М.И. Цветаевой.
8 American Relief Administration (Американская администрация помощи) -благотворительная организация, помогавшая странам Европы, особенно пострадавшим во время Первой мировой войны. Деятельность ее в РСФСР была разрешена с 1921 г. в связи с голодом в Поволжье. Поэтому, вероятно, А.С. ошибается – вряд ли в 1920 г. в кунцевский приют поступали продукты АРА.
9 Строки из стих. 1920 г. «Две руки, легко опущенные...» (I, 518).
10 В.Н. Орлов в письмах 1966 г. писал П.Г. Антокольскому, что руководство
Союза писателей и издательства «Советский писатель» не понимает историкокультурного значения «Библиотеки поэта» и что ему «надоело, осточертело объяснять, обороняться, вытаскивать палки из колес». _
" Арман Луи Бирон-Гонто, герцог Лозен (1747-1795) – главный герой пьесы М. Цветаевой «Фортуна» – лицо историческое, политик, дипломат, военачальник, автор книги «Мётснге du due de Lauzin», многократно переиздававшейся во Франции. О его судьбе см. коммент. А.С. в кн.: Цветаева М. Театр. С. 344-347.
12 Неточная цитата из пьесы «Фортуна». Правильно: «И я, Лозен, рукой белей, чем снег, / Я поднимал за чернь бокал заздравный...» (Ill, 405).
13 Речь идет о книге П.Г. Антокольского «Пути поэтов. Очерки» (М., 1965). Автор прислал А.С. книгу с дарственной надписью:
«Але, Але, Але -
Спасибо за письма, за память, за добро, за все -
Ваш навсегда
Павел.
Несколько страниц здесь Вам понравятся.
Москва. 26 июня 66».
П.Г. Антокольскому
14 июля 1966
Павлик мой дорогой, Ваша книга о поэтах пришла ко мне в день Вашего юбилея, и я его встретила и провела вместе с Вами и вместе с ними, Поэтами, многообъемлюще и высоко. Прекрасная книга, Павлик! и несмотря на то, что там не сказано именно о маме («именно» в смысле имени, т. е. не упоминается имя), – там столько и о ней и столько как бы ею написано – её сильной рукой с серебряным перстнем – сильной и верной рукой, что, право же, нынче Ваш юбилей был для меня воистину Днем Поэзии (не путать с одноименным утлым альманахом!).
Представляю себе, как Вас запоздравляли, как были avalanches8686
Обвал, лавина (фр.).
[Закрыть] поздравлений и поздравителей, и как Вы вначале были рады и тронуты, а потом устали неимоверно и глотали «сердечное», и как только теперь очухиваетесь от внезапно сфокусированного сознания, что у Вас столько друзей и – столько Учеников! Друзей? Как ни странно, друзья – величина изменчивая; пожалуй, именно слово «друг» (и понятие) – не терпит множественного числа, разве что славянского други («за други своя!»1), а вот Ученики – неизменны, пусть даже и изменчивы. У Вас много учеников, Павлик, и Вы – счастливый человек; вдвойне счастливый ещё и потому, что сами никогда не стали и не станете «учителем», т. е. некоей закостенелостью; потому что Вы сами – как всякий истинный поэт – только Ученик, вечный Ученик – поэзии, жизни, мира, вечный искатель и «находитель», всегда во внутреннем движении поиска и мысли, вечный путешественник, исследователь и труженик – всегда ввысь и вперед!
Какие чудесные стоят дни! Какая чудесная взбалмошная погода, вся из гроз и просветов! Милая, милая «ветреная Геба», кормящая Зевесова орла наших детств и юностей, как ты хороша, бесчинствуя в нашем российском небе, о, Гречанка! И как всё растёт и цветёт, пригубив от твоего громокипящего кубка!2 И – ай-ай, как скучно и нудно сидеть и сидеть и корпеть и корпеть над переводом стихотворной пьесы по подстрочнику, ради проблематических пенсионных барышей (уже работаю «на пенсию», подумать только!). Нет, переводить надо (по крайней мере, мне!) только в плохую погоду! чтобы не рваться к солнцу, вернее – на солнце.
Насчёт всяких маминых дат всё выяснит и уточнит её архив. Она действительно ездила на юг дважды, и очень возможно, что встретилась с Вашими стихами именно во вторую поездку. Бог даст время и руки, выпишу для Вас многое, что по праву Ваше; и мои детские дневники подробно, дотошно, младенчески-высокопарно, как средневековые хроники, повествуют о Вас, о тогдашних Ваших друзьях и делах.
Крепко обнимаю Вас, Павлик, милый. Будьте здоровы, главное!
Ваша Аля
1 См. Ин. 15, 13.
2 Перефразированные строки из стих. Ф.И. Тютчева «Весенняя гроза»: «Ты скажешь: ветреная Геба, / Кормя Зевесова орла, / Громокипящий кубок с неба, / Смеясь, на землю пролила».
Е.Я. Эфрон и З.М. Ширкевич
24 июля 1966
Дорогие Лиленька и Зинуша! Теперь Лилины открытки часто приходят и радуют меня. <...> С работой моей не ахти как важно получается, всё время что-то и кто-то отрывает, заходят бесконечные экскурсанты и туристы (просто – праздношатающиеся в большинстве случаев) поговорить «за М<арину> Ц<ветаеву>»; бедная мама стала одним из туристических «курьёзов» Тарусы; «курьёзов» -ибо не всерьёз интересует она праздношатающихся. А сегодня приехала Аня – и никак не удаётся мне последний рывок, чтобы закончить работу. Потому мои вести к вам редки и хаотичны и сама я раздергана на тысячу мелочей. Таруса за эти годы изменилась неузнаваемо, и работать тут почти невозможно, ибо все «отдыхают», одна я против общего течения. И ни разу не удалось сходить покупаться! А лето уже почти проходит... <...>
Крепко целую и люблю...
Ваша Аля
П.Г. Антокольскому
7 августа 1966
Павлик мой дорогой, это ещё не ответ на Ваше письмо, а слабый полудохлый отклик: кончаю осточертевший, непереносимый перевод, и самые последние, утлые концы никак не даются; никакая усидчивость, никакая «добросовестность» не помогают, не могут справиться с усталостью. Голова устала; да и вообще вся устала. Добросовестность же в кавычках, потому что она – не настоящая, а тупая, тупоумная, покорная какая-то. Унылая. И вообще – чёрт знает что.
В таком «добросовестном» состоянии просто не могла писать Вам, ещё и сейчас не могу. Немного надо очухаться – и даже отоспаться.
Как только книга Ваша о поэтах вернётся ко мне (она пошла по небольшому кругу тарусских друзей – ещё есть большой круг знакомых – но не про них писано!) – напишу Вам о родстве; а пока что: так же страстно и пристрастно, такая же акция ЗАЩИТЫ, как у мамы.
...«утвердив жизнь, которая сама есть утверждение, я не выхожу из рождённого состояния поэта-защитника» – так кончает мама очерк о
Мандельштаме1; выше она пишет о том, что ПОЭТ — никогда не прокурор, всегда – защитник.
Но много другого общего. Об этом на хоть чуть отдохнувшую голову.
Да – солнце, военная музыка и собаки2 – чудесно! И главное -любовь к этому сохранилась на всю жизнь! Иногда вместо собак – кошки. Иногда вместо военной музыки – «гражданская». Но солнце – всегда без заменителей.
Насчёт же «бедняги Тредьяковского» не уверена, что таков уж он «бедняга». Искра божья была и у него; и этого уже было достаточно маме для чувства великого собратства...3 Мама была писателем (и, конечно же, поэтом) не только «традиций, воспоминаний, преданий и... предвзятостей», но и провидений. «Традиции» же и прочее -это – громадное чувство корней и почвы, преемственности, дочерно-сти и сыновности, родства. Она блестяще (не то слово!), она глубоко' доказала, что без этого – не ушагаешь вперёд, не вырастёшь вверх и вглубь.
Это же есть и у Вас в высокой степени.
Мама говорила: поэзия — одна, но говорит многими устами4. Правда ведь, Павлик, новаторства без глубоких корней – не бывает? Впрочем, это – аксиома.
Всё, что Вы, т. е. всё, чего Вы не читали маминого, есть у Ани Саакянц (Вы её знаете по Гослитиздату, она – хорошая девочка и великий знаток М<арины> Ц<ветаевой> перед Всевышним!), и всё Вам будет доставлено8787
Очевидно в сентябре? сейчас она в отпуску (е) ? (примеч. А.С. Эфрон).
[Закрыть]; есть 3-й экземпляр (машинописный) (наш «авторский») – драматургии; есть проза. Кстати, в № 7 «Москвы» – мамин «Дом у Старого Пимена»5, я очень люблю эту вещь.
Получила милое письмо от Орлова – совсем другой человек, когда отдыхает! Куда вольнее и добрее и совсем не crispe8888
Придира (фр.).
[Закрыть]. Прелесть.
Почему так убыстрилось время? Куда девалось само понятие досуга? Без него нельзя. Я уже тысячу лет живу без оглядки, без отдыха под деревом у дороги; а сделанного – нет ничего. Простите за каракули этого не-письма. Обнимаю Вас, Павлик!
Ваша Аля
1 «История одного посвящения» (IV, 158).
2 По всей видимости, П.Г. Антокольский в письме к А.С. рассказал о словах ее матери, которые он впоследствии привел в своей кн. «Путевой журнал писателя» (М., 1976): «Мне вспоминается, как где-то между 1917 и 1918 годами
Марина Ивановна на вопрос, что она любит больше всего, без колебания отвечала: “Солнце. Военную духовую музыку. Собак”» (С. 192).
3 У В.К. Тредиаковского в статье «Мнение о начале поэзии и стихов вообще» (Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. СПб., 1849. С. 182-183) о поэте и поэтическом вымысле: «От сего, что Пиит есть творитель, вымыслитель и подражатель, не заключается, чтоб он был Лживец. Ложь есть слово против разума и совести, то есть, когда или разум прямо не знает, так ли есть то, что язык говорит, или когда совесть точно извесна, что то не так, как уста блядословят. Но Пиитическое вымышление бывает по разуму, то есть, как вещь могла быть, или долженствовала». Это высказывание Тредиаковского Цветаева не точно приводит эпиграфом к книге «После России» и обращается к нему в статье «Поэт-альпинист» (1934) и в эссе «Пушкин и Пугачев» (1937).
4 Эту мысль М. Цветаева постоянно варьировала. Так, в статье «Эпос и лирика современной России» (1932) она пишет: «...поэзия не дробится ни в поэтах, ни на поэтов, она во всех своих явлениях – одна, одно, в каждом – вся, так же, как, по существу, нет поэтов, а есть поэт, один и тот же с начала и до конца мира, сила, окрашивающаяся в цвета данных времен, племен, стран, наречий, лиц, проходящих через ее, силу, несущих, как река, теми или иными берегами, тем или иным дном» (V, 375). Мысль о единстве поэзии постоянно присутствовала в переписке Рильке, Пастернака и Цветаевой и сконцентрирована в четверостишии, написанном Рильке на форзаце экземпляра «Дуинез-ских элегий», подаренного им Цветаевой: «Касаемся друг друга. Чем? Крыла-ми. / Издалека своё ведем родство. / Поэт – один. И тот, кто нёс его, / Встречается с несущим временами» (Райнер Мария Рильке, Б. Пастернак, М. Цветаева. Письма 1926 года. М., 1990. С. 29).








