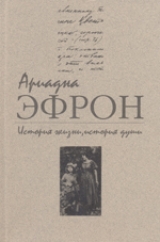
Текст книги "История жизни, история души. Том 2"
Автор книги: Ариадна Эфрон
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
Крепко обнимаю Вас, ещё раз благодарю за всё; желаю Вам в наступающем году сил, здоровья, покоя; Бог даст сдам книгу и кое-какую прокормочную работёнку – м. б. повидаемся?
Ваша Аля 6060
Мария Ивановна Кузнецова (литературный и театральный псевд. Гринева; 1895-1966) познакомилась с Мариной Цветаевой и Сергеем Эфроном в 1912 г., когда была еще ученицей театральной школы С.В. Халютиной: будучи актрисой Камерного театра, она жила в «Обормотнике»; вместе с сестрами С. Эфрона Лилей и Верой часто бывала в Борисоглебском у Марины и Сергея Эфронов; вышла замуж за первого мужа Аси Цветаевой Б.С. Трухачева и стала ее ближайшей подругой. Оставила воспоминания о встречах с молодой Мариной Цветаевой,
[Закрыть]6161
Речь идет о рукописи пьесы-сказки М. Цветаевой «Каменный Ангел» (1919).
[Закрыть]6262
Балагин (наст, фамилия Гершанович) Александр Самуилович (1894-1937) -
поэт, драматург. Второй муж М.И. Кузнецовой.
[Закрыть]6363
При жизни М. Цветаевой пьеса не была опубликована. Впервые: Цветаева М. Неизданное. Стихи. Театр. Проза. Париж: YMCA-Press, 1976. 1-я публ. в СССР: Цветаева М. Театр. М., 1988.
[Закрыть]6464
Книга Б.Пастернака «Стихотворения и поэмы» вышла в свет в Большой серии «Библиотеки поэта» в 1965 г.
[Закрыть]
В. Н. Орлову
25 февраля 1964
Дорогой Владимир Николаевич, простите, ради Бога, что не отозвалась на Вашу весточку: замордована всякими делами и поделками (подделками под дела!) – до того устаю, до того голова болит – или, вернее, жалкое подобие её! – что сил никаких нет. Ну да авось, небось да как-нибудь...
Мама, переводя «Гоготура» и «Этери»1, записала среди черновиков перевода:
«“Имя горькое – Этери Сладкого не принесёт...”
Дай Бог, чтобы оно мне (ни в чём не повинной) не принесло горького, не больше той маленькой горечи, которую не могу не ощущать, отдавая свою голову на такой вздор
МЦ – 12 апр. 1940 г., Голицыно».
Теперь понимаю, каково ей было, если и мне – так тошно! И вот в чём беда: головы переводятся, а вздор – нет.
Интеллигентная Москва, т. е. все, кроме работников торговой сети, дворников-татар и нянечек детяслей и роддомов сходят с ума загодя по «Дон-Жуану»6161
Речь идет о рукописи пьесы-сказки М. Цветаевой «Каменный Ангел» (1919).
[Закрыть]. Билеты распроданы даже с такой «нагрузкой» , как принудительная опера Лациса «Буря», где «сам Ленин поёт»6262
Балагин (наст, фамилия Гершанович) Александр Самуилович (1894-1937) -
поэт, драматург. Второй муж М.И. Кузнецовой.
[Закрыть] (так приманивала одна из киоскерш упирающихся театроманов!).
Короче говоря, если я не заработаю «ад Господа Бога» (как писала мне одна спутница по дальним странствиям), сиречь от Вас и Е<ле-ны> В<ладимировны> «двух лишних билетиков», то... буду очень огорчена.
До скорой встречи, надеюсь, и всего самого доброго вам обоим.
Ваша АЭ
' «Гоготур и Апшина» и «Этери» – поэмы грузинского поэта Важа Пшавелы.
2 Имеются в виду предстоящие гастроли в Москве Ленинградского Театра комедии, артисткой которого была Е.В. Юнгер. В репертуаре театра был поставленный главным режиссером Н.П. Акимовым спектакль «Дон-Жуан» по Байрону.
3 А.С. ошиблась: образ Ленина фигурирует в опере Т. Хренникова «В бурю» по роману Н. Вирты «Одиночество».
В.Ф. Булгакову
19 марта 1964
Дорогой Валентин Фёдорович, наши письма, видно, разминулись, если можно назвать письмом ту мою весточку. Сердечное спасибо за пересланную Вами копию ответа Вашего «читателю и почитателю». Судя по всему, юноша бесцеремонный; а ответили Вы ему прекрасно.
Нынешние люди – молодые – да и не только молодые – вообще бесцеремонны до ужаса, даже с самыми благими намерениями, даже в своём, каждому поколению присущем, стремлении к прекрасному. Не все, конечно, но очень и очень многие.
Один, например, весьма желторотый и, как в дальнейшем выяснилось, вовсе не плохой «мальчик», позволил себе начать письмо к Оренбургу словами «Привет, Илья Григорьевич!» Дальше выяснилось, что он претендует на «пустяк», а именно: желает зайти к Оренбургу и... покопаться в его архивах и библиотеке – авось что-нб. разыщет цветаевское или о Цветаевой. Другой (из Минска) решил выяснить – кому посвящены поэмы «Горы» и «Конца», и требовал у меня «установочные данные» героя этих поэм...
Пишу Вам об этом с улыбкой, а на самом деле – не до смеха. Мамина недавняя безвестность больше гармонировала с её человеческой и творческой судьбой, чем мода на её произведения. Когда незаслуженная безвестность сменяется заслуженным признанием, это хорошо, так оно и быть должно, а когда горькая судьба человека, искреннее и истинное творчество его становится модной безделицей в руках бездумных любопытствующих – наравне с пластинками американского джаза, скажем, – это оскорбительно. Впрочем, очевидно, признание должно пройти и эту стадию, прежде чем вылиться в нечто подлинное, – если выливается! И кому об этом знать, как не Вам, бывшему свидетелем глупого идолопоклонства Толстому! Сколько времени и душевных сил отнимали у него просто любопытствующие, просто «модники» тех времен, не дававшие себе труда проникнуть в суть написанного им, в суть его учения! Ибо, если бы давали себе этот труд, то... не были бы «модниками»...
В Москве мне живётся куда хуже, чем в Тарусе, несмотря на «удобства», к<отор>ых не успеваю заметить и оценить, несмотря на «продукты», к<отор>ыми снабжается столица (много ли мне одной нужно?).
Увязла в долгах за кооперативную квартиру, значит, делаю всякую дрянь – редактуру и переводы – чтобы затянуть бюджетные дыры, устаю, как водовозная северная собака, драгоценное время уходит на всякую немыслимую ерунду, болит голова, болит сердце. Воздух в Москве можно топором рубить, а не дышать им... Числа 15-го апреля надеюсь выбраться в Тарусу уже надолго – если Ока не разольётся к тому времени и не прервёт сообщение между Тарусой и Москвой недели на две.
Желаю Вам всего самого доброго и светлого; и чтобы были здоровы; и чтобы книги не только хорошо писались, но... и выходили бы в свет без особых терзаний!
ВашаАЭ
В.Ф. Булгакову
22 апреля 1964
Дорогой Валентин Фёдорович, <...> от всего этого: карьеризма на чужой крови; нелюдской жадности на «интимную жизнь»; (от «и делили ризы Его») – хочется подальше – но никак, никак не удаётся. Этого больше, чем настоящего.
Поэт дал людям не «интимную жизнь» – а всю громадную силу творчества, всю душу; но им нужны «ризы», и ризы они делят; им важно – грешила ли Гончарова с Дантесом, в каких дозах «обижала» С<о-фья> А<ндреевна> Толстого, кому посвящены поэмы «Горы» и «Конца» и как на это смотрел муж.
Люди не понимают любви, хотя нет ничего, о чём они рассуждали бы с большей охотой. И им никогда не понять – сколько бы они ни «изучали» предмет – глубины любви в отношениях супругов Толстых, Пушкиных, Эфронов; в отношениях всех на свете супругов; ибо чем больше страданий в любви, тем она выше, чище, настоящей и благородней; тем она вернее и вечнее; разбиваются сосуды любви, а она остаётся.
Всего Вам самого, самого доброго!
Ваша АЭ
27 апреля 1964
Дорогой Аришик, вот и Пасха приближается, навсегда в нашей памяти связанная с болезнью и уходом Б<ориса> Л<еонидовича> – с его Страстной неделей (и с воскресеньем, раз он в него верил!). Посылаю тебе переписанное его письмо, чудесное; только, прошу тебя, не пополняй им ничьих коллекций, ладно?
14 июня 1952 г.
Дорогая Аля!
Я ещё по поводу предыдущего твоего письма хотел повторить тебе, какая у тебя замечательная и близкая мне наблюдательность. У меня в продолжении романа, только что написанном и которого ты не знаешь, есть о том же самом, что у тебя в прошлом письме: о земле, выходящей весной из-под снега в том виде, в каком она ушла зимой под снег, и о весенней желтизне жизни, начинающейся с осенней желтизны смерти и т. д.
Я очень хорошо поработал для себя в апреле и мае и читал нескольким друзьям большой новый кусок прозы, ещё непереписанный. Это было большое счастье, и было совсем недавно, неделю с чем-то тому назад.
Я здоров, я живу незаслуженно хорошо, Аля, с блажью и фанабериями (проза, чтение), которые позволяю себе.
Мы завтра переезжаем на дачу, и я тебе пишу эти поспешные строки в обстановке подведённых итогов и валяющихся на полу обрывков верёвки и обёрточной бумаги.
Мне хорошо, Аля, я стал как-то шутливо спокоен. Я не остыл к жизни, а готов загореться и горю как-то шире, целым горизонтом, как будто я только часть пожара, вообще только часть того, что думает воздух, время, человеческая природа (в возвышающем отвлечении), я боюсь сглазить, я боюсь это говорить. Меня нечего жалеть, я что-то вроде Хлестакова, я заедаю чужой век, мне выпала даром, неизвестно за что, м. б. совсем не мне предназначенная судьба, незаслуженно, неоправданно.
Вот моя открытка тебе, между переводом и огородом. Я летом хочу кончить роман так, как он был начат, для себя самого.
Tout a’toi* б
(авиаписьмо, в Туруханск)
Целую тебя, Аришик, поздравляю с приближающимися весенними праздниками, с самой весной. Пусть она будет доброй и щедрой вам обоим.6565
В феврале 1964 г. И.И. Емельянова вышла замуж за отсидевшего 6 лет в Мордовских лагерях и освободившегося в 1963 г. Вадима Марковича Козового.
[Закрыть]
Твоя Аля
5 июля 1964
Дорогой мой Аришик, рада была наконец получить твоё письмишко, хоть новости в нём содержатся не ахти какой блеск. Впрочем, будем привычно надеяться на лучшее и то, что не каждый год в нашей жизни – високосный. Так и чуяло сердце, Вадим1 всё изводится в поисках работы и места под щедрым солнцем. Легко себе представить, каково ему, и какое счастье, что вы вместе, если бы не это, то и вовсе можно было отчаяться. Мне очень понятно (изнутри) – его нынешнее состояние, по гроб жизни будет понятным и памятным. Чувствуешь себя этакой Эвридикой «среди живых». К счастью, он очень молод и всё это пройдёт, чего не могу сказать о себе... Жаль, жаль, что отношения с Учителем2 идут не гладко; пусть бы это, уж коли суждено, определилось бы потом, когда утряслись бы все прочие делишки. Учитель наш, увы, однолюб, и тебе приходится нести бремя этого самоотверженного однолюбия – именно бремя, ибо редкий человек владеет искусством, вернее – талантом любить другого так, как это нужно тому, другому. Думаю, что ты любишь Вадика так, что ему с тобой хорошо', по правде же обычно каждый любит, вольно или невольно, в другом лишь самого себя. Короче говоря, тайна сия велика есть, и очень хорошо, что милый Учитель отдыхает от вас «на озерах», а вы – от него, а дальше видно будет.
У нас тут весь июнь были тропики, теперь зарядил дождь, оно бы ничего, если бы ему, сиречь дождю, не предшествовали в самые первые июльские дни сумасшедшие грозы с ураганным ветром и градом, порядочно измолотившим наше (персональное) утлое сельское хозяйство и садоводство. Жалко цветников и будущих огурцов, а в общем Бог с ним со всем.
Получила вчера открытку от нашей Аси (Цв<етаевой>), которая, ничтоже сумняшеся «едет с Ритой»3, степень нашего восторга можешь вообразить – к счастью, кажется, ненадолго, т. к. они даже в этот трудный год отбывают в конце месяца в Палангу. Ну, это всё ерунда. А не ерунда то, что Ася устроила в «Новый мир» свои воспоминания о Горьком и ещё что-то, и таким образом лежащая там два года подборка маминых стихов «накрылась» окончательно; двух Цв<етаевых> журнал поместить, естественно, не может, а та, настоящая Цв<етаева>, писала о ком угодно, только не о Горьком. От подборки я не была в восторге, но дело тут не в восторгах, а, так сказать, в самой постановке дела: ещё раз мёртвому надо убраться с пути живого – и напорис-
того. Теперь путь маме ( – и её прозе) – надолго заказан в этот единственный порядочный журнал. Конечно, Ася и не думала заменить и подменить собой маму, но «так получилось». Живая собака сильнее мёртвого льва, и, того и гляди, сама в львах будет ходить. А мне за маму больно и ревниво. Вольные и невольные отражатели её и подражатели живут, питаясь её светом и соками, и кто-то принимает это за подлинное, за первозданное. А первозданное глубоко зарыто в своей безымянной могиле – доколе?
Скажу тебе со всей большевистской прямотой, что писать твоей маме мне решительно не о чем, даже учитывая всё на свете. (А я учитываю.) Как мне ни жаль её, а сердце моё к ней опустело и оскудело, для меня она – туча над твоей головой, уже прогремевшая однажды и ещё не отгремевшая. Конечно, она не виновата, что «она – такая», ей-Богу, мы все, и ты первая, ещё менее виноваты в этом. Крепко тебя целуем обе, сердечный привет Вадиму, будьте все здоровы, остальное – приложится. Как П.Е.4– не донимает? Привет ей.
Твоя Аля
' Муж И.И. Емельяновой В.М. Козовой был так же, как А.С., переводчиком с французского; А.С. удалось достать для него заказ на несколько переводов, в том числе на перевод поэмы Луи Арагона.
2 Шутливое прозвище И.З. Маленкович.
3 Рита – старшая внучка Анастасии Ивановны Цветаевой.
4 Полина Егоровна Шмелева.
Е.Я. Эфрон и З.М. Ширкевич
2 августа 1964
Дорогие Лиленька и Зинуша, получила Лилину открытку, из к<о-тор>ой вижу, что Скаррон мой многострадальный дошёл до вас <...>
Вчера, слава Богу, день был попрохладнее, приехала Аня на субботу и воскресенье, и мы втроём съездили на пароходике в Поленово (тут недалеко) – а оттуда до Тарусы пешком. Чтобы аппетит не гнал обратно, взяли с собой термос с чаем, бутерброды и огурцы и целый день провели на воле чудесно: побывали в старой поленовской деревушке Бёхово, где в одном из красивейших мест России стоит построенная Поленовым церковка, которую наши «антирелигиозные» чудаки пытались взорвать в целях борьбы с религией порядочно лет тому назад, но, к счастью, недовзорвали – она корнями впилась в свой исконный пейзаж и так и осталась стоять, изуродованная, но непобеждённая.
Оттуда с высокого холма поразительный вид на Оку, уходящую вдаль, и на тарусский берег. Даль и ширь чудесные. Вы, Лиленька, верно, помните эти места, Вы ведь тут бывали. Из Бёхова, зайдя на кладбище, где похоронен, неподалеку от своей церковки, Поленов, отправились в его имение, где теперь прелестный музей – прелестный, п. ч. его работники сумели сохранить почти в неприкосновенности, и это несмотря на большое кол<ичество>во посетителей, живой и жилой облик дома, всех его комнат... Мы с Аней побывали в музее, Ада ждала нас на скамеечке наруже. Оттуда самой дальней и самой очаровательной лесной дорогой (а лес – как парк, весь в «купах» деревьев – лип, берёз, клёнов, дубов – и в свежескошенных лужайках) вернулись в Тарусу; по дороге закусили, потом собрали не ахти как много грибов, не гнушаясь и сыроежками! – но попадались и подосиновики и подберёзовики – дошли до переправы через Оку, в ожидании переправы выкупались – вода тёплая... Весь этот прохладный и красивый день вы обе, мои дорогие, были со мною, и на всё смотрелось и вашими глазами... Жаль, что нельзя показать вам всё это не в мечтах, а наяву! – Пока нацарапала эти несколько строк, собралась гроза, к<отор>ая после вчерашнего прохладного дня всё бродила вокруг да около, давила и угнетала и наконец прорвалась... Сейчас громыхает, чиркает молниями, идёт весёлый дождь и воздух пахнет воздухом, а не зноем <...>
Обнимаем вас и любим, простите за вечную бессвязность и спешку.
Ваши А. и А.
Простите за следы – в окно вскочила мокрая, хоть выжми, кошка и наследила!
В.Н. Орлову и Е.В. Юнгер
12 августа 1964
Милые Владимир Николаевич и Елена Владимировна! Во первых строках своего письма выражаю Вам своё негодование по поводу того, что оба вы забыли о своём обещании хоть мимоходом и мимолётом посетить Тарусу; это непростительно! В ожидании вас она цвела всеми цветами, рассыпалась всеми ягодами, расстилалась всеми близями и далями, и т. д. А теперь, после бурного – в жаре и грозах – лета, уж небо осенью дышало, и всё уже не то, и вы уже далече. Ну, Бог с вами, отдыхайте на доброе здоровье в районе Пыльва, под крышей госпожи Мёльдре; я уже не сержусь.
Про Slavonic papers я тоже только слышала, но видеть не удалось, поэтому нахожусь в весьма трепетном состоянии: дело в том, что у мамы есть две законченных прозы о Мандельштаме (беловики утрачены, черновики у меня). Одна – в защиту (от Георгия Иванова1), а другая, увы, за упокой, т. е. разгромная, по поводу его (Манд<ель-шта>ма), когда-то (у нас) публиковавшихся, воспоминаний, где он делает робкую попытку приспособиться к «духу времени» и описывает события гражданской войны в Крыму так, как это надо было для опубликования; «за те же деньги» поливает грязью кое-кого из армии «визави», кому был многим обязан и с кем дружил2.
Обе эти вещи в разное время были мамой предложены то ли «Последним новостям», то ли ещё «кому-то». И обе остались неопубликованными. Теперь спрашивается, которая из рукописей уцелела в архиве газеты и теперь опубликована? Зная пристрастие «исследователей» по ту сторону баррикады к вещам с политическим душком, опасаюсь – как бы не «разносная»... Поживём – увидим; если что узнаю – сообщу, а если удастся добыть, то перепишем.
Подумаешь, эка беда, «Девушка из Spogeto»!3 Была бы девушка, а откуда она – не так уж важно... Говорят, кто-то, чуть ли не Светлов (ни? не? никогда не знаю, как писать, и жду орфографической реформы, чтобы войти в берега грамотности) – узнав, что Катаева приняли в партию, воскликнул: «Ничего, наша партия терпела и не такие удары!» Так и мы – терпели и не такие опечатки. Мама вспоминала, как, вместо: «Будь, младенец, Володимир!»4, напечатали: «Будь младенцем, Володимир!». (Чего, кстати, и Вам, Владимир Николаевич, желаю – на лоне эстонской природы, с августа по сентябрь. Ибо для того, чтобы хорошо отдохнуть, – будем, как дети!)
Итак, наше приокское лето катится под откос. Не запасшись достаточным зарядом инфантильности, отдохнула я неважно; при частной недвижимой (дом) и движимой (кошка) собственности какой отдых?
Ну, дорогие мои, желаю вам преотличного отдыха, грибов, черники, хорошей погоды, мира, тишины, доброго здоровья!
Ваша АЭ
' В журн. «Oxford Slavonic Papers» (1964. Vol. XI) были опубликованы воспоминания М. Цветаевой «История одного посвящения» – ответ на фельетон поэта Георгия Иванова «Китайские тени» («Последние новости» (Париж). 1930. 22 февраля), где, по словам Цветаевой, «весь Коктебель с его высоким ладом, весь Мандельштам с его высокой тоской... низведены до подвала – быта (никогда не бывшего!)».
2 А.С. подразумевает отзыв М. Цветаевой на кн. О.Э. Мандельштама «Шум времени» (Л., 1925) «Мой ответО. Мандельштаму». Впервые эта статья опубликована Е.Б. Коркиной под названием «Мой ответ Осипу Мандельштаму» в кн.: Норвичские симпозиумы по русской литературе и культуре. Т. 2: Марина Цветаева, 1892-1992 / Ред,: Е. Эткинд и С. Ельницкая. Нортфилд; Вермонт, 1992; републ.: Здесь и теперь. 1993. № 2.
3 Речь идет об опечатке в заглавии стих. А. Блока «Девушка из Spoleto» (1909, цикл «Итальянские стихи») в книге А. Блока «Лирика» (Л., 1964), составителем которой был адресат письма.
4 Строки «Будь, младенец, Володимир: // Целым миром володей!» из стих. М. Цветаевой «Чтобы край земной не вымер...» (цикл «Маяковскому») (II, 273).
Р.А. Мустафину1
2 сентября 1964
Многоуважаемый Рафаэль Ахметович, простите, что я с таким опозданием отвечаю на Ваше сердечное письмо: я уезжала из Тарусы, куда вернулась только на днях. Вообще же «зимовать» переберусь в Москву, вероятно, в октябре, и если в зимние месяцы Вы побываете в столице, то нам легко будет повидаться. Мой московский адрес – на всякий случай. Москва А-319 2-ая Аэропортовская ул. д. 16, кв. 268; тел. АД 8-71-66.
Большое спасибо за копию письма Имамутдинову; это – одно из последних маминых писем2. Очень важно, что Вам удалось его обнаружить; теперь эта копия в цветаевском архиве – благодаря Вам. Да, возможно, – будь на месте Имамутдинова другой человек, всё обернулось бы иначе – проклятое «бы»! Таким «бы» вся жизнь моей матери вымощена – особенно последние месяцы, последние дни. Страшны были те времена, расплывчато называемые «периодом культа»; сейчас нам самим, всё пережившим, кажется невероятным, что могло быть то, что было — да ещё в двадцатом веке, да ещё в гуманнейшей стране.
<...> Тотчас после моего возвращения в Москву из «мест не столь отдалённых» я начала разыскивать людей, бывших в эвакуации вместе с моей матерью. Мне кажется, я разыскала всех, или почти всех, и узнала от них всё, что они помнили. Вернее, эти розыски я начала ещё в 1947-48 годах (в этот промежуток времени я была «на воле», между заключением и ссылкой), и тогда мне удалось кое-кого разыскать и записать с их слов то, что в те годы люди ещё хорошо помнили; теперь же с тех пор прошло столько лет, что те же самые бывшие эвакуированные обо всём рассказывают иначе, забывают и путают – память им изменяет. Это естественно... Так или иначе, ни в 1947—48, ни с 1955 по сегодняшний день я не разыскала никого, кто помнил бы местонахождение могилы, хотя некоторые были на похоронах.
По роковому стечению обстоятельств большинства людей, бывших в то время в Елабуге и впоследствии знакомых с моим братом, уже нет в живых; так, скажем, нет в живых молодого литератора Алексея Кочеткова3, знавшего мою мать в Москве, эвакуировавшегося одновременно, или почти, с нею, и потом вместе с моим братом перебравшегося в Ташкент; его свидетельство было бы бесценным... А среди живых свидетелей немало, увы, и фантазёров, рассказывающих басни и, вольно или невольно, искажающих истину.
Сестре моей матери, Анастасии Ивановне, ездившей в Елабугу года два-три тому назад, могилу разыскать не удалось. Так же, как и Вам, ей удалось побывать у своей тёзки, квартирной хозяйки моей матери4, но ничего толкового о местонахождении могилы она не узнала от неё. Ничего не узнала и в милиции – как Вам известно, архивы не сохранились; кладбищенского сторожа, при котором происходили похороны, уже не было в живых; моя тётка говорила с его женой, к<отор>ая смогла лишь указать сторону кладбища, на которой хоронили умерших в 1941 г. Исходя из этого указания А<настасия> И<вановна> поставила крест в той стороне, м. б. и в том ряду, где могла бы находиться могила; но всё это недостоверно.
Вы спрашиваете меня, не хотела бы я приехать в Елабугу? О нет, я этого не хочу. У меня просто ужас перед Елабугой, насколько меня тянет к тем местам, где мама жила, настолько сильно моё оттолкно-вение от места, где она погибла жертвой несказанного человеческого равнодушия, жестокости, трусости. Короче, сама Елабугатутни при чём, равнодушие, жестокость и трусость преследовали маму давно и лишь в Елабуге добили её, как могли бы добить в любом другом месте, но тем не менее именно этот городок на Каме был местом её смерти, с которой я никогда не смогу свыкнуться и смириться. Конечно, будь бы могила – тот уголок, который оставшиеся в живых могут украшать, над которым могут плакать, – я бы приехала и приезжала; но там ведь только кладбище, где она затерялась; не только «душу живу», но и прах её не смогли сохранить люди. Что люди, когда мне и самой не было это дано судьбой – тем самым Роком!
Тем не менее сердечная Вам благодарность за предложение приехать, за предложение помощи, м. б. когда-нибудь смирюсь духом и приеду. А пока – нет.
<...> Всего Вам самого доброго, спасибо Вам за внимание и участие, за живой и сердечный отклик.
<А.Э.>
' Рафаэль Ахметович Мустафин (р. 1931) – литературовед, критик, в то время ответственный секретарь СП Татарии. 5.X.1964 г. А.С. написала Е.Я. Эфрон и
З.М. Ширкевич: «Вчера у нас в гостях оказались два татарина, писателя из Казани, один из них молодой, секретарь Союза писателей, с к<отор>ым я переписывалась по поводу елабужских дел. Он (по своему почину) пытался разыскать людей, бывших с мамой в эвакуации – или местных жителей, могущих уточнить местонахождение могилы, но пока установить ничего не удалось. Во всяком случае они, татарские литераторы, покрасили крест, поставленный Асей, и привели в порядок “условную” могилу... <...> Очень хорошее трогательное впечатление произвели татары...»
Впоследствии Р.А. Мустафин опубликовал очерк «За перегородкой. О последних днях Марины Цветаевой» (Литературное обозрение. 1989. № 7).
2 А.С. получила копию открытки матери к председателю Правления СП Татарии Туфану Имамутдинову, датируемую по почтовому штемпелю: 18 августа 1941 г. Однако, как пишет Р.А. Мустафин, в 1964 г. адресат отчетливо помнил, что он получил от М.И. Цветаевой два письма с просьбой помочь ей устроиться на работу. «Первое письмо, опущенное, очевидно, с дороги, сдержанное, а второе было написано в отчаянных тонах». В делах СП Мустафину удалось найти только первую открытку.
3 Речь идет, по всей вероятности, об Александре Сергеевиче Кочеткове (1900-1953) – переводчике, поэте «черкизовского круга», к которому принадлежали С.В. Шервинский, Л.В. Горнунг и ближайший друг А.С. Кочеткова В.А. Меркурьева. Кочетков и Меркурьева состояли в 1940-1941 гг. в переписке с М. Цветаевой, с 12 по 24 июля 1941 г. она гостила у супругов Кочетковых и Меркурьевой в Старках, под Москвой.
4 Анастасии Ивановны Бродельщиковой.
В. Н. Орлову
7 сентября 1964
Милый Владимир Николаевич, не успела отправить Вам открытку, как получила письмо – спасибо, что и на отдыхе не забываете, когда всё и вся обязательно должно с глаз долой и из сердца вон, иначе – не отдых, а морока. Радио вещает хорошую погоду в Прибалтике, радуюсь за вас обоих и за всю солнцем не избалованную Прибалтику. О грибах же, даже «балтийских», и слышать не хочу: свои, тарусские, надоели. Собирать их, правда, увлекательно, но чистить, готовить и, главное, есть – совсем-совсем не хочется. После отвратного похолодания погода смилостивилась и над нами, нас взял в объятия какой-то добрый антициклон, правда, туманный и пасмурноватый и не сулящий постоянства; но в сентябре – каждое даяние благо и каждый день благословен есть. Особенно когда разъехались дачники и школьники, что сейчас же вызвало на тарусской земле мир, и в небесах благоволение, и категорическое понижение цен на рынке: то, бывало, и «курочки ня нясуцца» и «коровки ня доюцца», а с 1-го сентября всё сразу занеслось и задоилось, как при коммунизме.
А вообще-то надоел допетровский быт, хоть и радуют допетровские пейзажи.
Если в ваших краях пойдёт фильм «Звонок почтальона»1 (англ.) – обязательно посмотрите. Это так же смешно, как немые фильмы нашего детства, и чудесно проветривает голову. Я уже годы как не смотрю ничего проблемного и ничего военного. Читать – читаю; так, на днях, Манделыптамша2, под страшным секретом, дала мне читать свои воспоминания3. Сплошной мрак, всё – под знаком смерти; а когда так пишут, то и жизнь не встаёт. Как бы ни была глубоко трагична жизнь 0<сипа> Э<мильевича>, но ведь она была жизнью — до последнего вздоха. В её же воспоминаниях (Над<ежды> Як<овлев>ны), в её трактовке основное – обстоятельства пути человека, а не сам этот путь, как бы он ни был сродни Голгофе. А ведь в жизни истинного поэта «обстоятельств» нет, есть Рок, под них подделывающийся. Воспоминания же – обстоятельно-обстоятельственны, и от этого – мутит. Впрочем, написано неплохо, она умна и владеет пером, но... «чему это учит»?
Письмецо это будет отправлено из Москвы, и, авось, скоро до Вас дойдёт, застанет Вас – и, даст Бог, в солнечные дни!
Всего Вам обоим самого лучшего и самого доброго. До свидания!
Ваша АЭ
' Фильм английского режиссера Роберта Линна. В СССР он шел под названием «Стук почтальона».
2 Н.Я. Мандельштам.
3 Речь идет о тогда еще не опубликованных воспоминаниях Н.Я. Мандельштам. Впервые опубл.: Мандельштам Н.Я. Воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1970.
Е.Я. Эфрон
24 сентября 1964
Дорогая Лиленька, получила Ваше письмо с описанием (протяжённых) именин <...>
Насчёт маминой «Истории одного посвящения»: думаю, что начало Вам показалось растянутым потому, что у вещи нет конца, таким образом утрачено равновесие и соотношение частей. Я, кажется, говорила Вам, что экземпляр долгожданного зарубежного журнала, в к<отор>ом это опубликовано и с к<отор>го Аня в Ле-н<инской> библ<иотеке> сначала переписывала от руки, а потом перепечатывала, оказался дефектным, при брошюровке выпало
8 страниц, т. е. конец маминой прозы. Конец – это Коктебель – Макс и Пра и, конечно же, Мандельштам; именно в конце раскрывается суть веши – защита Мандельштама (и Коктебеля) от домыслов некоего Георгия Иванова, эмигр<антского> поэта, опубликовавшего в 30-е годы в Париже пошлые и абсолютно недостоверные воспоминания о Мандельштаме. «Приятельница, уезжавшая за море» (начало вещи) – Елена Александровна Извольская1, действительно – мамина приятельница по Медону2; женщина конского роста и наружности, впрочем, милая, порядочная; дочь русского посла в Германии «в окрестностях» первой мировой войны; литератор, переводчик, написала (по-фр<анцузски>) книгу о Бакунине3. Было ей в ту пору за сорок, была она не замужем, жила со старой изящной мамой-француженкой и собачкой Маруфом. И вдруг получает письмо из Японии, из Нагасаки, от некоего, не без причин эмигрировавшего, барона, с к<отор>ым на заре туманной юности танцевала на посольских балах. Барон не женат, он одинок, он тоскует на чужбине без родной души, он помнит и хранит в сердце своём ту юную девушку – короче говоря, он предлагает ей это самое сердце и руку, оплачивает проезд в Нагасаки ей и её маме (но не собачке Мару-фу)... и безумная даёт согласие, и едет в Японию, и становится женой отвратительного типа, и клянёт всё на свете, и разводится с ним, и возвращается в Медон, к разбитому корыту. И вот, перед отъездом в Японию, она жгла бумаги, а мама отбирала белые листы, тетради и альбомы... часть из них, послуживших ей для черновиков и беловиков, уцелела в её архиве, который Вы сохранили...
Какие опять вернулись чудесные дни! Мы с Адой забросили все дела и два дня подряд догоняли лето, ходили далеко в лес за грибами (грибы – предлог, а главное – прогулки!). Шли берёзовыми рощами, и осиновыми лесами, и оврагами, и лугами, и просеками, и полянами, и вырубками – небо было в лиловатой знойной дымке и дали дрожали и колебались в дрожащем и колеблющемся тёплом воздухе; в хвойных лесах пахло апельсином, а в лиственных – ладаном. На опушках всё ещё попадались грибы разных возрастов и пород; сегодня объединёнными усилиями нашли даже 6 белых – и собрали две корзинки подосиновиков и подберёзовиков. Собирать их – весело и увлекательно, а вот чистить до того нудно, что мутить начинает и носом клюёшь. (Часть сушим – и поделимся!)
Сегодня вечером слушали по радио поразительную «Богему» в исполнении миланцев. Говорят, что это лучший их спектакль, и правду говорят: давно не слышала такой музыкальной музыки!
Крепко обнимаем. Ада очень огорчена, что её телеграмма, посланная накануне вечером, с просьбой отправить утром 18-го, дошла до Вас так поздно!
Ваша Аля
Ваша роза всё цветёт! И ещё цветут гладиолусы, космеи, астры, настурции, шалфей, табак, красные бобы, георгины – и разные жёлтые осенние.
1Елена Александровна Извольская (1897-1975) – поэтесса, переводчица. Ее отец Александр Петрович Извольский (1856-1919) – государственный деятель, дипломат, занимал ряд дипломатических постов в разных странах, в т. ч. и в Германии (в Мюнхене). Об Извольской 1 января 1932 г. М. Цветаева пишет А. Тесковой: «Единственный человек, которого я здесь полюбила, который меня во Франции по– настоящему полюбил, была Елена Александровна Извольская...» (VI, 398). Извольской написаны воспоминания о М. Цветаевой «Тень на стенах» и «Поэт обреченности».
2 Мёдон – юго-западный пригород Парижа, где семья М.И. Цветаевой жила с весны 1927 г. до конца марта 1932 г.
3 См.: Helene Isvolsky. La vie de Bakounin. Paris, 1930.
А.А. Саакянц
14 января 1965
Прелестный Саакянц!
Я сражена
Сим проявленьем дружбы без примера...
Вам самому не более нужна Поэзия великого Мольера,
Чем фижмы – волку, соловью – тромбон,
Чем талье – прибавление в объёме!
Но если терпит бедствие Эфрон,
Наш верный Саакянц – уже на стрёме.
Сколь дивно встретить на своём пути Соратника, соавтора, собрата,








