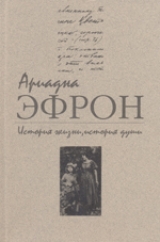
Текст книги "История жизни, история души. Том 2"
Автор книги: Ариадна Эфрон
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Слово, обронённое ею однажды, постоянно (в последние годы особенно!) стучит в сердце моём и на сердце моём – как пепел Клааса: – друг – есть действие. Что же к этому добавишь, милый мой, наш, друг'.
Воображаю, как трудно было тёткам в эту нестерпимую жару, и какое счастье, что ты сумела перетащить их в Болшево, где помогают им и стены, и сосны, и воздух, и многолетне-привычный кусочек природы. Слава Богу, теперь попрохладнело; что до меня, то я еле-еле перетащилась через это жаркое душное лето; м. б. хоть осенью удастся как-то отдышаться и надышаться в преддверии всегда теперь трудной зимы. На днях ездила в Москву за пенсией, думала, как в недавно-бывшие времена, завернуть в Болшево – куда там; сил нет. Куда они девались?? Еле приволоклась обратно, забыв купить то, что должна была, всё забыв! – с головой набитой свинцовым туманом. Теперь полегче, да и похолодало, слава Богу. За всё лето перевела (да и то недоперевела) 2 стихотворения Готье из 15 возможных, так что у меня, как и у тебя, сплошные недоразумения вместо договора (вернее – выполнения его) – но с менее вескими, чем у тебя, причинами.
Я позволила себе вытащить тебя к Ане потому, что речь о деле важном для мамы и для меня, и от твоего решения зависит то, как оно повернётся, как мы его повернём. Уверена, что твоё, именно твоё решение будет правильным – так и сделаем.
Присылаемая денежка – тёткам на гостинчик, купи им что-нибудь не только необходимое, но и приятное из еды, так, как это сделала бы сама, если бы смогла приехать. Но Бог даст, смогу приехать в сентябре, авось сил прибавится.
Крепко обнимаю тебя и люблю.
Твоя АЭ
Е.Я. Эфрон и З.М. Ширкевич
31 августа 1970
Дорогие мои Лиленька и Зинуша, простите мне столь долгие промежутки между моими столь редкими письмами, вдуше-тоя не прекращаю своего с вами постоянного разговора обо всём, всём, всём, а на самом деле не успеваю и открытки написать! Не сердитесь на меня за это, я действительно всё время с вами и всё ваше разделяю, как и вы – всё моё. У меня тут был суматошный и странный месяц, в течение которого кто только тут не перебывал и не перегостил! <...> И от прошедшего августа в памяти остались в основном лишь сдвигаемые и раздвигаемые столы, вытрясаемые половики, горы посуды, тазы винегретов, звон разговоров в ушах; сперва были просто визиты, потом начались визиты прощальные – сентябрь на носу, дети в школу собирайтесь; в антрактах перепадали ещё и чьи-то именины, и детские «самодеятельные» спектакли; последнее, кстати, бывало очень мило, чисто, непринуждённо, первозданно, трогательно; и к тому же непродолжительно. Очень хороши привязанные бороды на круглых, румяных, безмятежных лицах! и «девичьи» косы, сплетённые из трёх капроновых чулок! и «принцы» в резиновых сапогах! и «принцессы» в скатертях и занавесках! и «любовные» диалоги, выпаливаемые «наизусть», как таблица умножения, с вытаращенными, такими ясными, такими телячьими глазами! – и вдруг среди всего этого примитива – злая, острая, губительная искра настоящего таланта! вдруг, среди всех этих ряженых фигурок, – настоящая Психея – самая маленькая и непримечательная из девчонок, не примеряющая роль, как материнскую шляпу, а – рождённая для неё, а значит, рождённая для бурь, страстей и страданий, обречённая быть иной, не приживающейся в, не сживающейся с; и всё же, всегда, неизменно, несущей радость и свет...
Я рада, что стало попрохладней, и что солнце подобрело, светит и греет между туч, и что многие дачники поразъехались и стало тише и м. б. чуть просторнее во времени; м. б. успею ещё поработать, чего не успела из-за жары, многолюдья, усталости и прочего подобного. <...>
Крепко обнимаю и люблю всех троих, очень жду мало-мальской открыточки. Будьте, главное, здоровы по мере возможности – и я тоже стараюсь!
Ваша Аля
Е.Я. Эфрон
1 сентября 1970
Дорогая Лиленька, Ваша открытка уже дошла и уже пишу ответ! Как я рада Вашему почерку и Вашим словам! Вчера, в мамину годовщину, впервые за это лето выбралась в лес – там всё вспоминается глубже, отрешённее, отвлечённее от наносного; была чудная тихая погода – как раз по нашим с Вами силам! – и прохладно, и дошла я и туда и обратно довольно легко; в лесу ещё почти не осень, зелено и тишина кафедральная; и даже грибы попадаются, которые мы с мамой – да и папа тоже любил – с таким азартом собирали в лесах моего детства; и – маленькое чудо: только подумала, что вот, мол, только подосиновики попадаются, а хорошо бы белый – как вдруг с неба к моим ногам – шапочка белого гриба! – подымаю голову – белочка сидит, поделилась со мной! Поблагодарила её и пошла дальше... Руф-кин визит тронул и обрадовал, но до сих пор ужасаюсь, что уехала от меня голодной. Обнимаю всех троих. Ада тоже.
Ваша Аля
Е.Я. Эфрон
Дорогая моя Лиленька, спасибо за такое большое и чудесное письмо! Как я рада, что Вы смогли написать его и сумели столько в него вложить! И что почерк Ваш стал настолько твёрже! Значит, тьфу-тьфу не сглазить, чувствуете себя хотя бы чуть лучше; и я тоже; нам, Эфронам, всегда осень помогает, наш сентябрь, когда спадает жара и добреет солнце!
Тут у нас стояли дни ласковости и красоты несказанной и, пожалуй, впервые после весны по-настоящему тихие; только когда наступила эта осенняя тишина, понимаешь – сколько же было лишнего шума от лишних людей с их моторами лодочными и автомобильными, с их транзисторами – да и просто голосами, тоже какими-то одинаковыми, стандартизированными; правда, всё это вместе взятое доносилось до нас весьма приглушённо, смягчённое и приглушённое деревьями, что с каждым годом разрастаются всё гуще, – и расстоянием между источниками человеческого шума и нашим восприятием его. Правда, в выходные дни наезжают «грибники» и основательно опустошают прелестные наши леса; но теперь это тревожит меня не больше, чем очереди в отдаленных от меня универмагах! Я этого не вижу и с этим не сталкиваюсь, и – слава Богу!
Цветы наши ещё радуются и нас радуют до первых заморозков; стоят гладиолусы самые разные, ярко цветут георгины – жёлтые, белые, алые, – и клумба красных сальвий (садового шалфея); и астры; а, казалось бы, дотла сожжённые засухой, несмотря на поливку, настурции опять дали новые листья и даже новые цветы – их немного, и поэтому они особенно хороши!
Получила я большое письмо от Орлова, которого выжили и выжали всё же из Библиотеки поэта, несмотря на всю его приживаемость и обтекаемость (профессиональные!) и несмотря на профессиональное же его умение сосуществовать со временем и лавировать между вечно несытыми волками и не вполне доеденными овцами нашей родной литературы. Кому-то здорово встал он поперёк горла; непосредственной причиной его ухода оказалась та самая книга, к которой и Руфь руку приложила1, – придрались к хвалебному отзыву (во вступительной статье) – о пастернаковских переводах2 – почему?? Слава Богу, хоть предоставили возможность «уйти по собственному желанию». Как и Твардовскому3. Так что великое спасибо судьбе и добрым людям, что вышла-таки в свет та самая большая цветаевская книга, которую Вы сейчас держите в руках; и Орлов не даром ел свой редакторский хлеб, сумев и успев подарить читателям несколько самых настоящих книг, из которых наша, пожалуй, наинастоящейшая и наиважнейшая...
Непременно постараюсь выбраться к Вам в течение сентября, но не знаю ещё когда – вряд ли получится в наши с Вами дни, но это ведь совсем неважно; когда соберёмся вместе, тогда и будут наши именины и дни рожденья, наш общий праздник. Пока же крепко обнимаю всех троих, люблю вас и помню всегда. Ада крепко целует вас всех.
Ваша Аля
' РБ. Вальбе вместе с Р.А. Шацевой и Л.С. Шевелевой была составительницей сборника «Ленин в советской поэзии», вышедшего в Большой серии «Библиотеки поэта» в 1970 г. со вступительной статьей С.В. Владимирова.
2 В приказе директора издательства «Советский писатель» Н. Лесючевско-го от 25 мая 1970 г. сказано: «Особенно серьезной ошибкой является причисление к классическим произведениям Ленинианы эпилога поэмы Бориса Пастернака “Высокая болезнь”... которая заканчивается строками политически неприемлемыми» («Предвестьем льгот / Приходит гений, / И гнетом мстит / За свой уход...» – Р.В.).
3 В 1970 г. А.Т. Твардовский ушел «по собственному желанию» с поста главного редактора «Нового мира», когда против его воли были отстранены от работы в редколлегии его сотрудники-единомышленники и назначены люди, с которыми он заведомо не мог работать.
Р.Б. Вальве
27 июня 1971
Очень всё грустно, дорогая моя Руфинька! Сколько мук и страданий – за что, за-что! – людям, и так уже исстрадавшимся и измученным!1 И сколько же тягот и тяжестей неподъёмных вновь навалилось на тебя; впрочем, они никогда с тебя и не сваливаются, ты всегда под грузом – тем или иным – и всегда непереносимым! Бедная Лиля, бедная Зина – за что им все эти испытания на старости лет, и за что – тебе, в твои самые яркие годы! На всё это нет слов, одни невыразимые болевые чувства и сочувствия, которые ни к чему, когда надо дело делать и помогать; а не «сочувствовать» издалека. Но я сама стала – за такой короткий срок – такой старой рухлядью, так разваливаюсь на составные части, что оторопь берёт; уж и нос увяз и хвост увяз – одновременно... И так-то уже больше ничего не нужно в жизни, кроме покоя, передышки, которых негде взять, ибо не стало покоя и равновесия внутри себя, а ведь извне они, по сути дела, никогда не приходили и не придут... С твоим письмом о том, что Лилина болезнь протекает так тяжело, померкло и обессмыслилось и то, что ещё как-то скрашивало жизнь – кусочек природы, видимой мне. Как всё печально, Боже мой...
<...> Для того, чтобы работать самой так, как «спланировала» на это лето, надо на что-то надёжное опереться внутри себя, хочу верить, что удастся, что это самое «надёжное» не раскрошилось по мелочам; оно ведь тратится, не лежит неприкосновенным запасом до востребования...
Крепко обнимаю тебя, Малыш мой дорогой, наш верный друг, наш последний верблюд в этой жизни, становящейся такой пустыней, такой-такой Сахарой!
Главное, что нельзя, недопустимо тебе быть верблюдом, никогда не доделывать своих дел во имя чужих, потому что, поверь мне, – в жизни остаётся лишь то, что ты совершил своего, тебе заданного; чужие дела рассыпаются в прах...
Надеюсь всё же, что Лиле стало полегче, а с ней – и всем вам, всем нам!
Целую
Твоя А.Э.
1 Тяжело заболела Е.Я. Эфрон.
В.Н. Орлову
12 июля 1971
Дорогой друг Владимир Николаевич, теперь Вы, наверное, уже восвоясях после писательского съезда1 и всего, с ним связанного, им связанного и развязанного. С не очень живым интересом прочла в «Литературке» выступление Грибачёва, «прославившее» вас обоих2, но в разных высотах; интерес мой был не жив, а полумёртв, ибо «нового» в нём (выступлении) было лишь повторение пройденного («окрик и охлест»3), – что само по себе старо, как мир. От этого, конечно, не легче; когда ни «охлёстывай» – всё больно... Вообще же были и довольно «живые» выступления, о к<отор>ых опять же могу судить лишь по газете; однако читаешь это всё и думаешь себе: какое отношение всё это может иметь к литературе как таковой, к просто-напросто ХОРОШИМ КНИГАМ?
Представляю себе преотлично Ваше состояние и самочувствие; на своём опыте знаю: чем больше обрастаем мы мозолями, чем дуб-лёней становится шкура, тем мы чувствительней, обожжённей и... обнажённей там, внутри. Так, очевидно, оно и должно быть.
Вы только должны всегда помнить, что за Вас – Ваши дела, Ваши труды... и Ваши друзья, к<отор>ых куда больше, чем можете себе представить: те безвестные друзья, ради которых книги писаны и... изданы. Читатели.
<... > Сейчас, после долгих дождей, – солнце, небо в летних весёлых облаках и душа проветривается и радуется. Дай Бог и Вам ясного неба, светлой погоды, «терпения и любве» – друг к другу – и к друзьям, которые есть – и будут!
Крепко обнимаю Вас!
Ваша АЭ
I
’ С 29 июня по 2 июля 1971 г. в Большом Кремлевском дворце проходил Пятый съезд писателей СССР.
2 «Литературная газета» от 1 июля 1971 г. опубликовала выступление на съезде поэта Н. Грибачева, где он упрекал литературную критику за субъективизм и недостаточную идейность, резко критиковал статьи В.Н. Орлова «Подлинная поэзия» и «Стихи как стихи» (см.: Литературная газета. 1971.23 июня) за то, что в его «обойме» поэтических имен нашлось место для Б. Ахмадулиной и А. Вознесенского и не нашлось «для гражданской поэзии М. Дудина и В. Федорова».
3 Ср. стих. 1923 г. М. Цветаевой «Не надо ее окликать: / Ей оклик – что охлест...» (II, 161).
Е.Я. Эфрон и З.М. Ширкевич
16 июля 1971
Мои самые дорогие, как-то вам живётся-можется? Всегда, всегда думаю о вас, и чувствую вас рядом, и наравне с вами радуюсь солнцу и прохладе, страдаю от духоты, и скучаю от дождя, и радуюсь каждому раскрывшемуся цветку и птичьему щебету, радуюсь всему прекрасному, чего всегда так много вокруг, при любых обстоятельствах, если умеешь не только смотреть, но и видеть... Последние дни стоит особенно приятная погода, облачная, солнечная, прохладная, легче дышать и ходить. Со мной Лена', с к<отор>ой живётся спокойно и гармонично; понемножку хозяйничаем сообща, работаем каждая своё. Три раза знакомые катали нас на машине по прелестным здешним окрестностям, Россия просторна и прекрасна до печали, ибо ощущаешь и вечность и проходящесть природы, земли и самих себя на ней...
Ваша Аля
Крепко обнимаю и люблю, Лена шлёт привет, Ада, пока что всем довольная, целует вас из Закарпатья.
' Елена Баурджановна Коркина, тогда студентка второго курса Литературного института им. Горького. Вместе с А.С. готовила передачу архива М. Цветаевой в ЦГАЛИ СССР. В 1978-1983 гг. составила научное описание архива. Защитила канд. диссертацию «Поэмы Цветаевой». Составитель, текстолог, комментатор и автор предисловий к ряду изданий произведений М.И. Цветаевой, в т. ч. к кн.: Цветаева М. Стихотворения и поэмы. Л.: Большая серия «Библиотеки поэта», 1990 и Цветаева М. Поэмы 1920-1927. СПб., 1994. Неизданное. Сводные тетради (Вместе с И.Д. Шевеленко). М., 1997; Неизданное. Семья: история в письмах. М., 1999; Неизданное. Записные книжки. В 2 т. (Вместе с М.Г. Крутиковой). М., 2000-2001; Эфрон Г. Дневники: В 2 т. (Вместес В.Д. Лос-ской). М., 2004.
Е.Я. Эфрон, З.М. Ширкевич и Р.Б. Вальбе
8 августа 1971
Дорогие мои, опять вы подозрительно притихли – или это от жары, которая меня здесь донимает, ибо – грозовая, а я этого «не вы-терпляю!». Но радуюсь солнцу, как ещё одному «дню рождения» – и собственному, и всего вокруг, вернее – каждому солнечному дню, как дню рождения, радуюсь. И небу с крутыми облаками, и земле с доверчивыми красками, и этому нежнейшему трепету листвы, и запахам – вянущей травы и цветов в апогее! Надеюсь, что и вы этому так же радуетесь, ведь мы с вами давно – одна душа (в трёх сосудах скудельных, не считая Руфи, к<отор>ая не скудельная, для разнообразия!). Обнимаю крепко и люблю!
Ваша Аля
В.Н. Орлову
26 августа 1971
Милый Владимир Николаевич, даже не могу сказать, что рада наконец состоявшейся встрече Вашей с поэмой1 – грустно подумать, сколько времени прошло, прежде чем она попала в Ваши руки! Радость же – чувство непосредственное и внезапное, типа «сказано-сде-лано», и даже без «сказано»! – ничего не имеющее общего с этим грузовым и подъярёмным «слава Богу», которое мы выдыхаем, чего-то добившись, чего-то дождавшись. Что говорить – самые наипростейшие радости, и те – в наши годы – чересчур уж медленно поспешают нам навстречу! Зато мимо – быстро!
Тем не менее однако – хорошо, что Вы с ней (поэмой) встретились ещё в относительном покое «дачи» – ещё не в суете сует города – хотя город Ваш строг и строен и, вероятно, в какой-то степени организует на свой лад жизнь обитающих в нём. Конечно, в поэму, как и во всё цветаевское, что после России, надо вчитываться, просто прочесть нельзя; вчитываться и даже вживаться. Что особенно затрудняет и даже искажает читательское понимание цветаевского творчества – это его абсолютная автобиографичность – или биографичность, если речь не о себе (нет, по сути, всегда автобиографичность!) – в то время, как биография М<арины> Ц<ветаевой> – абсолютная, и надолго, – terra incognita для читателя. (Это я, конечно, не о Вас, Вы-то многое знаете и чуете) Данная поэма и биографична (по фактам),
и автобиографична по светлому, романтическому восприятию авторскому этих фактов. Также и биографична и автобиографична мнимая незавершённость поэмы: на Перекопе происходит настоящий и окончательный разрыв (внутренний) героя поэмы с делом, к<оторо>-му он служил (служит ещё – по долгу службы!) – нарастание этого разрыва, нарастание чувства правоты «врага» великолепно дано в поэме, хотя и в четверть голоса, почти неслышно, как оно и бывает в душе, когда – назревает! Герой выходит из образа Георгия-Победо-носца, из «Лебединого стана», разромантизируется (хоть последующее его служение тоже может быть названо романтическим, но – не должно! Тут – шаг из романтики в героику...) – а поэма посвящена именно Георгию в образе человеческом, вернее – земном. «Сочинять» Георгия дальше – МЦ не могла, писать то, для чего сама внутренне не созрела, – не хотела. Поэма эта – прощание автора с «Лебединым станом», последняя утрата последних «лебединых» иллюзий129129
А.С. послала В.Н. Орлову поэму М. Цветаевой «Перекоп», вышедшую в журн. «Воздушные пути» (Нью-Йорк. 1967. № 5).
[Закрыть]130130
М. Цветаева датировала поэму «Перекоп»: «начато 1-го августа 1928 г., в Понтийяке – 15-го мая, 1929, в Медоне кончено». Посвящение «Моему дорогому и вечному добровольцу» – адресовано С.Я. Эфрону.
[Закрыть]. Именно в этот период С<ергей> Э<фрон> стал тем, кем он и погиб. – Что же можно по-настоящему понять в «Перекопе», не зная всего этого и многого-многого другого? Да ничего вглубь, только по поверхности, и лишь по поверхности поэма выглядит незавершённой. На самом деле это – точка, поставленная не только автором – самой судьбой. Дальше – всё иное, фактически – всё наоборот.
Относительно комиссии я, кажется, писала Вам? Неужели только «в уме»? Мало же его у меня остаётся в таком случае! Предполагаемых новых членов131131
В связи с тем, что в 1967 г. умерли И.Г. Эренбург и А.Н. Макаров, В.Н. Орлов предложил ввести в состав цветаевской комиссии П.Г. Антокольского, А.А. Михайлова, В.Ф. Огнева и, может быть, А.А. Тарковского и В.П. Катаева. Орлов писал Антокольскому 20 июля 1971 г.: «Практически комиссию следует возродить, имея в виду, что в сентябре 1972 г. будет 80 лет со дня рождения Марины Цветаевой и нужно постараться пробить в Гослите ее 3-томник (стихи и поэмы, театр, проза, некоторые письма)» (Вильнюс. Б-ка АН Литовской Республики. Ф. 324 (П.Г. Антокольского)). Этот план не был осуществлен.
[Закрыть] я не знаю совсем, поэтому собственного мнения не имею на их счет. По-прежнему кажется неправомерным отсутствие какого-нб. дельного, деятельного и достаточно авторитетного писательского или поэтического имени. <... > Вряд ли эта упряжка что-нб. сдвинет с места... Немускулиста. На сём пока закругляюсь – доброй вам обоим осени и не только её!
Ваша АЭ
В.Н. Орлову
16 января 1972
Да, милый друг Владимир Николаевич, перед такой бедой1 все на свете слова – сочувствия и утешения – бессильны ещё более, чем медицина; тут просто цепенеешь внутренне, вот и я оцепенела, представив себе этот ужас.
По-разному любишь в разные годы своей жизни; любишь, потому что любят тебя; любишь, потому, что любишь ты; варианты бесконечны, пока – с возрастом души и с опытом потерь не доходишь до наивысшей точки любви: когда тебе, для себя, ничего не нужно, кроме одного: чтобы тот, кого ты любишь, – жил, дышал, был; пусть где-то, а не рядом, пусть с кем-то, а не с тобой; только бы билось это сердце на земле; больше ничего, ничего не надо. И тут приходит смерть и останавливает это сердце и обрывает это дыхание, а ты остаёшься бессмысленным соляным столпом, наполненным остолбеневшей болью.
Что скажешь, что скажешь! Для меня смерть – какое-то средневековье. Пришла чума и унесла ребёнка. Средневековье минус Бог; тогда хоть божий промысел объяснял необъяснимое и утешал в неутешном.
Бедная, бедная Катя; бедная бабушка; бедные родители; беда, беда, беда...
Представляю себе, каково Елене Владимировне – какой трухой кажется ей жизнь, какой жвачкой – роли, какой суетой – окружающий мир. Хорошо, что Вы рядом – человек-сердце, человек-плечо. Вы поможете там, где нельзя помочь, в том, чему нельзя помочь. Потому что такое горе можно оттаять и растопить только любовью и в любви.
Что сказать о себе? Я ещё не поправилась, только боли стали глуше; начали исследовать; исследования и врачи (литфондовские) баснословно напоминают воспетых Мольером – минус парики и плюс антибиотики, тот же «орвьетан» от всех болезней2. От всего этого исчахла окончательно и обессилела; ничего не могу делать; заставить себя делать; спала бы и спала... Не на что опереться внутри себя: слабость – не опора. Ну, авось всё это пройдёт; а нет – значит нет. До сих пор не знаю, что Вам сказали настоящие врачи по поводу Ваших спазмов и действительно ли это – спазмы сосудов гол<овного> мозга?? Ну, приедете, авось повидаемся и обо всём поговорим. Только не приезжайте, пока не установится в Москве сносная погода. Пока стоят жуткие холода – не по нашим с Вами сосудам скудельным. А Вам сейчас болеть нельзя.
От всего сердца обнимаю вас обоих.
ВашаАЭ
' Речь идет о смерти внучки Е В. Юнгер.
2 В пьесе Мольера «Любовь – целительница» – шарлатанское снадобье, «излечивающее все болезни».
В. Н. Орлову
17 февраля 1972
Милый друг Владимир Николаевич, и тут такое же низкое, давящее небо, превращающее тоску душевную в чисто физическое и совершенно нестерпимое состояние. Впрочем, в последнее время никакое небо нам не помогает – потому, что мы вошли в душевный возраст утрат невосполнимых; и себя утрачиваем – тоже.
В книге А.И.1 главный недостаток тот, что пишет она о сестре в физическом, а не в духовном измерении; а Марина вся, всегда, с пелёнок и до конца, была поэтом. Особость её, отличность от других в этом и заключалась, иначе она была бы просто «тяжёлым характером» среди иных тяжёлых характеров.
В книге воспоминаний Ася всё время незримо, подспудно, и м. б. неосознанно, соревнуется с Мариной, выправляет её - собою, её непримиримость, единственность, её творческую и человеческую личность, наконец, – собственной всеядностью и легкорастворимостью во всём и вся (есть такой сахар, быстрорастворимый). В книге смещены и засахарены линии: Марина – и её мать; Марина – и Валерия; и вообще: Марина – и все остальные; шекспировское,роковое начя-
ло в семье – каким-то шеридановским; нет! – на грани с Чарской!2 Если бы всё это было написано в те годы, о к<отор>ых речь, то ещё туда-сюда; но сейчас, когда жизнь прожита и этим самым дана возможность широкого охвата, глубокого подхода, писать без проекции Марины состоявшейся на Марину в процессе становления, пожалуй, не стоило бы. «Ребёнок, обречённый быть поэтом»3 – так звала себя, маленькую, Марина. А у Аси получился поэт, автором обречённый быть – последовательно – только ребёнком, подростком и т. д. Творчество – пристяжное.
Что до Асиной изобразительности, вначале обрадовавшей меня, то вскоре она начала раздражать, ибо превратилась в уравниловку изображаемого.
Но что говорить: написать про Марину мог бы некто ей равнозначащий – такого пока (или уже) – нет; или – гётевский секретарь (фамилия мгновенно выскочила из головы! вспомнила: Эккерман!4), то есть бесстрастно записывающий «с натуры» без выпирающего собственного «я», причём чем ничтожнее это «я» (пишущего), тем, как ни парадоксально, – больше затеняет, искажает, подменяет собою того, о к<отор>ом пишет. (Это я уже не об Асе...)
То, что я сейчас пишу «в журн<альном> варианте»5, – плохо. а) я нсумею писать; Ь) не справляюсь с материалом, не умею его организовать, соблюсти соотношение между Мариной и окружающим, окружением, обстоятельствами и т. д. Материала у меня слишком много! А меня самой – слишком мало...
Заедает быт, заботы, болезни. И то, что от обоих родителей я унаследовала только недостатки, – ни одного качества.
Не досадуйте на невнятицу и абракадабру; Вы во всём разберётесь... Сил, здоровья и высокого неба над головой Вам и Елене Владимировне! Обнимаю обоих.
ВашаАЭ
’ Цветаева А.И. Воспоминания. М., 1971.
2 Лидия Алексеевна Чарская (1875-1937) – писательница, автор сентиментальных повестей для юношества.
3 См. стих. М. Цветаевой «Поколенью с сиренью...»: «Вы – ребенку, поэтом / Обреченному быть...» (II, 332).
4Иоганн-Петер Эккерман (1792-1854) – автор книги «Разговоры с Гёте в последние дни его жизни».
5 А С. готовила для ленинградского журнала «Звезда» свои «Страницы воспоминаний».
А. И. Цветаевой
25 апреля 1972
Ася! В № 100 «Вестника русского студенческого христианского движения» (Париж-Нью-Йорк, 1971) опубликовано впервые 14 маминых стихотворений из рукописи, мною Вам переданной и у Вас хранившейся.Это значит, что она была или скопирована, или, вернее всего, похищена у Вас и находится за границей в руках политических авантюристов. Некоторое время тому назад, когда до меня дошли слухи, что доверенная мною Вам по Вашей слёзной просьбе копия маминых стихотворных тетрадей (с единственным условием обеспечения полнейшей сохранности и нераспространения) – размножена и ходит по рукам, я спросила у Вас объяснений; Вы ответили, что рукопись у Вас, и что наше условие соблюдается. На самом же деле она не только попала в чужие руки, но и была передана или продана за границу. Учитывая, что в ней (рукописи) содержится немало вещей, по нынешним временам резонно считающихся антисоветскими, легко себе представить, каковы уже есть и ещё будут последствия данной акции. («Христианский» вестник, например, набит антисоветчиной, сверх и помимо материалов богословских.)
Совершено преступление по отношению к маме, привезшей эти рукописи в Москву, по отношению к Муру, бросившему в Елабуге всё, кроме рукописей, которые он спас; по отношению к Лиле и Зине, сохранившим их в течение войны; по отношению к здешним читателям, ибо любая западная, политически тенденциозная публикация – удар по самой возможности цветаевских публикаций в СССР. О себе не говорю, хоть я и положила остаток жизни на собирание и приумножение материнского архива, из которого за все годы допустила единственную утечку: передачу копии стихов Вам. Помимо всего прочего это – просто уголовное преступление, за которое мы обе несём ответственность: я – за то, что доверила рукопись Вам, Вы – за то, что, не обеспечив её неприкосновенности, способствовали передаче её за границу.
Подумайте, вспомните: когда в последний раз Вы сами видели эту рукопись? В каких условиях, где хранилась она у Вас? Кто мог иметь к ней доступ? Кто мог её похитить – ибо не сомневаюсь, что её у Вас больше нет.
Не тот ли молодой человек – Горохов1, кажется, к<отор>ый сперва ходил у Вас в секретарях, а потом обхамил и скрылся? Подумайте. Это более, чем серьёзно.
Второе: не так давно я получила из Слуцка (Белоруссия) копию Вашего произведения 1966 г., посвящённого Вашей поездке в Елабу-гу в 1960 г. Если Вам неизвестно, что и данная рукопись ходит по рукам, возможно, без Вашего разрешения, то – знайте: в случае, если подлинник у Вас пропал, то имеющаяся у меня копия в Вашем распоряжении.
К этой рукописи, поскольку она касается моих близких, я напишу комментарии, которые, разумеется, Вы получите из моих рук, а не из Слуцка – или Парижа.
А.Э.
PS Публикация «Вестника» снабжена маминым коктебельским портретом 1911 г. (тоже – «публикуется впервые»!) Такой же портрет -только Ваш – снятый тогда же и в том же кресле – помещён в книге Ваших воспоминаний. Впервые мы с Вами увидели эти снимки в альбомах ленинградского собирателя, которые приносил Вам быв<ший> секретарь ред<акции> «Наука и жизнь» Роальд Михайлович.
1 Лицо комментатору неизвестное.
Е.Я. Эфрон и З.М. Ширкевич
4 июня 1972
Дорогие мои, пишу в надежде, что письмо вас не застанет в Москве! Последняя ваша открытка огорчила пылью, духотой и... утес-ненностью в городе и городом. Дал бы Бог, чтобы вы оказались уже на даче, под покровительством ясного неба, зелёных деревьев и того покоя, который дарует только природа, пусть хотя бы тот кусочек её, который, вмещаясь в пределы дачного участка, тем не менее даёт представление о просторе, сознание простора и – чувство свободы.
Бесконечно думаю о вас и всё чувствую вместе с вами; это моё извечное состояние, или – почти извечное! Связанное с Россией – с приездом в неё, когда, первые годы, мы были вместе, а последующие – врозь, это состояние «вместе с вами» обширно, как сама Россия, как сама душа, и вместе с тем тесно, как грудная клетка, вмещающая всё. Состояние это – физическая часть самой меня, несмотря на то, что – самая духовная!
Лето наше идёт рывками; вчера ещё чьи-то листочки, росточки были стиснуты, сжаты; сегодня расправились, вымахали, окрепли; то, что ещё вчера цвело во всю мочь, сегодня уже завяло и осыпалось; не успеваешь замечать, как и когда происходят все эти чудеса! <...> Недавно на несколько часов заезжала Лена1, в узкий просвет между экзаменами; тощая, зелёная, заморенная и всё равно прелестная с головы до пят... В середине июля приедет к нам отдохнуть, прийти в себя. Прийти в себя собираюсь и я, вероятно, это и произойдёт по-
степенно, т. е., вернее, и происходит... В начале и глаза ни на что не смотрели, и всё казалось серым, как пепел. Теперь окружающее приобретает краски, запах, звучание. Реку ещё не видела и нигде не бывала, кроме собственных пределов; ну, в этом ноги виноваты; спасибо, хоть по участку меня носят... Очень жду вестей от вас и от Руфи. Крепко обнимаем и любим!
Ваши А. и А.
1 Е.Б. Коркина.
Е.Я. Эфрон
14 июня 1972
Дорогая моя Лиленька, получила только что Ваше чудесное письмо о Максе1 и порадовалась и твердости Вашей пишущей лапки, и ясности и жару Вашей мысли и чувства. Да, в жизни всей нашей семьи, всех династий наших! – Макс – счастье и свет, и дружеское плечо, и дружеская рука. Стольким он помог стать человеками и обрести крепость станового хребта при мягкой несгибаемости духа и сердца!
Слабо надеюсь, что эти несколько слов дойдут до вашего отъезда, а следующее письмо будет уже в Болшево. Дай Бог благополучно добраться (собраться и разобраться) – дай Бог здоровья, терпенья и сил!
Хорошей погоды вам и природной и душевной! <...>
Крепко обнимаем всех троих!
Ваши А. и А.
(Не лишайте себя Максиного альбома2 ради меня, съедемся – увижу у вас!)
1 Максимилиане Александровиче Волошине.
2 Вдова поэта Мария Степановна Волошина прислала Е.Я. Эфрон книгу «Пейзажи Максимилиана Волошина. Репродукции» (Л., 1970) с дарственной надписью: «Дорогой Лиле Эфрон... С нежной любовью, с их любовью и от себя с моей скромной, но горячей искренней любовью. Маруся. Коктебель, 1972, май» (Архив публикатора).
В.Н. Орлову
1 июля 1972
Милый Владимир Николаевич, Ваше письмо обрадовало меня – в такой же степени, в какой огорчило Ваше столь длительное молчание... <...>
Зима моя прошла из ряда вон тяжело (да и у всех, кажется!) – я долго и нудно болела, да и сейчас не очухалась; попала было в объятия литфондовских хирургов, норовивших сбыть меня в учреждение, напоминающее «Раковый корпус», но я взбрыкнула и не поддалась, м. б. ошибочно. Дотягиваю свою «Звёздную» рукопись, согнувшись пополам, с грелкой на животе, глуша дикие дозы диких антибиотиков и, главное, всё время сознавая неосуществимость своей рукописной затеи, своё лилипутство перед заданным, лилипутство плюс цензурный намордник на нём!








