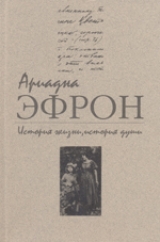
Текст книги "История жизни, история души. Том 2"
Автор книги: Ариадна Эфрон
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
28 июля 1965
Дорогие мои Лиленька и Зинуша, подъезжаем к северному порту Дудинке, оттуда по севернейшей дороге (железной) страны – в Норильск – три часа езды по тундре; вчера вечером увидела вдоль северного берега Енисея большие пласты снега и оставшегося от ледохода льда – и глазам своим не поверила, настолько привыкла за 10 лет к «нормальному» климату. Уже двое суток, как распрощались с ночью, едем «под лучами незакатного солнца», равно как и под внезапно налетающими и проходящими дождями. Освещение поразительное, такого неба нет нигде в мире... Сейчас берега Енисея тундристые – чувствуется край света; все очертания чёткие, и воздух ясен. Все краски, необходимые природе и людям, сосредоточены в небе. На снимке – один из сев<ерных> притоков Енисевя1. Целуем!
Ваши А., А. и А.
1 На обороте открытки: река Хантайка.
Е.Я. Эфрон и З.М. Ширкевич
30 июля 1965
Дорогие Лиленька и Зинуша, приветствуем вас с острова Диксон, последнего пункта нашего путешествия. Вокруг плещется Карское море; над нами – незакатное полярное солнце. Посёлок на дикой скале – вполне современный, но: всё абсолютно вне времени – и сплошь в пространстве. От последних дней поездки именно по Заполярью впечатление другой планеты. Погода не лучше московской – над Диксоном! только ветры океанские. Из Норильска везу вам кусочек медной руды... и множество рассказов!
Крепко обнимаем!
Ваши А. и А. <и А>
<ИЗ «ЗАПИСОК О ПОЕЗДКЕ ПО ЕНИСЕЮ»>
31 июля – Усть-порт; самая неприветливая из стоянок; грязное, во все стороны разбросанное беспорядочно, как после землетрясения, сельцо. Тоже на высоком бугре, но высоты – никакой. Рыбзавод – говорят, единственный в стране, сохраняющий рыбу в вечной мерзлоте. Ни рыбы, ни мерзлоты мы не увидели; директор, маленький, дёрганый человечек, встретил нас довольно-таки грубо; грубость его вызвала резкие реплики и даже, бог мой, угрозы со стороны некоторых туристов; обещали куда-то жаловаться; в Норильске, мол, сам секретарь райкома перед нами шапку ломал, мы, мол, «на вас напишем»... А директор: «Там, в Норильске, аж три секретаря» – вроде того, что делать им не черта. Кончилось всё довольно мирно: цеха разделки и засолки рыбы нам показали; всё там было пусто и чисто – и чаны, и бочки, и цементный пол; разобъяснили немудрящий «процесс» и выпроводили, так и не показав мерзлотной камеры, где, действительно, сохраняется предварительно замороженная рыба. Ну и бог с ней, и с камерой, и с рыбой. У входа в цех стояла испитая, измученная пожилая женщина и смотрела на нас, праздных, тёмно,

исподлобья. Она, верно, была бы рада, если бы директор, вместо того чтобы давать нам пояснения, до к<отор>ых никому из нас по существу не было ни малейшего дела, отматерил бы нас как следует, да ещё и палкой отлупил.
Мы покружились по поселку, к<отор>ый, казалось, торопился нас вытолкнуть вон всеми локтями и коленями своих косых домов и из-под низу пинал корявыми мостками. Люди попадались навстречу всё какие-то свирепые; пьяные глыбы – мужики в резиновых сапогах по самую задницу; шаги твердокаменные и неверные; женщины – заезженные клячи – или дородные хамки в обтягивающих телеса ярких, но задрипанных платьях; что ни шаг – то помойка, свалка; чёрная жидкая земля буквально усеяна битыми «пол-литрами» и гробами бывших закусок: консервными банками; на пороге перекошенной, как рожа, избёнки, в тёмном зеве двери – три детских фигурки: девочка в платке, кофте, из-под кофты – юбчонка, из-под неё – рубашонка, из-под рубашонки – шароварцы, из них тоненькие ножки-пестики в ступах-сапогах; двое мальчишек в доисторических картузах, оттягивающих уши; бледные немытые личики, разинутые рты. За избёнкой – овраг; в овраге – снег; по ту сторону оврага – тундра; на соседнем бугре – выветренное, истаявшее кладбище. «Памятники» клонятся все в одну сторону, сопротивляясь ветру, одолеваемые им.
Страшно, должно быть, жить в Усть-порту: самодур-«хозя-ин», выколачивающий план, царёк, божок, тиран; холод, темень, ветер; бабы работают изо дня в день, мужики пьют; одна рыба тихо живёт себе в таинственной «вечной мерзлоте»; рыба плохонькая – сорожка да сельдюшка в основном; осетры да стерлядка испаряются, не доходя до «потребителя»...
Бродили по захламлённому берегу, по чёрной гальке, под сивыми тучами, похожими на грызущихся собак; из этих собак вскоре грянул страшенный косой дождь, избивший и промочивший нас, несмотря на плащи; в обувь нам налилось, как в плошки; потом на пароходе долго отмывались, оттирались, переодевались, сохли.
В.Н. Орлову
31 июля 1965
Милый Владимир Николаевич, вот мы и побывали на Диксоне; жаль было уезжать, до того хорошо. Будь я помоложе, обязательно окунулась бы в тихое в тот день Карское море, но предпенсионный возраст приучает к солидности. В Норильске уже побывали; странный город, марсианский какой-то. Вообще от тундры, от Енисейского и Пясинского залива, от огромности неба, на котором – четыре погоды сразу – и незакатное небо, – впечатление иной планеты. В общем, мы за это путешествие побывали и в прошлом, и в будущем, и в Вечном. Скоро Туруханск, столь памятный мне. Сердце пронзила встреча со старым ледоколом Красиным7171
В дневнике поездки по Енисею А.С. пишет 30 июля 1965 г.: «Проходим совсем вблизи “Красина”, и я просто вцепляюсь в него глазами – это один из героев нашего детства, нашей юности, это – спаситель “челюскинцев”, это просто -часть души, причем – лучшая! та – где доблесть, долг, мужество; пусть только “отраженные”... Пожалуй, встреча с “Красиным” была главной для меня человеческой встречей за всё путешествие!
Коренастый, угрюмый, ненарядный, черный с песочным; приземистый, как утюг, не “военный”, не “штатский” – рабочий. На рыжей трубе – красная палочка. Бугорчатая броня. Мы ему махали, но редкие фигурки на его борту и не обернулись в нашу сторону. Мы ведь не терпели бедствие, не были затерты льдами, не нуждались в помощи. Нет дела ледоколу до едущих с юга на юг...»
[Закрыть], тем самым, спасавшим челюскинцев. Везём заполярные цветы, веточки карликовой береёзы, кусочки норильской руды...
Надеюсь, что всё у вас обоих хорошо. Всего, всего вам самого доброго!
ВашаАЭ
Погода – дивная: на Диксоне – +26.
Е.Я. Эфрон и З.М. Ширкевич
31 июля 1965
Дорогие Лиленька и Зинуша, этот фантастический город1 стоит в пустынной тундре, в почти космической дали от того, что мы зовём жизнью. Все дома стоят на сваях – в т. ч. и те, что на снимке. Побывав в нём, направились на Диксон, оставивший поразительный и пронзительный след в душе. Скалистый остров, слева – Енисейский залив, справа – Карское море; безбрежность; тишина, помноженная на даль, Вечность. Отовсюду везу камешки. Сейчас плывём в обратный путь, завтра – Туруханск, где опущу вам открытку, заготовленную ещё тогда, когда ехали в ту сторону. В этот конверт кладу листочки карликовой берёзы и ивы и цветы с Диксона'. <...>
Целуем!
Ваши А., А. и А.
Погода очень хорошая!
1 На обороте открытки: Норильск. Ленинский проспект.
<ИЗ «ЗАПИСОК О ПОЕЗДКЕ ПО ЕНИСЕЮ»>

2 августа; с 1 -го на 2-е августа почти совсем не спали – просто не могли уснуть; – утром должен был показаться Туруханск, а до него, ночью, в 1 ч. 30 по местному времени – Курейка; последний, наверное, в жизни шанс увидеть пятачок, откуда «вождь и отец» отправился в поход против «ведомых» и «детей». В том числе и против нас, оставивших в этих и прочих местах столь и не столь отдалённых годы и годы жизни; другие же – и самую жизнь. Пытались уснуть и не могли; умылись, разделись, легли и опять встали и отдернули занавески; за окнами – ни день, ни ночь; всё видно и всё неясно. То же и в сердце, и в голове. В 1 ч. 20 на низком берегу, среди смутных очертаний деревьев, появились сперва почти от них не отличимые очертания вытянутой в струнку деревушки; правый А.с.ЭфрониАА.шКодина крайний дом – непривычной для этих на борту теплохода Краёв кубической формы И гораздо «Александр Матросов»
выше остальных. Крыша кажется плоской; при таком освещении и на таком расстоянии не видно, конечно, ни окон, ни дверей; в середине строения мерцает как бы голубоватый туманный отсвет. Что это? Тот ли самый стеклянный павильон, во времена «культа» воздвигнутый над сталинской избушкой,
 |
| А.С. Эфрон в Туруханске |
или какая-то новая постройка, не возведённая ещё под крышу.
И существует ли ещё этот павильон? Никто ничего не смог нам сказать. Вполне естественно, если уж и самого Сталина как не
бывало – Ада смотрит во все глаза, я – во все очки; медленно, медленно проплывает в сизом мороке этого часа сизый призрак легендарного станка, откуда почти полвека тому назад уезжал в армию невысокий рябой человек, опрокинувший судьбы страны и мира. И наши. «Видишь? – видишь?» – спрашиваем мы друг друга и – видим и не видим.
Потом опять маята и бессонница и разговор об одном из сталинских посмертных подарков – чувстве человеческой отчуждённости, чувстве почти незнакомом (или знакомом лишь избранным) в досталинские времена. Сталин, среди прочего, научил людей не доверять и не доверяться и отучил их от искусства общения. Вот и на теплоходе образовались небольшие группки и кланы – не сообщающиеся взаимно сосуды. О недавних бдительности и недоверчивости уж и думать забыли, тем не менее инерция – осталась <...>. Перед свиданием с Туруханском мы обе ни места себе не находили, ни покоя. Просили (накануне) удлинить стоянку (вообще надоел вечный галоп на стоянках и начальник маршрута, знавший только один маршрут – к магазинам или в какие-то укромные места, где торгуют, тайно, рыбой). На ещё спящем теплоходе мы метались от борта к борту, боясь пропустить, хотя знали время прибытия. Когда показалась Селиваниха, разбудили Аню. После Селиванихи бесконечно долго (comme un jour sans pain7272
Как день без хлеба (фр.).
[Закрыть]) тянулся, жилы нам вытягивая,
длинный мыс; наконец за ним блеснули бензобаки, прочертились мачты антенн, в дымке очень ясного на наше счастье утра – ряд ещё, в отдалении, карликовых построек, растянувшихся по хребту берега. Наши ели (высокие ели у больницы, под которой когда-то стоял, притулившись к склону, наш домик) – издалека видны. Различаем Спуск, аэропорт (он в глубине, но виден посёлок и антенны), рыб-заводские домики, потом пробел и дальше, продолжая прямую линию, дома самого Туруханска с когда-то замыкавшими его ориентирами наших елей слева (глядя с реки) и справа – зданием монастыря, превращённого в склад. Теперь видно, как влево и вправо от «ориентиров»
 |
| А.С. Эфроне Туруханске на месте домика, где она жила в годы ссылки |
растянулся и распространился
наш городок – много новых домов, к<отор>ых при нас не было.
Появляется громадная наша отмель из серой гальки, расстилавшаяся столько лет перед глазами, отмель, по которой столько было хожено зимой и летом за водой и с водой; вёдра быстро обледеневали: бывало, сходишь два-три раза подряд и живой воды в ведрах чуть-чуть плещется в ледяных лунках. По побережью много леса – в штабелях и так; видна большая плавучая пристань. Теплоход тихо-тихо пересекает линию водораздела, из Енисея входит в Тунгуску, остров Монастырский остаётся по правому борту... Сходим вниз, и нет терпения дождаться, когда спустят трап; кажется, никогда так долго не прилаживался теплоход тютелька в тютельку к пристани, и кажется, всё это назло нашему нетерпению. Мы с Аней первыми прорываемся на берег, и Аня успевает снять Аду, ступающую на туру-ханскую землю. Забыла сказать, – на пристани стояла малень
кая бледная женщина с помятым личиком – мне показалось, что это – Юлия Касьяновна Пьяных, дочь нашего бывшего зав. отд. культуры, с честью носившего свою фамилию. Пройдя
сколько то по скрежещущей гальке и мокрому плотному песку
(в наше время песка на берегу вовсе не было – одни камни) – поднимаемся по лесенке; раньше возле неё был щит с призывом посещать дома-музеи Свердлова и Спандаряна, верных соратников Ленина и Сталина. Теперь его нет. Нет и хаоса нависших над побережьем тёмных жалких лачуг на курьих ножках; то была целая полоса хаоса, полоса отчуждения, немецкое гетто своего рода; всё жили там немцы-ссыльные, пока не собрались с силами и не продвинулись внутрь городка, построив новые жилища покрепче. Теперь стоят аккуратные построечки, и не очень тесно. Выходим на знакомую пристанскую улицу; тут ничего не изменилось – стоит почерневшее здание банка, а налево – всё тот же угловой магазин; он ещё на замке, но собаки, как и 10-15 лет тому назад, уже дежурят возле: м. б. кто из будущих покупателей бросит довесочек хлебца. Милые громадные широкогрудые ездовые псы, лайки и метисы, добрые, трудовые, некусачие, всегда голодные, точь-в-точь такие, как при нас – такие, но не те... На углу – новое для меня, но уже далеко не молодое на вид здание клуба; когда-то мы работали на его строительстве, окончания к<оторо>го я не дождалась. Туристы сворачивают к музею, а мы – налево, мимо бывшего моего клуба, на месте которого большая, приветливая, я бы сказала даже – красивая и совсем не казенного вида школа-одиннадцатилетка, мимо такого знакомого нам приземистого и почерневшего здания бывшего отделения МТБ; теперь на нём мирная синяя милицейская вывеска и вид самый захолустный; дальше по мостику, и вот она, больница, и подросший рад молодых елей, и наши старые, ешё при нас достигшие предела своей высоты и поэтому точно такие же, как тогда. Вот крылечко амбулатории, куда наша Пальма всех женихов приводила, когда Ада работала в больнице. Сломанная ветром еловая ветвь лежит, вся усеянная молодыми смолистыми шишками; беру несколько на память; да, на мостике Ада вдруг встречает своего бывшего начальника Костылева, здоровается, и он столбенеет и несколько секунд не может вспомнить имя; потом бормочет: «Ада Александровна, Ада Александровна! Вот встреча... вот встреча...» Мы с Аней оставляем их, и уже потом – больница, еловая ветвь. Подходим к краю, с которого – спуск к нашему бывшему жилищу. Такой знакомый, такой свой уголок, свой островок; и тут всё изменилось. Кормановский дом, тогда совсем новенький, покосился и вплотную приник к обрыву, «угору»; но вот знакомая физиономия: рыжий Джек, кормановский пес, постаревший на 10 лет – но насколько же собачья
старость пригляднее человеческой и менее заметна, чем у тех же зданий... На месте нашего домика – новый, побольше, посолидней, но так же приткнулся к «угору» и так же, как наш, крыт толем. Огород, землю для которого мы когда-то наносили ведрами на песок и гальку, цветёт картофельными бледными цветами; вместо нашей одной любимой Пальмочки – два довольно безличных пса-метиса; на месте нашего сарая – новый; живёт на нашем месте, видно, не прежний наш сосед Федя, а кто-то куда более хозяйственный и прочно пустивший корни. <...> Уехали ссыльные, улетучилась атмосфера «транзитки», перевалочной базы, хуже – полустанка между жизнью и смертью. Тот Туруханск висел на волоске; этот – врос в землю всеми своими фундаментами и корнями деревьев. Городок озеленён; во всех палисадниках и вдоль центральных улиц -береёзы, лиственницы, ели; некоторые из них, жалкие хлыстики, сажали мы лет 12 тому назад...
<■■•> ещё сворачиваем к монастырю, чтобы взглянуть с «Беседы» на Тунгуску и Енисей и «Монастырский» остров; когда-то мы, только что приехавшие и ещё не устроенные, сидели на этой вершинке, над холодной необъятностью двух рек и наших двух ссыльных жизней; мне было всё равно, Аде – нет... <...> Когда я по деревянному подобию трапа, положенному по прямой вертикали на угор (при нас шла тропка, пологая, наискосок), поднимаюсь наверх и гляжу на навечно впечатавшийся в сердце вид – серая, далеко-далеко вдающаяся в реку отмель, синяя вода Тунгуски, остров, бурая полоска водораздела, за ней серебристая, отличающаяся от тунгусской, резко-блещущая на солнце вода Енисея, у меня становится легко на душе; я физически ощущаю эту лёгкость, это громадное облегчение от того, что вот я стою, десять лет спустя, на этой высоте и вижу Туруханск; так, оказывается, мне это нужно было. Почему? сама не знаю и никогда не узнаю. И, опять же, непонятно почему было и откуда взялось ощущение ясности и покоя <...>
В.Н. Орлову
31 августа 1965
Милый Владимир Николаевич! Спасибо за письмо: оно сперва побывало в Тарусе, потом его переслали в Москву, потом запоздала с ответом. Да, макет1 хорош, и как бы мы ни знали его содержание, как бы ни работали над ним, а всё равно поражает новизной. Сегодня, после тщательной сверки всех текстов с источниками и прочей правки, от каковых устали сверх всякой меры! отправили в Ленингр<ад> – совпало это с годовщиной маминой смерти; почтили её память, как сумели. Да, тьфу, тьфу не сглазить, хороша книга – дай ей Бог здоровья! – лучшая из всех, доныне выходивших. Жаль, что слеп и убог шрифт – что бы это было, если бы к тому же шрифты подходящие, заставки, концовки!
Дождались мы и Вашей статьи: как всегда Вы – умелый кормчий и лоцман. Дай Бог – в добрый час и путь! <...>
Насчёт последних дней маминой жизни, действительно, ходит немало легенд, в т<ом> ч<исле> ещё покойным Асеевым «запущенные», т. е. тенденциозные; Асеев в качестве руководителя группы эвакуированных, в к<отор>ой находилась мама, обязан был позаботиться о её устройстве, чего не сделал; вот и были пущены слухи о том, что всё было куда «благополучнее», чем на самом деле. Обстоятельства маминой гибели известны с максимальной достоверностью: сохранились дневники брата2, где всё записано день за днем; в короткий перерыв между лагерем и ссылкой я успела связаться с людьми, бывшими в то время в Елабуге, и записала с их слов то, что они тогда – всего 6 лет спустя – хорошо помнили. Кстати, уже тогда могила была затеряна; Пастернак пытался её разыскать (правда, на расстоянии, в Елабугу он не ездил) – но безуспешно.
Из Москвы мама приехала сперва в Чистополь, где безуспешно околачивала пороги, пытаясь задержаться там, но была направлена в Елабугу, где прожила всего 10 дней, до 31 авг. Сделала ещё одну попытку устроиться в Чистополе – судомойкой в детдоме (писательском), но вернулась в Елабугу, не дождавшись «разбора» своего заявления, случайно слышала «дебаты» по этому поводу (против выступали Тренев, жена Фадеева, актриса Степанова, и ещё кто-то); не дождавшись защиты Паустовского, в отчаянном состоянии уехала в Елабугу; брат пытался уговорить её вернуться ещё раз в Чистополь, узнать результаты заседания – но тщетно (этот разговор и был весьма своеобразно истолкован «квартирной хозяйкой», чьи «воспоминания» у Вас есть). На следующий день брата отправили на воскресник по расчистке аэродрома, и мама погибла. Действительно, брат не хотел видеть её мёртвой – чтобы сохранить память о живой; это можно понять. Он с большим трудом выхлопотал гроб и место на кладбище; был на похоронах вместе с небольшой группой эвакуированных; могилу никто не догадался отметить, и уже шесть лет спустя никто из тогда живых (сейчас почти все умерли) не помнил даже, в какой стороне кладбища она находилась. Вещи и оставшиеся продукты брат распродал и с громадным
трудом выхлопотал пропуск в Москву, спас и вывез мамин архив; если мы с Вами сейчас сумели сделать хорошую книгу – даст Бог не последнюю! – то поблагодарим за это от имени всех нынешних и будущих читателей – шестнадцатилетнего мальчика, так жестоко осиротевшего, голодного, больного, сумевшего сохранить и спасти то, чему цены нет и что невосстановимо, как сама жизнь.
Относительно фразы о том, что «муж погиб, дочь была далеко», она, действительно, «темна», хоть то, что было на самом деле, – куда «темнее»! Отец мой погиб тогда же, когда и мама, – в конце авг<ус-та> 19413 («так с тобой и ляжем в гроб – одноколыбельники»!), т. ч. о гибели его она знать не могла; оба мы – и отец, и я вовсе не находились «далеко» – хоть и вне пределов досягаемости: мы кочевали по московским тюрьмам, куда мама носила нам – 3 раза в месяц каждому – итого 6 раз в мес. – по 50 р. (разрешавшуюся «передачу»); – сумму эту она делила на три, чтобы иметь возможность чаще узнавать, что мы – живы: мёртвым передач не принимали.
Если Вы не считаете возможным заменить фразу словами о том, что близкие М<арины> Ц<ветаевой> подверглись незаконным репрессиям, то лучше вычеркните её во избежание кривотолков, ладно?4
Кроме того, хотелось бы очень попросить Вас изменить слова о том, что у моего отца «хватило чести и совести»5 признать свои ошибки. Это звучит не по праву обличительно. Должна сказать Вам (Вам – лично), что отец был долгие и долгие годы эмиграции нашим разведчиком и совершал настоящие подвиги во имя Советского Союза; этим давно и начисто смыта его вина – столь схожая со всеми мамиными винами – то есть вина высокого строя души, призвавшая его, 24-х-летнего мальчишку – в стан обречённых; о том, что «белое движение» обречено, он знал не хуже мамы. И работа его для Сов. Союза – опасная, жестокая – была тоже высокого строя. Мама знала и – одобряла; Вы достаточно знаете её, чтобы понять, что это значит. Мы бедствовали и подчас голодали все наши эмигрантские годы, но отец никогда ни гроша не принял в оплату за свою работу. Говорить вслух о его деятельности нельзя, не пришло ещё время, живы ещё некоторые его товарищи по работе и, кто знает, м. б. работают еще. Но «клеймить позором» его как «рядового белогвардейца», твердолобого защитника того Царя и того Отечества и т. п. – пора прекратить. Я думаю – Вы согласитесь со мной. Нечего повторять, что всё это – между нами, строго. Отец был человеком высочайшего мужества, глубочайшей чистоты, несравненного благородства и – поразительного личного обаяния. Он один по-настоящему понимал и любил мою мать; его единственного по-настоящему любила она всю жизнь. «Всё прочее – словесность», то есть горючее для стихов...
Стр. 6. Дата смерти М.А. Мейн (маминой матери) – не 1905, а -1906. Мы позволили себе исправить.
7 – «Оле-Лукойе» – не было книгоиздательством, ни частным, ни семейным; его просто не было! В те времена рукопись «просто» относили в типографию (она была под боком, в Трехпрудном пер.6) – выбирали бумагу, шрифт, обложку и... платили деньги. «Оле-Лукойе» – просто шутка из Андерсеновского арсенала, причём шутка – мамина, а не отца...
8 – из стиха Волошина выпала строка «Почему альбом, а не тетрадь»7 (рифмует с «благодать»). Мама цитирует другой вариант – или другие строфы – в «Живое о живом»
9 – Ростан пленил не безвкусицей и дешевкой, а тем, что воспевал благородство, рыцарство; совсем не так плоха и де Ноайль, как Вы пишете; мама переписывалась с ней уже за границей, в поздние годы; у неё (де Ноайль) есть прекрасные стихи. Пленяла романтика.
10 – «Чинной барышней» никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах не была. В детстве и юности – сплошное озорство – причём блистательное! Сплошное непокорство.
13 – «Злобно отвернувшись от... стихии»... злобы не было8.
16 – Про «Феникса» нельзя сказать, что не публиковался: частично (посл<еднее> действие) (вышел отд<ельной> книжкой в 1922 (?) г.9).
19 – Два близнеца неразрывно слитых10 – и понято и написано ещё в Москве – обратите внимание! (1918 г.)
стр. 17 – Вы пишете, что «ничего советского» в творчестве Цветаевой (речь идёт о периоде уже 1933 г.), «конечно, не было», а на стр. 23 говорите о том, что «важное значение для политической позиции Цветаевой, занятой ею к 30-м гг., имеет цикл “Стихи к сыну”" – во тьме дичающего старого мира самый звук СССР звучит для поэта как призыв к спасению и весть надежды»...
стр. 29 – Эренбург неверно описал цветаевскую манеру читать стихи12; ни «напевности», ни скороговорки не было. Читала смыслово, пресловутой «музыке» тут места не было. Голос был музыкален, не манера чтения.
– Источники сведений об Элладе отнюдь не исчерпываются Швабом13; она (Цв<етаева>) выросла в доме своего отца и Элладу знала -всерьёз; речь идёт о своего рода «справочнике» для трилогии.
– «...Трагедии Цв<етаевой> говорят о судьбах... людей, к<отор>ые вступают в борьбу с... силами рока за свою свободу и счастье»... «Ариадна» – о другом.
«...Она (Цв<етаева>) так торопится в своей речи... ей некогда исчислять свойства предмета и тратить время на метафоры» (стр. 47). Да нет же! Это как раз поиски предельной точности, а не «спешка», «свойства» и «метафоры» бывают лишними перед лицом страстей и событий во всей их роковой наготе; ничего «лишнего»... Цветаева – особенно в зрелые годы творчества... никогда не торопилась (писать) и всегда тратила время...
– Пример «легчайшего» стиха – диалог Федры и кормилицы. Уж очень страшной и перекликающейся с судьбой самой М.Ц. пример «легчайшести»!14
Не примите за «замечания»; я знаю, что от них Вы на стену лезете, и не люблю Вас в такой позиции! Примите так, как оно написано.
Север был фантастичен; о нём – в другой раз; м. б. «соавтор» и на снимки расщедрится; путешествие – путешествие утомительное из-за перенасыщенности впечатлениями – из-за радио на теплоходе («белоснежном красавце») и переизбытка «туристов», которым лучше бы дома на полатях пересидеть это время. Хотелось побольше тишины – чтобы хоть сколько-нб. гармонировала она с великой тишиной, великим простором неба, тайги, реки... Сейчас – в Тарусу, – за работу над нудным предпенсионным переводом испанской пьесы в стихах15, увы! Дожить бы до пенсии после такого перевода!
Спасибо Вам за книгу – и многое, с ней связанное и выходящее за пределы переплёта. Дай Бог!
Сердечный привет Е<лене> В<ладимировне> – доброго вам здоровья, отдыха, покоя, радости. И пусть всё будет хорошо!
Ваша АЭ
Не написала главного: спасибо за сердечное и мудрое предисловие! 7373
В.Н. Орлов прислал А.С. макет книги М. Цветаевой «Избранные произведения». Ниже А.С. излагает свои соображения по поводу вступительной статьи Орлова к этой книге.
[Закрыть]7474
Эфрон Г. Дневники. Т. 1-2. М,, 2004.
[Закрыть]7575
С.Я. Эфрон был расстрелян 16 октября 1941 г (Расстрельные списки. Москва, 1937-1941 «Коммунарка-Бутово». Книга памяти жертв политических репрессий. М., 2004).
[Закрыть]7676
Эта фраза в ИП-65 заменена словами: «...муж и дочь подверглись необоснованным репрессиям» (С. 25).
[Закрыть]7777
В ИП-65 эти слова заменены следующими: «повинуясь голосу чести и совести, коренным образом пересмотрел свои взгляды» (С. 9). В.Н. Орлов принял во внимание еще ряд замечаний А.С. и внес исправления в текст статьи.
[Закрыть]7878
Типография Мамонтова находилась в доме № 9 по Трехпрудному пер.
[Закрыть]
7 Речь идет о цитируемом в предисловии стих. М. Волошина «К Вам душа так радостно влекома...» (1910), посвященном М. Цветаевой.
8 В предисловии к ИП-65 фраза, однако, сохранена: «Злобно отвернувшись от громоносной народной стихии, взорвавшей и испепелившей старый мир, она стала искусственно, как говорится – на пустом месте, воссоздавать свой образ "стихии, не имевшей никакой опоры в действительности”» (С. 13).
9 Под названием «Конец Казановы. Драматический этюд» (М., 1922).
10 В стих. «Если душа родилась крылатой...» М. Цветаева пишет: «Два на миру у меня врага, / Два близнеца, неразрывно-слитых: / Голод голодных – и сытость сытых!» (I, 421),
11 Цикл из трех стихотворений 1932 г.
12 В.Н. Орлов приводит цитату из книги И.Г, Эренбурга «Портреты русских поэтов» (М., 1923. С. 73) о том, как М. Цветаева читала стихи: «Читая стихи, напевает, последнее слово кончая скороговоркой».
,э В окончательном варианте предисловия нет упоминания о немецком писателе-романтике Г Швабе (1792-1850) и его книге «Прекраснейшие сказания классической древности» (т. 1-3). Вероятно, первоначально В.Н. Орловым были приведены слова М.И. Цветаевой из письма к Ю. Иваску от 4 апреля 1933 г.: «Источники моей Федры – вообще всей моей мифики – немецкий пересказ мифов для юношества Густава Шваба» (VII, 381).
14 Как пример легчайших стихов приводится отрывок из трагедии М, Цветаевой «Федра», завершающийся строками: «На хорошем деревце / Повеситься не жаль...» (Ill, 662).
15 Пьеса испанского драматурга Тирсо де Молины (1583-1648) «Стыдливый во дворце» в переводе А.С. опубликована в книге: Тирсо де Молина. Комедии. Т. 1. М., 1969.
В.Н. Орлову
15 сентября 1965
Милый Владимир Николаевич! Рада, что Вы с Е<леной> В<ла-димировной> уже в Ленинграде: всюду за пределами больших городов начинается специфический осенний неуют, серость и сирость1; дома от всего этого и стены помогают. Не без отвращения перевожу никому не нужного и не интересного гишпанца7474
Эфрон Г. Дневники. Т. 1-2. М,, 2004.
[Закрыть] – пьеса в стихах, тоже никому не нужных; самая же страхота – «сжатые сроки», часть из коих прогуляла (по Енисею), а теперь пытаюсь нагнать время – куда там! Оно всё уже в Ледовитом океане и вспять не течёт. Это – сиречь пьеса – предпенсионная работа; авось поможет мне выколотить «хорошую» пенсию.
Отец мой был реабилитирован в 1956 г. – «в силу вновь открывшихся обстоятельств и за отсутствием состава преступления». В 1955 г., вернувшись из Туруханской ссылки, я взялась за хлопоты о маминой первой (несостоявшейся) книге и о папиной реабилитации; для последней требовалось разыскать оставшихся в живых «однодель-цев», к<отор>ые могли бы свидетельствовать о его невиновности; увы, живых не было, мёртвые же молчали; связаться с заграницей в те годы не было возможности; всё же сыскала кое-кого, из числа «ни живых, ни мёртвых», и истина восторжествовала, как всегда – посмертно.
Отец мой был человеком совершенно поразительной человечности, мужества и благородства. Я до сих пор просыпаюсь ночами в отчаянье и ужасе от его гибели, от такой его гибели, от того, что он погиб в такое беспросветное время, в лубянском кровавом застенке. Маме хоть была предоставлена «свобода» умереть самой.
Я думаю, что одноколыбелъникиъ, вместе умершие, и воскресать должны вместе в памяти человеческой, и буду Вам бесконечно благодарна, если Вы – в меру возможностей сегодняшнего дня – измените сколько-нибудь «белогвардейский» штамп – жестокий и нелепый. Если бы Вы знали, как мне хочется дожить до пенсии, развязаться с переводами (с теми, что не для души!) и записать всё, что помню и знаю, о матери, об отце, о Времени. Дай Бог!
Да, надо начать хлопотать о книге пьес; и вообще о многом подумать, многое подготовить и т. д. Не хватает рук, головы, времени, сил – на всё необходимое. <...>
Ну, дай Бог! – Моя благодарность за маму и моё доверие к Вам – всегда с Вами. Всего самого доброго и радостного Вам и Е<лене> В<лад имировне>.
ВашаАЭ
' Ср. в стих. М. Цветаевой «Рассвет на рельсах» (1922): «Из сырости – и серости», «Из сырости – и сирости» (II, 159-160).
2 «Стыдливый во дворце» Тирсо де Молины.
3 В стих. 1921 г. М. Цветаевой «Как по тем донским боям...», посвященном
С.Я. Эфрону, есть строчки: «Так вдвоем и канем в ночь: / Одноколыбельники» (II, 76).
В. Н. Орлову
26 сентября 1965
Милый Владимир Николаевич, спасибо за письмо и книгу. Я бесконечно рада, что (относительно отца) Вы сменили «формулировку» на формулу. «Человек героической жизни» – это действительно формула моего отца, и нашли её – Вы. Очень точно и очень верно.
Блоковские записные книжки1 просто потрясают, хотя не прочла ещё всерьёз. Это надо читать так же глубоко, как Евангелие (религию в сторону, конечно!), ибо за этим всем то же моление о чаше2 и смер-тию смерть поправ3 – наивечнейшее на фоне одной из революций...
Сейчас принесли Ваше письмо с «заявкой»4, в которой, после Вашей правки, зазвучал голос не девочки, а мужа. Всё очень хорошо, кроме вопроса о вступительной статье, к<отор>ый остаётся открытым. Конечно, м. б. нахально – навязываться с «почему», но всё же: почему Вы не хотите (не хотели бы) её написать? Ведь любой другой, будь он распроантоКольским, хуже сделает. Павел Григорьевич7979
(кстати, как его здоровье?) (примеч. А.С. Эфрон).
[Закрыть] остался, несмотря на преклонный возраст, на уровне только «Романтики»5 (уровень весьма и весьма неплохой, но до цветаевских трагедий ему ещё дальше, чем ей самой было в 20-е годы!). Тут что хочется: если делать, так делать хорошо. Вообще-то есть два пути: «плевать на предисловие» – лишь бы книга вышла! или: чтобы всё было хорошо. О пьесах – в особенности о трагедиях6 — не напишешь без глубокого проникновения в творчество зрелой Цв<етаевой>; без «После России», поэм «Горы» и «Конца»7; тут уж не до Романтики, даже с большой буквы. Павлику это просто не по плечу, ибо эту Цв<етаеву> он понимает не изнутри, не из собственного нутра, так как нутро его не таково. В статье Павлика, убеждена, «романтика» бы перевесила; предгорья, а не вершины. А Вам бы дались вершины. Как это важно! Важно ещё и то (тут пришли какие-то два парня, «студенты на картошке», поговорить о Цв<етаевой>, причём выяснилось, что кроме «Тарус-ских страниц» они ничего и не читали, и я забыла, что «важно ещё»...)








