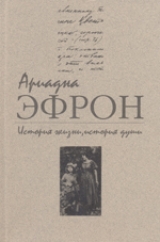
Текст книги "История жизни, история души. Том 2"
Автор книги: Ариадна Эфрон
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
Короче говоря, мне бы ужасно хотелось, чтобы написали Вы, Вы и только Вы. Обо мне и речи нет, статьи я писать не умею и не берусь, и надо мне писать (успеть написать) совсем другое. Не думаю, чтобы на «данном этапе» (своего и общественного развития) справилась бы и Саакянц, чья добрая воля, рвение, знание материала и многое другое – вне сомнения; но в чём-то ещё – дитя. Подрастёт – и завещаем ей эту (эти) темы. Боюсь, что у Вас какие-нб. побочные соображения: как бы кто не подумал, что Вы «специализируетесь» на цв<ета-евском> творчестве (самолюбие, гордыня, спесь) – или ещё что-нибудь в этом роде. Или – много другой работы. Но эта-то – важнее.
Взялись бы Вы – я бы Вам подсобила всякими материалами, по-доплеками, а, Владимир Николаевич? Подумайте всерьёз и всерьёз ответьте мне, в чём дело, почему. И подумаем сообща, как устранить или обойти то, что Вам мешает написать такую статью. Буду ждать Вашего ответа и заявку пущу в ход только по получении его.
Ещё многое должна сказать Вам, но потом.
Всего вам обоим самого наидобрейшего.
Ваша АЭ
1 Имеется в виду только что вышедшая в свет кн.: БлокА. Записные книжки. 1901-1920. М., 1965 (подготовлена В.Н. Орловым).
2 См. Мк. 14, 36.
3 Слова из тропаря на Пасхальную службу.
4 В.Н. Орлов отредактировал заявку А.С. в издательство «Искусство» на публикацию книги пьес М. Цветаевой.
6 А.С. имеет в виду цикл пьес М. Цветаевой 1918-1919 гг.
6 Речь идёт о трагедиях «Ариадна» (1924) и «Федра» (1927).
7 В книгу М. Цветаевой «После России» были включены стихи 1922-1925 гг. «Поэма Горы» и «Поэма Конца» написаны в 1924 г.
А.А. Саакянц
10 октября 1965
Милый Рыжик, посылаю Вам пакет с окказией <...> Новости: Коля1 перезаразил многих своих гриппом; правда, у тех проходит пока без осложнений, но t высокая, в частности у Вашей визави Мар<и-ны> Казимировны8080
Речь идёт о Николае Давыдовиче Оттене. На его тарусской даче, по свидетельству Н.Д. Панченко, осенью 1965 г. жил А.И. Гинзбург (1936-2002), выпускавший в 1959-1960 гг. самиздатский поэтический журнал «Синтаксис» . К нему нагрянули с обыском и обнаружили ряд антисоветских зарубежных изданий и много самиздата.
[Закрыть]8181
М.К. Баранович и А.А. Саакянц жили в переулке Грановского. М.К. – в доме
[Закрыть], чувствует себя плохо и не работает; (к тому же машинку взяли у неё на ремонт8282
№ 2, А.А. – в доме № 5.
[Закрыть]). Врачи считают, что грипп всё же, не той формы, что у Коли – другие возбудители вируса, более вредные, тем не менее однако —эпидемия4. А, собственно, зачем Эзоповским языком? Ищут людей (и находят) – распространявших и печатавших списки «нелегальщины» – (Солж<еницын>, Гинз<бург>, Шаламов и ещё кто-то «восставший» (в списках). «Один день Ив<а-на> Ден<исовича>» – с определённым уклоном в антисоветчину). Мар<ине> Каз<имировне>, одной из распространительниц предполагаемых, пригрозили высылкой из Москвы, забрали машинку на проверку шрифта. Нащупывают «коллекционеров» нелегальщины и машинисток, «шлёпавших» списки. Бумажку эту немедленно уничтожьте.
Целую, будьте здоровы.
Ваша А. Э.
3 В начале сентября к М.К. Баранович пришли с обыском, ее увезли допрашивать на Лубянку. Машинка, на которой она перепечатывала произведения А.И. Солженицына, была конфискована и возвращена только через полгода.
4 В сентябре 1965-го (9 и 12) были арестованы А. Синявский и Ю. Даниэль. 11 сентября был произведен обыск в квартире В.Л. Теуша и изъят хранившийся у него архив А.И. Солженицына. Вспоминая те дни, А. Солженицын писал: «Я могу только на ощупь судить , какой поворот готовился в нашей стране в августе-сентябре 1965 года <...>. Но близко к уверенности можно сказать, что готовился крутой возврат к сталинизму во главе с “железным Шуриком" Шелепиным» (Солженицын А. Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни. Paris. YMCA-Press, 1975. С. 112).
В.Н. Орлову
21 октября 1965
Милый Владимир Николаевич! Ваше письмо, в к<отор>ом не содержалось категорического отказа от предисловия к неубитому медведю – пьесам, – меня обнадёжило и утешило; а если отзываюсь так поздно, то потому, что развинтилась, расклеилась, расхворалась и хотелось хоть немного собраться воедино. Плохо, когда попадаешь в руки к врачам, ибо все они говорят разное, а ты хлопаешь ушами и думаешь свою думку; т. к. я в Тарусе, то врачи мимохожие; в том числе и один психиатр попался – хотя речь идёт в основном о печени! «На сегодняшний день».
Что я хотела сказать ещё давным-давно, когда Вы писали о том, что все «члены жюри» не в восторге от «Царь-Девицы»: во-первых – хотелось, чтобы в сборнике по возможности были представлены всё жанры (за исключением Лебединого!1) – в том числе и псевдобылинная ветвь; «Федра» уж слишком перевесила бы. Во-вторых и в-глав-ных: не так проста «Царь-Девица», как это кажется читающим, но неглубоко-вникающим (от них же первый – И.Г. Эр<енбург>2); именно в ней, в этой «русской», «сказочной» вещи – ключ ко всей последующей Цветаевой; недаром она сама, уже в поздние годы, писала кому-то о том, что Ц<арь>-Дев<ица> – та же Федра, а Царевич – тот же Ипполит, только в другие одежды ряженые3. Так оно и есть. Господи! Да именно в этой веши впервые сосредоточены цветаевские герои: стихов, поэм, пьес; и главный герой – Разминовение. Кафтаны ли, хитоны ли, бренная ли одежка XX века – второстепенные атрибуты Вечного. По-моему – хорошо, что в этом сборнике – Ц<арь>-Де-вица, Праматерь цветаевских образов – согласитесь со мной хоть раз! Впрочем, обожаю Вас без памяти именно за то, что Вы вечно не соглашаетесь и часто злитесь!
Теперь хочу сказать, что блоковские дневники, записные книжки, вернее, – замечательно интересны; вряд ли за последние годы встречала что-либо подобное и вряд ли встречу впредь. Поразительно встаёт Эпоха (с маленькой буквы её и захочешь – не напишешь!). Поразительно встаёт Блок-Человек (о поэте знаем по созданному им). И поразительно – слияние и не-слияние, совпадение и разминове-ние их – Эпохи и Человека.
На какой же высшей точке – жизни, творчества, времени – умер Блок! Ведь вскоре после эры «Двенадцати» пошла эра «Двенадцати стульев»; не блоковские времена... куда там!
Хорошо! Хорошо Вы сделали книгу; с громадным тактом. Спасибо Вам!
Вышел десятый номер казахстанского «Простора»4 с очень милыми мамиными записями об отце и прелестным, на мой взгляд, пре-дисловьицем Паустовского. У меня тут только один-разъединствен-ный экз<емпляр>. Если пришлют ещё хоть сколько-нб. – непременно пошлём Вам; не знаю, можно ли этот журнал купить в киоске или в магазине – в Тарусе-то уж во всяком случае нет!
Осень тут отнюдь не золотая, а бурая. Слава Богу, хоть гулять не манит от перевода. Сижу не сходя с места, как Островский у Малого театра; только что голуби не ... на голову, а так сходство полное <...>
Всего самого распредоброго вам обоим!
ВашаАЭ
' Говоря о «Лебедином» жанре, А.С. имеет в виду не только стихи из сборника «Лебединый стан», но и ряд других произведений, романтизировавших Белое движение.
2 В «Страницах былого» А.С. пишет, что И.Г. Эренбургу была чужда «“простонародность" (просто – народность.) ее (Цветаевой. – Р.В.) “Царь-Девицы", и вообще – рассийское (так у А.С. – Р.В.), былинное, богатырское начало в ее поэзии, вплоть до самой рассийскости ее языка, к которой он оставался уважительно-глух всю свою жизнь» (Т. Ill наст. изд.).
3 Вероятно, А.С. излагает письмо матери 1923 г., где та, характеризуя героя поэмы – Царевича, пишет: «...он брат Давиду, и еще больше – Ипполиту (вместо гуслей – кони!). Вы думаете – я также не могла написать “Федру"? Но и Греция, и Россия – одежда... Сдерите ее и увидите суть» (цит. по кн.: Саакянц А. Марина Цветаева: Жизнь и творчество. М., 1997. С. 215).
4 В алма-атинском журнале «Простор» (1965. № 10) была напечатана мемуарная проза М. Цветаевой «Отец и его музей» (1. «Лавровый венок» и 2. «Открытие музея») с предисловием К. Паустовского «Лавровый венок».
А. И. Цветаевой
23 февраля 1966
Милая Ася! Попытаюсь рассказать обо всём подробно, т. е. моя вынужденная (из-за отсутствия времени) краткость приводит к нелепостям, а выяснять до ужаса некогда.
1) М.И. Гр<инева> разрешила мне по полнейшей своей доброй воле держать тетрадь1 сколько требуется для сл<едующих> изданий. Она знает, что это долго и пошла на это; т. ч. Бога ради не торопите меня; мне и так тошнёхонько от спешки, всяческой. Сил мало.
2) Она же (М.И.) категорически отказалась от авансирования мною денег (ей) «под» эту тетрадь. («Что я у дочери М<арины> и С<ерёжи> за Маринину тетрадь... да как бы Марина к этому отнеслась!») – т. ч. деньги от меня идут просто к её потребности в них, а не потому, что я должна; обязана и т. д. Не должна, не обязана, а просто хочу помочь, хоть помощь эта нелегко даётся!
Относительно цены, стоимости и закупочной комиссии: как объяснили чл<ены> закуп<очной> Ком<иссии> Лен<инской> Биб-л<иотеки> – люди вполне опытные и квалифицированные, данная тетрадь попадает в определённую категорию, начиная с того, что на ней написано черновая тетрадь № такой-то; беловые тетради ценятся дороже. 2) тетрадь ранних лет; 3) черновики ранних пьес, а не стихов; 4) объём тетради; 5) тетрадь № такой-то, т. к. разрозненная тетрадь, и т. д. Те же условия принимаются во внимание и ЦГАЛИ, и расценки приблизительно те же, т. е. ЦГАЛИ может дать и немногим меньше, и немногим больше суммы 75-100. Немногим', т. к. и там и тут – расценки государственные, и в любом хранилище категория тетради определится одинаково. Вообще ЦГАЛИ не много платит; но зато
именно там сосредоточены наибольшие ценности. Пусть и мамино там сосредоточится!
<...> Я не говорю, что Вы – лучше (илилгуже!) Марины; вообще – разве это – оценка, и как можно сравнивать? Таким мерилом? Да и любым! А вот понятнее (опять же не я, ибо мне и М<арина> – понятна!) – несомненно мерило; для многих, не читающих «с листа», М<а-рина> – трудна, и требует громадного соучастия и соприкосновения читательского. Скажем мамины стихи к Пушкину куда труднее для восприятия, чем стихи самого Пушкина, но разве поэтому – Пушкин – фельетон? Понятность – при качестве написанного, само собой разумеется!, отнюдь не недостаток; как, впрочем, и сложность; так что – с чего у Вас шерсть дыбом и усы торчком??
<...> Я не осуждаю Балагана; я удивлена стремлением М.И. продать вещь, носящую порядковый № маминого архива; предположим далее, что Бал<агин> её не украл! Что она чудом попала в эти руки! То, что М.И. Гр<инева> – друг папы, приятельница мамы, нуждается в спец<иальном> питании и поэтому продаёт Цветаевскую рукопись – для меня не объяснение. Я понять не могу. Так же, как и то, что эта рукопись оставалась неизвестной никому около полувека. Под спудом. Так же как и то, что она продавалась – после полувекового под-спуда – в такой спешке и суете, вдруг, будто Эриннии гнались? Так нелепо? Что случилось? Кто и что напугало держательницу тетради?
Но даже не об этом; только об одном: как М.И. Гр<инева> могла продавать рукопись М.И. Цв<етаевой>? Да разве это продаётся? Если украдено – надо вернуть. Если подарено – надо подарить. Если ещё какими-нб. путями приобретено – надо отдать. О нет, не мне, если нет такого желания или доверия, – государству! Разве рукопись МЦ для друга МЦ – частная собственность, предмет торговли? Во сколько бы ни оценили: разве это товар?
Асенька, не только я сама, мои родители во мне этого не понимают. Душа не принимает.
Маруся Кузнецова ведь! Папа её часто вспоминал.
Жили мы ужасно плохо, когда одно швейцарское хранилище попросило маму продать им за «хорошую цену» письма Рильке к ней. Как Вы думаете, продала мама? Подарила? Оставила себе?
Как Вы думаете – я— способна ли продать архив или часть его или что-нб. одно-разъединственное из него? Продал ли бы обнищавший, больной, старый Макс? Пра? Да, скажем, Маруся Волошина? Аделаида Герцык? Вы сами? А папа, мой папа, Серёжа, друг Марии
Кузнецовой, папа за всю многолетнюю героическую свою советскую работу не взявший ни франка, как мы ни были нищи и как он ни любил нас – безмерно?
Объясните мне Вы, Ася Цветаева, как Вы это понимаете? Как объясняете? Только потребностью в деньгах больного и несчастного человека?
Я допускаю, что я не понимаю, что я не права, что я глупа, смешна и т. д. в непонимании очевидностей...
Ещё раз поймите: я не о том, что рукопись надо было отдать мне, хотя и была бы счастлива «этому» («меня» тут нет, есть архив). Я о том, что рукопись – тем более уж во всяком случае не купленную, именно рукопись МЦ, именно М.И. Гр<инева> не должна была продавать.
Ну ладно...
Целую Вас!
Аля <...>
' См. письмо к М.И. Кузнецовой от 24.XII.63 г.
В.Н. Орлову
4 марта 1966
Милый Владимир Николаевич, что Вы, как Вы, где Вы? Тысячу лет ничего о Вас не знаю. м. б. мои немудрящие вести не доходят до Вас? Ну и Бог с ними. <...>
Сегодня Аня посылает Вам «Армению» с маминым Мандельштамом1; простим ей, Армении, опечатки и произвольные (минимальные) сокращения и порадуемся ещё одному кусочку маминой прозы; думается, что публикации в какой-то мере помогут тому прозы. Дай Бог!
Воспом<инания> А<настасии> И<вановны> в «Н<овом> М<и-ре>»2 чудесно (языково) написаны, но, Господи, как же всё вымазано малиновым вареньем, как глубоко под ним запрятана трагическая сущность вещей и отношений, – семейных и прочих. Поэтому я в бешенстве; и так хочется, чтобы вышла настоящая М<арина> Ц<ве-таева>, к<отор>ая писала всегда вглубь, а не по поверхности, и ничего не сахаринила.
Ну ничего, почти всякое даяние – почти благо. Только что получила бодлеровские книжечки3, – посылаю: пусть понравятся Вам с Е<леной> В<ладимировной> мои переводы!
Работаю ужасно; голова не дюжит; не дюжат и «потроха». Устала, как северная ездовая собака. И даже хуже.
Надеюсь, что вы оба здоровы; остальное приложится.
Всего самого доброго!
ВашаАЭ
1 В журн. «Литературная Армения» (1966. № 1) был опубликован очерк М. Цветаевой «История одного посвящения».
2 Речь идет о публикации воспоминаний А.И. Цветаевой «Из прошлого. К биографии поэтессы М. Цветаевой» (Новый мир, 1966. Ns 1-2).
3 См,: Бодлер Ш. Лирика, М,, 1965,
В.Н. Орлову
21 марта 1966
Милый Владимир Николаевич, рада Вашему письму и тому, что Комарово помогло и отдохнуть от сутолочи ленинградского бытия, и поработать. А я всё в той же позиции: сижу за столом по 28 часов в сутки и выдавливаю из себя по капле ужасный перевод ужасных стихов гениального Мольера1. Никто, решительно никто из живущих на земле (в небесах ещё и не то знают!) не подозревает о том, что Мольер сочинял и стихи. И оставить бы всех в счастливом неведении этого! Очень, очень плохо. Пересиливаю, переламываю и перемалываю и текст и самое себя. В основном – свою гипертонию. А она не выносит такого обращения и – мстит.
Спасибо за приглашение Вам и Елене Владимировне, но приехать мне не под силу, так как настолько больна и перенапряжена, настолько ни на секунду не свободна от всего, что не сделано мной за эту зиму, а сделать необходимо, хоть ползком, и т. д., и т. д., что – не могу.
Я очень надеюсь на будущий год, когда должна быть пенсия (к<о-тор>ую ещё надо заработать, а это пока что не удаётся) и та частичная свобода от заработка, к<отор>ую она мне даст. Тогда я непременно, Бог даст, приеду в гости к Ленинграду (у меня там и родственники2 есть, т. е. есть где «приземлиться») – и увижу вас обоих в вашей родной ленинградской стихии. Мне этого очень хочется.
А что до цвет<аевского> вечера, то я от всего сердца, как легко догадаться, желаю ему всяческого успеха и убеждена, что он будет, и тем больший, что меня на нём не будет.
Мое страдание от любой фальшивой ноты, без к<отор>ых пока не обходится и обойтись не может ни одно из таких мероприятий, по крайней мере, не будет «витать в атмосфере».
Я была, года четыре назад, на первом московском вечере в Лит<е-ратурном> музее3, выступления (всё – от чистого сердца, умилённые
и т. п.) ещё кое-как вытерпела, хотя мне всё время казалось, что у меня выдирают без наркоза зубы мудрости; но когда выпорхнули чтицы и начали (тоже от чистого сердца и во весь голос) – «исполнять», я не выдержала, встала и ушла. Представляете себе, как это выглядело! Ужас! До сих пор стыдно. С тех пор не была ни на одном таком вечере, так как выяснила, что это – та редчайшая ситуация, когда – за себя не ручаюсь. <...>
Я думаю, кто сумел бы читать М<арину> Ц<ветаеву>, так это – Е<лена> В<ладимировна>. В ней я почуяла редкое в наши дни, да и почти небывалое – сочетание душевной грации, такта и силы, которые и суть три ключа к Цветаевой вслух; всё прочее – отмычки.
Всего, всего доброго вам обоим! Сил и здоровья, в первую очередь. Пишите, не забывайте!
ВашаАЭ
Как жаль, что Вы не приедете наредсовет! Мы с А<нной> А<лек-сандровной> на это надеялись.
Смерть Ахматовой4 опечалила, но не уязвила, не потрясла – не знаю, почему. М. б. потому, что она при жизни стала собственным монументом?
' А.С. перевела ряд стих, для 4-го тома Полного собрания сочинений Мольера (М., 1966).
2 В Ленинграде жили А.Я. Трупчинская и ее дочери Анна и Елизавета.
3 Вечер в Литературном музее в Москве состоялся 25 октября 1962 г.
4 А.А. Ахматова умерла 5 марта 1966 г,
П.Г. Антокольскому
19 апреля 1966
Милый Павлик, очень, очень рада была Вашему письму – отклику, отзыву и, конечно, очень, очень рада буду повидаться с Вами, если это (для Вас) осуществимо.
В Москве я буду до 10– 15 мая – а потом в Тарусу со всем скарбом и с кошкой; до осени, очевидно.
Телефон мой – АД1-52-19 (у Вас, вероятно, мой старый номер).
Да нет же, мне и в голову не пришло «обижаться» на то, что Вы не написали мне о маминой книге (когда она вышла); важно было то, что Ваша встреча с книгой (а тем самым – с мамой!) состоялась. В такого рода встречах часто третий – лишний и не к третьему обращаешься памятью сердца!
Очень жду апрельского «Нового Мира». Дай Бог, чтобы всё с ним было благополучно. (Почему-то «на склоне лет» чаще молишься «пронеси, Господи», чем «дай, Боже»!)
Сегодня получила письмо от Орлова, где он очень хвалит статью1, называет её блистательной и вдохновенной; а сам он грустит, хандрит, устаёт и болеет. Всем нужен отдых, необходим досуг, а нет их, течение времени убыстрилось и как-то обессмыслилось, ибо это уже не время в вечном его понятии, а какой-то суррогат 20-го века, пластикат, заменитель, «субпродукт».
Насчёт предполагаемых маминых изданий: да, очень надеемся, что затея с отдельной книгой драматургии удастся; пока что изд-во («Искусство») относится к ней положительно. Надеюсь этим летом подготовить, сколько удастся, тексты и комментарии (трудно, как всё, что касается маминого творчества, ибо «всё впервые» – как и её творчество!) – и, конечно, вступительную статью Вас будут просить написать2.
Кажется, двухтомник (I – стихи, II – проза) включен в гослитовский план (на после – 50-ти-летия); туда, видимо, не войдут ни пьесы (к<отор>ые предполагается издать отдельно), ни переводы (то же). С прозой будет, боюсь, трудно; ред<акция> русской классики там -весьма не гибкий «организм», ну, посмотрим!3
Пушкинская книжечка задумана в изящном оформлении, с двумя ещё не публиковавшимися, очень славными, прелестными портретами – и набор (шрифт) приличный4. Книжечка переводов5 выглядеть будет, вероятно, скучно, но это не так-то важно. Обе собираются выйти в этом году, и, конечно же, малыми тиражами, увы! Как хочется побольше маминого издать!
И ещё хочу дожить до пенсии, и пожить на пенсию, и записать то, что помню о маме; я ведь очень много помню, и не «просто так», а: как писала и почему писала то-то и то-то; чему была подвластна и чем владела. Мы ведь прожили вместе целую жизнь, и это было то время, когда она, уйдя от предисловий и предварений самой себя, стала самой собой во весь рост, во всю глубину, во всю мощь.
Обнимаю Вас, дорогой Павлик! Доброго здоровья и сил Вам!
Ваша Аля
' Речь идет о статье П.Г. Антокольского «Книга Марины Цветаевой» (Новый мир. 1966. № 4).
2 Книга М. Цветаевой «Театр» была подготовлена и прокомментирована А.С. Эфрон и А.А. Саакянц. П.Г. Антокольский написал к ней предисловие,
однако издательство «Искусство» исключило книгу из плана. Она вышла в свет лишь в 1988 г
3 Уже 6 июня 1966 г. в письме к В.Н. Орлову А.С. упоминает о «высаженном из плана» двухтомнике,
4 Книгу М. Цветаевой «Мой Пушкин» (М., 1967) оформлял художник Вл, Медведев, вступительную статью написал В.Н. Орлов, текст подготовили и прокомментировали А.С. Эфрон и А.А. Саакянц.
5Цветаева М. Просто сердце. Стихи зарубежных поэтов. М., 1967 (сост. А.С. Эфрон и А.А. Саакянц, предисл. Вяч. Вс, Иванова).
Е.Я. Эфрон
23 апреля 1966
Дорогая Лиленька, <...> у меня новостишек никаких, кручусь-верчусь и чувствую себя волчком, к<отор>ый боги (?) подгоняют кнутиками. Помните, раньше, в детстве, волчки так и подгоняли -кнутиком? А теперь и они (волчки) стали заводные и неинтересные. За то бесконечно-длинное время, что прокорпела над Мольером1, накопилось и нагромоздилось множество дел, плюс к тому невероятный беспорядок в «хозяйстве» – от папок с рукописями до всех на свете вещей – чулок, кастрюль и т. д. А я совершенно не в состоянии делать несколько вещей сразу; очередность же их не получается, т. к. всё несделанное требует одновременного к себе внимания. <...> Да, забыла написать, что Любимову (он мой – причём весьма строгий – редактор!) пресловутый мой перевод Мольера очень понравился и никаких замечаний по нему нет. И то слава Богу, а то я просто не в состоянии была бы что-то ещё там доделывать и переделывать. За это лето надо: доперевести (свыше тысячи строк) испанскую пьесу (Тирсо де Молина), перевести неск<оклько> стихов Верлена и... подготовить (дай Бог!) к печати сборник маминых пьес, где трудные комментарии (нужно много материалов к ним из Ино-стр<анной> библиотеки...). И ещё надо бы и отдохнуть; как это получится – не знаю, ибо уйма знакомых, а главное – полузнакомых людей грозятся «навестить» меня в Тарусе. <...> Ну – русское «авось» вывезет, Бог даст, и на этот раз!
Лиленька моя, крепко, крепко обнимаю, целую и люблю. Ада -тоже.
Ваша Аля
’См. примеч. 2 к письму А.А. Саакянц от 14.1.1965 г.
Е.Я. Эфрон
30 апреля 1966'
Дорогая Лиленька, опять пишу Вам несколько утлых строчек перед сном; два последних дня были насыщены неожиданными развлечениями: вчера ходили с Аней к N – он звал по делам, а на самом деле оказалось сплошное безделье... Я познакомилась с N много лет тому назад, когда только что приехала из Туруханска; он был тогда ещё провинциал, жил в чужой комнате – и всё принимал всерьёз. Потом, года четыре – лет пять тому назад женился на милой, простого вида, неглупой девушке. А нынче – модерная квартира с модерными картинами, милая простая жена стала рыжей, истощённого вида жеманницей 20-го века, он сам отрастил брюшко и приобрёл категорический тон, всестороннюю осведомлённость в бракоразводных делах ближних своих и некую наносную богемность облика и языка, считающуюся признаком хорошего тона и даже некоего «аристократизма духа»; но, увы, то, что свойственно и органично Эренбургу, не прививается к инородным телам, и вместо аристократизма получается всё тот же «стандарт»; протестуя против стандартов навязанных, люди невольно ударяются в другие стандарты... Короче говоря, на столе был «иностранный» коньяк, замысловатые бутерброды на американский лад и «не наша» посуда; за столом были холодные и остроумные разговоры, из шикарного радиоприемника лились звуки потрясающего джаза, к<отор>ый в скором времени оказался не продуктом «Голоса Америки», а всего лишь передачей из Днепропетровского дома культуры железнодорожников... И я подумала – в который раз – о том, насколько ненастоящее перестает быть интересным; и чем интереснее это самое ненастоящее, тем оно мне просто скучнее – хоть я и не из скучливых...
А сегодня мы с Адой ходили в «Современник» на новую пьесу Аксенова «Всегда в продаже». Пьеса очень интересно и «многопланово» задумана, интересно, хоть и не по-новому, решена режиссерски и актерски – но, увы, тесна и мала сугубо студийная сцена, и поэтому действие лишено простора и воздуха, мельтешит в глазах и утомляет. «Всегда в продаже» – совесть главного героя (играет М. Казаков) – журналист, циник, продажная душа, умный, ловкий человек-флюгер; окружают его «простые советские люди» – обитатели коммунальной квартиры. В 1-м действии – жизнь «продажной совести» среди оглуплённых сталинскими временами, покорных всяким проявлениям власти – людей – очень разных и очень беспомощных перед лицом произвола. Второе действие – те же самые персонажи, перенесённые в некий антимир, в некое «иное измерение», где весьма обычные и привычные ситуации 1 -го акта доведены до абсурда – т. е. пальцем показано на то, «до чего это доводит». Лейтмотивом всей пьесы проходит занятный образ хамки-буфетчицы – карикатура «кухарки, правящей государством» и до самых вершин доносящей куха-рочью свою сущность, хамство, мещанство, невежество. Кухарка, си-речь буфетчица2, вдобавок оказывается мужчиной и в последних сценах пьесы приобретает явственное сходство с зарвавшимся Хрущевым... Всё очень занятно, очень рассудочно, абсолютно лишено души и... я предпочитаю Чехова; и даже – Островского! Сегодня канун майского праздника; Ада «гостит» у меня; завтра зайдёт Аня, и м. б. все втроём отправимся с визитом к Л. Г. Бать3. Начала предтарусские сборы и уборки... и – ничегошеньки не хочется делать! Спокойной ночи, Лиленька; простите за каракули! Целуем и любим...
Ваша Аля
1 Письмо, по-видимому, написано А.С. вечером 29 апреля или в ночь на 30 апреля, так как спектакль «Всегда в продаже. Сатирическая фантазия» шел в театре 29 апреля 1966 г.
2 В спектакле, поставленном О. Ефремовым по пьесе В. Аксенова «Всегда в продаже. Сатирическая фантазия», роль «зав. буфетом» в очередь с Г. Волчек исполнял О. Табаков.
3 Лидия Григорьевна Бать (1900-1980) – писательница, переводчица, приятельница А,С. со времен работы в Жургазобъединении.
Е. Я. Эфрон
30 апреля 1966
Дорогая Лиленька, пишу несколько строк перед сном, чтобы поприветствовать Вас – когда? С утра? Когда к Вам попадёт это очередное письмецо? Когда бы Вы его ни получили, знайте, что я мысленно с Вами – и всегда думаю о Вас, и чувствую Вас, и со-чувствую с Вами!
Вы знаете, в тот раз, что мы были у Вас1 с Адой, мы решили «кутнуть» и доехали до центра на такси. Было очень интересно ехать, т. к. обе совершенно не знаем этого района Москвы, а он сохранился почти неприкосновенным – «Застава Ильича» и ещё какие-то длинные-длинные улицы, теперь переименованные, а прежних названий я не знаю – кроме Владимирки.
Как-то особенно почувствовала, до боли в сердце, как мне дорога та Москва, безвозвратно ушедшая, та Москва, которая единственно и была Москвой... Всё смотрела и смотрела на ряды нетронутых, двух– и трёхэтажных домов с подворотнями (а в глубине -зелёная травка, собачьи будки, бельё сушится, какие-то сарайчики греются на солнце...) – на неожиданно возникающие, такие разные, синие, розовые церкви (да, да, и церкви сохранились – по крайней мере видимость их!) – на изредка попадающиеся особнячки с колоннами и многозначительными, аллегорическими фризами вдоль фронтонов... От безлично-бедных окраинных домиков, постепенно «крепчающих» в ремесленные, торговые, потом и вовсе купеческие обиталища до коммерческой – прошлого века – Солянки и старого делового района города – целая цепь, целый путь развития города и его истории. Ужасно интересно было видеть это всё и ловить на лету – и красный трамвайчик, заворачивающий за угол с характерным и милым уху скрипом и скрежетом, и палисадник с сиренью, и магазинчики Чичкина и Бландова, облицованные кремовой плиткой снаружи – только вывески переменились, а вид всё тот же! – и не хватало лишь булыжной мостовой моего детства, горбящейся разноцветными круглыми камнями, из к<отор>ых каждый как-то особенно искрился под моими детскими на худеньких ножках стоптанными сандалиями.
Сколько же мы с мамой ходили по Москве, когда я была маленькой! И как же мама, такая физически близорукая, а душевно – дальне– и глубокозоркая – научила меня всматриваться, вглядываться и вдумываться в Москву – любить ее, знать ей цену, знать цену её единственности и ни на какой иной город непохожести! Да, этому всему уже полвека – шутка сказать! И какое пятидесятилетие прошло! – а теперь оглядываешься, как чужестранка, на безнадежный, казённый, бездушный стандарт новостроек и разумом понимаешь насущность этих квартир – с ваннами и «совмещёнными санузлами», а душе до всего этого как-то нет дела... Да, не хлебом единым жив человек – да и хлеб ли этот железобетонный стандарт человеческих жилищ?!
А теперь, погуляв с Вами мысленно по недобитому кусочку Москвы, ложусь спать <...>
Крепко, крепко целую и люблю!
Ваша Аля
' Е.Я. Эфрон в это время находилась в больнице.
Е.Я. Эфрон
6 мая 1966
Дорогая моя Лиленька, <...> вчера проехала от Вас большой кусок на автобусе до метро и вновь выворачивала шею, глядя на домики и церкви, которые, каким-то чудом уцелевшие, грустно радуют. Какие же они красавицы, несмотря на вылинявшие свои каменные одежды, какие гордые, светлые, возвышенные и устремлённые вверх! как возвышаются над бытом и какое всё же они, церкви, рассудку вопреки, доказательство гениальной духовности того самого народа, который на наших глазах превратился в народ материалистов. Превратился ли?
Нынче с утра холод и ветер страшенный; как водится, именно в этот день и топить перестали. <...>
Крепко целую Вас, люблю и всегда с Вами и внутри Вас.
Ваша Аля
Е.Я. Эфрон
13 мая 1966
Дорогая Лиленька, сейчас отбывает Ада с вещами и кошкой (!) в машине, а я – поездом (не вмещаюсь!). Третьего дня успели на выставку цветов в Манеже и, главное, в Кремль; была внутри двух соборов (остальные временно закрыты) и вспомнила очень многое – маму и детство1. Всё, кроме соборов, – неузнаваемо, да и они без икон – только иконостасы и стенные росписи; правда, некоторые иконы экспонируются отдельно, но именно «экспонируются». Крепко обнимаем!
Ваша Аля
' В письме к П. Юркевичу от 21 июля 1916 г. М. Цветаева пишет: «...хожу с Алей в Кремль, она чудесный ходок и товарищ. Смотрим на соборы и башни» (Таллин. 1989. № 2. С. 116-123).
Е.Я. Эфрон
17 мая 1966
Дорогая моя Лиленька, мы здесь с пятницы, нынче вторник, переделали уйму дел, а всё конца-края не видать. Всё так трудоёмко и громоздко – Бог весть отчего. Или всё потому, что «годы не те»? И вообще – всё не то и всё не так. Первые после нашего приезда дни стояла июльская жара; сирень, только что начавшая распускаться, на наших глазах раскрылась до предела и начала сереть и ржаветь, уже увядая. А сегодня набежали тучи и вновь резко похолодало, и от этих лихорадочных скачков трудно дышать; и не только это: неустойчивость природы создаёт твою собственную внутреннюю неустойчивость... Как мы все тесно связаны с землёй, небом, солнцем, ветром, грозой, какие мы все – пусть жалкие, слабые и зачастую недостойные такого родства – дети земли! Да и неба! <...>








