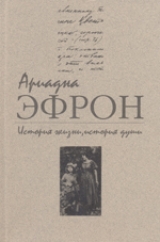
Текст книги "История жизни, история души. Том 2"
Автор книги: Ариадна Эфрон
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
В. Н. Орлову
15 августа 1962
Милый Владимир Николаевич, мнение Ваше насчёт памятного камня получила, оно, конечно, вполне соответствует моему. Эренбург, как мне сообщила Алигер, по моей просьбе говорившая с ним по этому поводу, тоже против данной идеи (сейчас) и данного воплощения оной. Посоветовавшись с Казакевичем – первейшим из первых за-чинателейтой, первой, гослитовскойкнижки, ктемжевыводам пришла и сама Алигер. Паустовскому я не писала, чтобы не беспокоить его в его послеинфарктном состоянии; остаётся один Макаров – не трудно себе представить, что и он не окажется на стороне Островского (воздвигателя!). – Я только что из Тарусы, провела там три дня, узнала историю во всех подробностях. Конечно и несомненно – Островский чудесный мальчик, вполне, весь, с головы до ног входящий в цветаевскую формулу «любовь есть действие», мне думается, что, когда соберём мнения всех членов комиссии по поводу его великолепной романтической затеи, надо будет написать ему от имени комиссии премудрое письмо, т. е. суметь и осудить необдуманность затеи, и... поблагодарить его за неё. Мальчишка совершенно нищий, в обтрёпанных штанцах, всё сделал сам, голыми руками, – на стипендию – да тут не в деньгах дело! Сумел убедить исполком, сумел от директора каменоломни получить глыбу и транспорт, нашёл каменотесов – всё это в течение недели, под проливным дождём, движимый единственным стремлением выполнить волю... И мне, мне, дочери, пришлось бороться с ним и побороть его. Всё это ужасно. Трудно рассудку перебарывать душу, в этом всегда есть какая-то кривда. В данном случае – кривда вполне определённая. Что делать! Что поделаешь! <...>
– О прочих делах потом, а на это откликнитесь скорее.
Всего Вам и Е<лене> В<ладимировне> самого доброго!
Ваша АЭ
А.А. Саакянц
14 сентября 1962
Милая Анечка, <...>
Относительно поисков могилы я не совсем с Вами согласна. Если есть достоверный шанс найти, то искать нужно, и нужно перевезти прах, похоронить на Ваганьковском, в Цветаевской ограде. Тут нельзя брать на себя смелость навязывать свою точку зрения; это не сомнительный камень в Тарусе.
Но я совершенно не убеждена, что Асины сведения достоверны, вот в чём беда, что затевать вскрытие могил, само по себе уже достаточно кощунственно, впустую – недопустимо. Кроме того, пробовать «опознавать» останки 20-летней давности без врача-специалиста (судебного профиля) – немыслимо, ибо надо уметь опознавать, а мы с Асей мужского скелета от женского не отличим. Всё это большое и сложное дело можно затевать только на основании всесторонней достоверности – от местонахождения могилы до процедуры опознавания; всякая семейная кустарщина неприемлема. Ах, Господи, будь у мамы добрая дюжина достойных её детей, и тем бы не справиться со всеми сложностями её посмертного бытия! Всё очень трудно. Да иначе и быть не может.
Целую Вас, будьте здоровы.
Ваша А.Э.
А.А. Саакянц
17 сентября 1962'
Милый Рыжик, пишу два слова наспех, чтобы отправить с Евг<е-нией> Мих<айловной> Цв<етаевой>2, которая провела здесь три денька – (у В<алерии> И<вановны>). Заранее спасибо за пакетик, который (трясущимися руками!) буду разворачивать завтра – в шесть ноль-ноль, час моего пробуждения и в будни и в праздники – пока длится скарронова эпопея. Пока что манящий дразнящий пакет лежит на тарелке со львом. Тарелка – очередное цветаевское чудо; я не сразу «узнала» её, т. к. цвет другой – лиловатый, а мамина была коричневато-золотистая. Потом в моём сознании стал проступать белоглазый лев. Представьте себе, что это – тот самый рисунок, тот самый лев, почти всю мамину жизнь несший груз её чернильницы. Никогда и нигде мы с мамой не встречали подобного фаянса (рисунок «Мадрас») и надо же, чтобы к моему пятидесятилетию этот же лев пришёл ко мне, проделав невероятный путь войны и мира. Спасибо бесконечное и Вам, и Вере Семёновне3 (которая нам очень понравилась!) за этот мало сказать – подарок, а настоящий дар
В<ера> С<емёновна> сказала, что Вы подумываете отказаться от поездки из-за предполагаемого юбилея. Не делайте глупостей, ибо единственно – тот юбилей мы можем отметить пока лишь в сердце своём, а не в писательском клубе, а кроме того – всё вилами по воде писано – имею в виду клуб. Будете в Праге – смотрите во все глаза готику, Градчаны, Влтаву, мост со святыми у Пороховой башни (кажется!) – там под мостом, у самой воды, стоит мамин рыцарь, лицом похожий на неё. Мы жили в районе Смихова. И подумайте о маме (о нас всех – папе моём, Муре и обо мне тоже) в Праге, в дни маминого юбилея.
Так отметить этот юбилей будет дано лишь Вам и это Вы заслужили...
<...> Кончаю, трудно перечесть, т. к. Евг<ения> Мих<айловна> отбывает.
Обнимаем, целуем, спасибо, дружок!
Ваша А.Э.
' Письмо написано в канун дня рождения А.С.
2 Евгения Михайловна Цветаева – вдова сводного брата М. Цветаевой, Андрея.
3 Вера Семеновна Гречанинова (р. 1924 г.) – историк, библиограф, сотрудник Государственной библиотеки им. В.И. Ленина (ныне РГБ), Прочитав в еще неопубликованном тогда в СССР мемуарном очерке «Живое о живом» описание этой тарелки (IV, 206), поняла, что в ее доме имеется точно такая же, и подарила ее дочери поэта. До самой смерти А.С. тарелка висела над ее письменным столом, а затем была возвращена дарительнице. А.А. Саакянц с В.С. Гречаниновой познакомилась, узнав о собираемой ею с конца 50-х годов библиографии зарубежных публикаций произведений М. Цветаевой. Будучи сотрудницей спецхрана библиотеки, В.С. Гречанинова имела возможность помогать А.А. Саакянц в добывании труднодоступных в то время текстов произведений М. Цветаевой, вышедших за границей.
В. Н. Орлову
30 октября 1962
Милый Владимир Николаевич, вернувшись из Москвы, нашла Вашу предкрымскую весточку, опасаюсь, что мой ответ, попав в поток октябрьских «проздравлений», задержится в пути и уже не застанет Вас. Ну, авось, небось да как-нибудь! Прибыла в Тарусу вполне ошалелая от работы, усталости, сердечных перебоев (сердце потукает, потукает, а потом, как на лифте, вниз!) – бессонницы и подавленного (сильного) желания кому-нб. выцарапать глаза. Второй день ничего «умственного» не делаю, вторую ночь крепко сплю, наслаждаюсь тишиной (и, увы, чересчур уж привычным шумом дождя за окном), обществом голубой кошки и увядающим букетиком последних настурций. И так – до 1-го ноября, когда вновь принимаюсь за книгу, войдя в свои берега. Из Москвы написала Вам довольно бесцельную записку, бесцельную, ибо догадывалась, что в Ленинграде Вас нет, но всё же хотелось подать Вам некий знак коснеющей рукой! О, Господи, да что же это за нелепая жизнь такая? Столько сил убивать – на что? Столько работать – а где сделанное? И, самое интересное: где, pardon, заработанное? Всё, как в кафковских романах: ниоткуда и никуда. <...>
25-го в Лит<ературном> Музее состоялся вечер, посвящённый 70-летию со дня рождения мамы; спешу успокоить Вас в «главном» – а именно – всё прошло без малейшей «ажитации», никто стульев не ломал и стекол не бил, и хотя зал вместил вдвое больше положенного, было очень спокойно, пристойно – как надо. Устроители сумели правильно распределить билеты и, главное, подготовили вечер без излишней рекламы и болтовни, многие «сенсационеры» узнали о нём лишь на следующий день после того, как он состоялся. Была неплохая (небольшая) экспозиция книг, фотографий, на диво удачный портрет (углём, по двум непохожим1, снимкам); выступали Эрен-бург, Слуцкий, Ев. Тагер1; первые два, по-моему, хорошо (Эр<ен-бург>, правда, перепевал опубликованное, т. ч. ничего нового не сказал – но сам был насквозь мил и добр, что не часто увидишь!). Тагер же развёл молочные реки, кисельные берега – я держала себя обеими руками за шиворот, чтобы усидеть, и бесилась – дура неизбывная! Потом было «художественное» чтение маминых стихов, и опять же я, вместо того чтобы испытывать благостные чувства, начала медленно и верно взрываться. К счастью, взрывалась в фойе, хоть ни у кого не на глазах. Понимаете, разумом ценю первую попытку Цветаевой «вслух» и отдаю должное терпению, любви и мужеству устроителей, а сердце требует совсем, совсем иного для памяти мамы. Настоящего – не только по замыслу, но и по осуществлению. Конечно, и это придёт, но моя-то жизнь коротка, и, боюсь, на мою долю достанется одна «раскачка». Мне кажется, за всё время «дельного» (в пределах возможного) была пока что только гослитовская книжечка, без всего прочего можно было бы обойтись – без преждевременных «памятников» и сомнительных «подборок». Только поймите правильно слово «сомнительные»... Опять же разумом не уверена в правильности своей точки зрения – что-то все, или почти все, придерживаются противоположной. А сердцем – убеждена, что я права.
<... > Переезжать в Москву всерьёз смогу только после окончания подготовки маминой книги, переезд потребует немало времени, а к тому же и денег, пока ни того, ни другого нет. А квартирка московская очень мила, со временем будет даже уютной.
Теперешний же её неуют заключается для меня в том, что всё, за исключением, пожалуй, выключателей и звонка, – в долг. Довольно странное ощущение собственности. Ну, да всё это – суета сует.
Надеюсь, что Вы и Елена Владимировна хорошо отдохнули и отдышались и что недоданное нам всем этим летом солнце было к вам милостиво... Желаю вам обоим всего самого доброго!
Ваша АЭ
1Евгений Борисович Тагер (1906-1984) – литературовед, автор эссе «Из воспоминаний о Марине Цветаевой» (см.: Тагер Е. Избранные работы о литературе. М., 1988). Ему посвящены стих. Цветаевой 1940 г: «Двух – жарче меха! рук – жарче пуха!» (7 января), «Ушел – не ем...» и «Пора! для этого огня...» (оба 23 января); навеяно встречей с Тагером и стих. «Годы твои – гора...» (29 января 1940).
П.Г. Антокольскому
14 ноября 1962
Милый Павел Григорьевич, помните ли Вы меня? Я – Аля Эфрон, дочь М<арины> Ц<ветаевой>, – теперь уже пятидесятилетняя; Вы знали меня маленькой, как я Вас – молодого (отлично помню Вас – Павлика).
У меня к Вам – без предисловий – преогромная просьба. Сейчас работаю над составлением и комментариями к следующей маминой книге, к<отор>ая должна выйти в Большой серии Библ<иотеки> поэта; надеюсь, что предисловие напишет Орлов, у него должно получиться. В книгу войдёт лирика, поэмы, драматургия – конечно, небольшая часть всего этого. Войдёт и пьеса «Феникс» («Конец Казановы») – Вы знаете её. Эта вещь, как и многие другие («Метель», «Приключение», «Фортуна»1), написана в первые годы Революции, в тот единственный период маминой жизни, когда она приблизилась к театру, писала театральные вещи (позднейшие драм<атические> произведения к сцене, к зрительному – отношения не имеют).
В мамином архиве не сохранилось почти ничего об этом времени, к<отор>ое Вы хорошо помните. Помогите мне определить – во
времени и обстоятельствах – situer!5050
Расположить, определить (фр.).
[Закрыть] этот период её творчества. Это ведь было время становления Вахтанговского театра?
1) Как тогда назывался будущий театр им. Вахтангова? Третья студия? Когда она зародилась? Когда преобразилась в театр?2
2) Кого из участников Студии мама знала, если Вы помните? Кто входил в кружок людей, сблизивших её с театром? Я помню Вас, Завадского3, Володю Алексеева4 (имел ли он непосредственное отношение к Студии?), Сонечку Голлидэй – кто ещё из – тогда – молодых? Из старших помню Стаховича5, Мчеделова...6 Была ли мама знакома с Евг<ением> Багр<атионовичем>?7 – Кто из этого кружка кем стал (знаю только о Вас и Завадском)?..
У мамы сохранилась запись о заказах Студии на переводы песенок, пьесы. Помните ли Вы что-нб. об этом?
Простите меня за наивность и невежество некоторых вопросов, но: долгие, слишком долгие годы своей жизни я в лесу пням молилась, и было мне не до истории и предыстории Вахт<анговского> театра;
пока что я ещё живу в Тарусе и все процедуры проникновения в московские библиотеки и поиски литературы очень для меня затруднены и отнимают куда больше сил, а главное, времени, чем надо бы.
Основное же: убеждена, что Вам, тому Павлику, не трудно помочь мне, той Але, в работе над книгой М.Ц.
Ответьте мне, пожалуйста, по адресу:
Таруса Калужской обл., 1-яДачная 15, Эфрон Ариадне Сергеевне.
Вот ещё что: не знаете ли случайно, где можно найти Мемуары Казановы?8 Нужны до зарезу для комментариев, в Лен<инской> библиотеке > нет.
В декабре должен быть вечер памяти мамы (в этом году её семидесятилетие) в С<оюзе> П<исателей>. Не хотели бы Вы выступить? Сказать? Прочесть? Мало ведь осталось её современников, соратников – всё чужие.
Обнимаю Вас
Ваша АЭ
М.И. Алигер сказала мне, что Вы помогли мне одолеть паевой взнос за квартиру. Спасибо Вам большое. Как только немного встану на ноги, хоть на одну! – верну.
1 Пьесы в стихах М. Цветаевой из цикла «Романтика»: «Метель» (1918), «Приключение», «Фортуна», «Феникс» (все – 1919)– были написаны для Вахтанговской студии.
2 В 1918 г., когда М. Цветаева познакомилась с вахтанговцами, Студия именовалась Студенческой драматической студией под руководством Е.Б. Вахтангова. Но москвичи обычно называли ее Вахтанговской или Мансуровской (по местоположению в Мансуровском пер.). В 1920 г. она вошла в число студий МХТ как Третья студия МХТ. 13 ноября 1921 г. состоялось официальное открытие театра под этим названием; имя Е.Б. Вахтангова театру присвоено в 1926 г.
3Юрий Александрович Завадский (1894-1977) – актер, режиссер и педагог. Участник Вахтанговской студии, первый исполнитель главной роли в спектакле «Чудо святого Антония» и роли Калафа в «Принцессе Турандот». М. Цветаеву с ним познакомил в начале 1918 г. П. Антокольский. Ему посвящен ряд произведений Цветаевой 1918 г.: стих. «Beau tenebreux! – Вам грустно. – Вы больны...», цикл из 25 стих. «Комедьянт»; для него в том же году написана роль Господина в «Метели», а в следующем – Лозена в «Фортуне». Он также один из героев «Повести о Сонечке» (1937).
4Владимир Васильевич Алексеев (1892-1919) – участник Студии Вахтангова. В «Повести о Сонечке» его именем названа вторая часть.
5Алексей Александрович Стахович (1856-1919) – гвардеец, был флигель-адъютантом Великого князя, затем актер МХТ, один из организаторов Второй студии, ее режиссер и педагог. Ему посвящены дневниковые записи М. Цветаевой 1919 г.; «Смерть Стаховича» и «Моя встреча со Стаховичем» и стих. «Памяти А.А. Стаховича» (1919) и «Ех-ci-devant. Отзвук Стаховича» (1920).
6Вахтанг Леванович Мчеделов (наст, фамилия Мчедлишвили, 1884-1924) -также один из организаторов Второй студии, ее режиссер и педагог.
1 Евгений Багратионович Вахтангов (1884-1922) – режиссер и актер МХТ и его Первой студии, основатель и руководитель Третьей студии, В «Повести о Сонечке» М. Цветаева вспоминает о чтении пьесы «Метель» «перед лицом всей Третьей студии <...> и главное перед лицом Вахтангова, их всех бога и отца-командира». Ему посвящены стих. М. Цветаевой «Заклинаю тебя от злата...» и «Серафим – на орла! – Вот бой!» (оба – 1918).
8 Речь идет о многотомных мемуарах знаменитого итальянского авантюриста Джованни-Джакомо Казановы (1725-1798). Казанова – главное действующее лицо в пьесах М. Цветаевой «Феникс» и «Приключение».
П.Г. Антокольскому
24 ноября 1962
Милый Павел Григорьевич! Спасибо сердечное за сердечный отклик. Очень обрадовалась Вашему письму – что со мной не так уж часто случается... Представьте себе, что совершенно не помню Вашего приезда в 1928' – как странно! Настолько же не помню, насколько хорошо (конечно, своеобразно – т. е. детское восприятие, заключённое во взрослой памяти, причём без корректив, которые часто, да почти всегда, привносит возраст...) – помню ту, давнюю пору. И Вашу impetuosite5151
Порывистость, стремительность, пылкость (фр.).
1б4
[Закрыть], и гибкую статуарность Юры Завадского, и душу Володи Алексеева... И многих, и многое, и ту, сейчас просто не мыслящуюся,
Москву. Я так была мала, что и булыжники, и звёзды были одинаково близко – рукой подать. Господи, какое же у меня было счастливое детство и как мама научила меня видеть... А помните тот Дворец Искусств, поразительный, чудесный, с яблоньками-китайками по фасаду, с Луначарским в правом флигеле, с Милиотти в левом и со всей литературой (и какой!) посередке. А в подвальной комнатке, там, внизу, в недрах, рядом с кухней (которую воспроизвести смог бы разве Gustave Dore для какой-нб. из сказок Перро2), ещё жила слепая старушка, бывшая крепостная бывших владельцев... Когда я впервые после
П.Г. Антокольский. 1960-е
многих-многих лет зашла в этот же особняк, я почувствовала себя... да что об этом говорить! Подумать только, что тогда же, в те несказанные годы, зарождались и учреждения. Как они одолели всё! – Но я ушла в сторону, в ту сторону... Скажите, а Чабров? Имел ли он отношение к будущему Вахт<анговскому> театру? Мне кажется, он появился гораздо позже, но м. б. путаю. Вы его помните? Если да, то знаете ли, к чему он пришёл и чем кончил?
А те спектакли я помню. Кстати, и Вашу пьесу3. «Чудо св. Антония» не видела, конечно, но немало ночей снились страшные сны, после того как мама рассказала мне её содержание.
Очень рада, что Вы будете на мамином вечере. Я настолько загодя знаю, что будет не то и не те (не обо всём и не обо всех речь!) – что тем более насущно Ваше присутствие. Вы будете то и скажете то. Ну – дай Бог! Этими словами мама начинала каждую новую работу -и тетрадь...
Обнимаю Вас. Всего Вам самого доброго.
Ваша Аля
' В «Повести о Сонечке» М. Цветаева пишет об этом приезде Антокольского в Париж: «Рядом со мною, по другую мою руку, в шаг моему двухлетнему сыну, идет Павлик А., приехавший со студией Вахтангова» (IV, 410).
2 В гл. «Из самого раннего» «Страниц воспоминаний» А.С. рассказывает о том, что «в пузатом секретере» в материнской комнате стояла «большая книга в красном переплете – сказки Перро с иллюстрациями Доре, принадлежавшая еще Марининой матери» (Т. Ill наст. изд.).
3 Речь идет о пьесе П. Антокольского «Кот в сапогах».
В.Н. Орлову
18 декабря 1962
Милый Владимир Николаевич, не в пример Вам в Москве я побывала (по усам текло, в рот не попало!) – несколько дней проработали с А<нной> А<лександровной>. Как её ещё с работы не выгнали из-за Цв<етаевой> – диву даюсь. Вечер отложен на 26 декабря5252
Первоначально вечер был назначен на 14.Х11 (примеч. А.С. Эфрон).
[Закрыть], причина – бдительность дир<ектора> Ц<ентрального> Д<ома> Л<ите-раторов> Филиппова, к<отор>ый, в свете посещения руководителями партии и правительства выставки в Манеже1, второпях спутал живопись (причём «абстрактную») – со стихами и решил ещё раз «согласовать» прогр<амму> вечера. И согласовал. И всё осталось, по-видимому, в силе. Официальный предлог – якобы «отсутствие докладчика» – какого? Что до Эренб<урга>, то тот рвал и метал и так же был на месте, как будет и 26-го. Вечера, его устройства, программы и проч. я не касаюсь и мизинцем – только составила список маминых сверстников, в надежде, что им пришлют пригл<асительные> билеты, ибо сверстникам уже ждать некогда – и немного их остаётся. – Интерес к вечеру огромный. Дай Бог, чтобы всё сошло хорошо; но вторично вряд ли выберусь – погано себя чувствую, а дорога зимой сложна и, главное, отнимает слишком много времени. Оно же сейчас не моё, а книжкино, и я его очень берегу, ибо остаётся мало, а работы невпроворот. В Москве (на собственном пепелище) буду вторую половину января и весь февраль – «дотягивать» с А<нной> А<лександ-ровной> книгу. Тут очень некстати всякие «плохие» сердца и прочие гипертонии, быстро устаю, голова болит. Врачи – им-то что! вообще рекомендуют бросать работу, что осуществимо только на том свете! На который не хочется. А ещё Вы на меня насылаете юных скульп-торш – у меня тут своих дополна...
Всё, что Вам обещала, сделаю, не беспокойтесь, повремените ещё немножко. В частности, с детск<ими> записями2 о вечере Блока дело обстоит так: тетрадь эта пропала, остались другие – тоже занятные, но не «по Вашей теме»! Но сама запись сохранилась у одного знакомого3, два года тому назад приехавшего сюда насовсем – «оттедова». (Ему мама дала переписать давно, когда готовила выступление о Блоке (в Париже)4.) Он мне об этом говорил, но я, убежденная в том, что сохранился подлинник, этим не заинтересовалась; теперь перепишу у него для Вас – как только закончу книгу, сейчас просто ни на что времени нет. Запись интересна, конечно, лишь достоверностью увиденного и услышанного, но это ведь и есть самое главное. Потом поищу в маминых зап<исных> книжках – должны быть беглые записи на самом вечере или же на сл<едующий> день. Безумно жаль, что текст её выступления о Блоке не сохранился. Память у неё была поразительная. У меня хоть и не поразительная, но Блока по сей день помню. «Возмездие» читал он в тот вечер; был бледный, худой, усталый, читал медленно и глухо, не «по-московски». Народу было много, но не «битком». Просили его прочесть «Двенадцать», но он не стал... Начала вспоминать и задумалась – и слов нет. Были бы слова соответствующие думам – и я была бы поэтом. Мама (вполне справедливо!) говорила о том, что быть «поэтом в душе» так же немыслимо, как быть боксёром в душе!
Всего доброго Вам обоим. Пишите хоть изредка!
Ваша АЭ
1 Посещение Н.С. Хрущевым, М.А. Сусловым, Д.А. Поликарповым и др, руководителями партии и правительства выставки «30 лет МОСХа» в Манеже состоялось 1 декабря 1962 г. За этим последовал доклад Л.Ф, Ильичева «Творить для народа и во имя народа» и 17 декабря – прием деятелей литературы и искусства на Ленинских горах.
2 Впоследствии запись восьмилетней Али «Вечер Блока» была включена в ее «Страницы воспоминаний».
3Владимира Брониславовича Сосинского (1903-1987) – литератора.
4 Доклад М. Цветаевой о Блоке состоялся 2 февраля 1935 г.
П.Г. Антокольскому
1 января 1963
Дорогой Павел Григорьевич! Простите, что с таким запозданием поздравляю Вас с Новым годом и с маминым вечером в Союзе. Болела, не было сил. Но хочется всё же, чтобы в первые дни наступившего года Вы получили, «в потоке приветствий», и мою весточку. Множество писем я получаю в эти дни от самых разных, близких и совсем далёких людей, побывавших на вечере. Все в восторге от Вашего и Эренбургова выступления. «Восторг» не то слово – люди плакали. А в наши времена это значит, что и камни плакали. Да, милый друг, Вы с Эренбургом – старые и вечно юные друзья, ибо друзья её юности – за руки ввели её в жизнь живых людей, вот в этот день 26-го декабря 1962 г. Её, такую же юную, как в те годы, ибо «мёртвые остаются молодыми»5353
Ассоциация с названием романа немецкой писательницы Анны Зегерс «Мертвые остаются молодыми» (1949).
[Закрыть].
Это хорошо. Это её явление – об руки с Вами, которому дарила она «железное кольцо»2, – и с И<льей> Г<ригорьевичем>, к<оторо>-му посвящены те сугробы той Москвы3, – сродни ей, т. е. это – воистину её явление.
Спасибо Вам и от меня в числе всех бывших и не бывших на вечере. Я крепко обнимаю Вас. Желаю Вам и Вашей семье светлых, счастливых дней в 1963 – и не только в этом году, а ещё многие, долгие годы. Будьте здоровы, и, надеюсь, до скорой встречи.
Ваша Аля
Стенограмма вечера есть, говорят, и я смогу всё прочесть, когда буду в Москве.
г В «Повести о Сонечке» М. Цветаева рассказывает о подаренном ею П.Г. Антокольскому перстне: «немецкий, чугунный с золотом, с какого-нибудь пленного или убитого – чугунные розы на внутреннем золотом ободе: с золотом – скрытым, зарытым. При нем -стихи:
 |
| Вечер памяти М. Цветаевой в ЦДЛ. В президиуме М. Алигер, И. Эренбург, Б. Слуцкий. Москва, 26 декабря 1962 |
Дарю тебе железное кольцо...» (IV, 353).
3 Речь идет о цикле стих. 1922 г. М. Цветаевой «Сугробы», посвященном И.Г. Эренбургу.
П.Г. Антокольскому
6 января 1963
Дорогой Павел Григорьевич, только что получила Ваше письмо и текст выступления, тронувшие и обрадовавшие до слёз. Спасибо, милый Павлик, Павлик маминой юности, моего детства, тот самый Павлик! – Хоть и грустно, что не попала на вечер, а нет худа без добра: десятки и десятки писем людей из зала говорят мне о возвышенной, нет, не то слово подвернулось! о высокой радости и грусти этого вечера, о торжественности и сердечности его. Все пишут, что такого не бывало – (как, впрочем, не бывало и такой). И вот сейчас я всё вижу и слышу сотнями глаз и ушей и чувствую сотнями сердец. За это и Вам спасибо, взволновавшему, и разбудившему, и растревожившему многие души. Дай Вам Бог (а сегодня Сочельник – наших далёких детств любимый праздник) всего самого светлого в жизни... Светлого, как та магическая звезда над теми яслями, как звезда нашей памяти, нашего чувства, нашей совести. Пусть не меркнет!
Рада, что у Вас есть сколько-то Казановьих томиков, м. б. как раз то, что нужно, найду. Я буду в Москве прибл<изительно> через неделю – дней 10, и довольно надолго, сейчас же позвоню Вам, повидаемся. Сюда1 ехать ей-Богу не стоит наспех в зимнюю несуразицу. А вот весной или летом буду ждать Вас в гости непременно. Покажу
Вам мамины места, и домик, в котором она выросла, и ель, – ели, посаженные дедом в честь детей, и надо, чтобы в Ваш приезд Ока была живая, как при маме, а не скованная льдом. Мы с Вами вместе пройдём по местам маминого детства. Здесь родились на свет её первые стихи, от которых всё и пошло. Зима тоже хороша, но – обезличивает. Я рада, что Вы «нашлись».
А ведь последняя мамина проза – о Вас, о вас всех, тех, юных, -мамина «Повесть о Сонечке». Знаете? (
Удивительная вещь – жизнь! Удивительно смыкаются круги – возвращается ветер на круги своя2 – и безвозвратное ещё раз берёт тебя за руку – и за душу...
Обнимаю Вас, милый Павлик тех и этих лет! Простите за несуразицу чувств и слов.
Ваша Аля
1 В Тарусу.
2 См. Еккл. 1,6,
Г.О. Казакевич
15 января 1963
Дорогая моя Галюша, прочла в Литгазете о комиссии по литературному > наследию Эммануила Генриховича1, как хорошо, что она организована, а главное, что будет сборник разных материалов, воспоминаний – это очень важно. Людям.
Хорошо, что Женя в комиссии, она многое сумеет сделать – дитя души Э<ммануила> Г<енриховича>! Он очень Женю любил, любовью более чем отцовской, какой-то и товарищеской ещё, вообще это трудно выразить; помню, как, когда Женя уезжала в Красноярск, отец, наперекор всем отцам Советского Союза, больше всего тревожился, как бы она там замуж не вышла, а на все прочие трудности красноярского быта и бытия откровенно рукой махал: справится!
Милая, милая моя Галюша, всё, что хотела бы Вам сказать, всё, что хочу Вам сказать всё это время, – решительно за пределами слов – Вы это знаете. Так что и говорить не буду. Только скажу, что то, что помню об Э.Г., обязательно напишу2 и пришлю или принесу, если буду в Москве, – конечно, не для сборника, а просто, чтобы где-то осталось ещё одно свидетельство любви, и огромного уважения к нему, и безмерной благодарности за то, что он успел сделать, за то, что он был. Он не просто «был», он и остался.
Простите сбивчивость и никчемность этих строк. Обнимаю Вас и Женю. Будьте все здоровы. Приеду в Москву – позвоню – м. б. повидаемся?
Ваша А. Эфрон
1 Э.Г. Казакевич скончался 22 сентября 1962 г.
2 См. «Воспоминания о Казакевиче» в наст. изд. Т. III.
Е.Я. Эфрон
23 февраля 1963
Дорогая Лиленька, сегодня утром вспомнились Ваши слова о том, что мама не поняла (или тогда не понимала) Ю<рия> 3<авадского>. И подумала о том, что мама за всю свою жизнь правильно поняла од-ного-единственного человека – папу, т. е. понимала, любила и уважала всю жизнь. Во всех прочих очарованиях человеческих (мужских) она разочаровывалась; очарование могло длиться, только если человек оставался за пределами досягаемости жизненной (скажем, Пастернак) или за пределами жизни (зримой!) – т. е. умирал, а умирая -вновь воскресал для неё. Именно в этом, пожалуй, разгадка её творчества, в котором не признавала она сегодняшнего дня, которое всегда было над и вне, в котором она видела заочно. Именно в этом (уже в человеческом плане) разгадка её «непонимания» Зав<адского> (если оно было, о чём не могу судить, не зная Завадского). Ибо Ю<рий> А<лександрович> был человеком театра, т. е. области, наиболее чуждой маминой сущности, области зримого мира. В этом, пожалуй, разгадка той отчуждённости, к<отор>ая у неё к нему всегда была: во-первых, в душу он проник «через зрение» (красоту), во-вторых, призванием его был мир зримый, т. е. театр, зримый мир для зрителя... Театр – пусть самый «заочный», т. е. не- и анти-реалистичный (особенно в те годы), – всё же зрелище, т. е. нечто чуждое маминой сущности человеческой и творческой. Все остальные члены того студийного кружка были дороги ей как раз не приверженностью к «зримому», т. е. театру: Павлик – поэт, собрат; Володя Алексеев – бросил «зримое» и ушёл в армию, на смерть, ушёл в «незримое»; Сонечка Голлидэй, по отзыву Мчеделова, могла играть только себя, т. е. свою душу-живу, т. е. не была актрисой при всём своём таланте; да никто из тех, кто тогда маме был близок, не связал своей жизни с театром впоследствии. (Сонечка была чтицей, т. е. и для неё слово стало сильнее зримости, было отделено ею от зримости театра...)
В театре уцелел только 3<авадский> (не будем говорить, как уце лел, в этом не он виноват!). Всё дело в том, что в маме и в Ю.З. встретились по-своему «материя с анти-материей», мир зримый, мир через зрительность, с миром невидимым, незримым, подспудным. И, встретившись (через слово, через стихию слова, роднящую оба этих
мира), —взаимоуничтожились друг для друга и друг в друге. Ю.З. ведь
тоже не понял маму, как чуждое, как «антимир».
Не знаю, разберётесь ли Вы в этом, для меня самой недостаточно продуманном... надеюсь, что голова не разболится от моих каракуль. Забыла (всегда что-нб. забываю!) захватить виноградный сок для Вас; в следующий раз привезу. Крепко целую обеих.
Ваша Аля
П.Г. Антокольскому
13 марта 1963
Дорогой Павел Григорьевич! Гатов1 сказал мне, что в каком-то переводческом ежегоднике (простите за «каком-то» – м. б. это очень знаменитый ежегодник, да я – невежда!) собираются поместить мамину статью о «Двух лесных царях»5454
В 1934 г. опубликованы в «Числах» № 10, 1934 г. (Париж) (примеч. А.С. Эфрон).
[Закрыть], Вы, верно, её знаете. Он хочет просить Вас написать коротенькое вступление о Цв<етаевой>-пере-водчице, о том же и я очень прошу Вас2. Посылаю Вам те крохи, что удалось наспех собрать перед отъездом: мама начала заниматься переводами в 1919 г.3, когда перевела для 2-й студии «On ne badine pas avec Г amour» Musset5555
«С любовью не шутят» А. Мюссе (фр.).
«Эти революционные песни – песни человеческого сострадания, призыв к лучшей жизни, к великим действиям и к великим решениям... Я всегда готова переводить песни о труде, о будущем, о доброте, о человеческом сочувствии...» (фр.).
[Закрыть] (рукопись не сохранилась, но, видно, хорошо было сделано – в тот самый поток её собственных пьес!). Потом, в 30-е годы, в Париже, она увлеклась переводами революционных (старых) русских песен – в т. ч. «Замучен тяжёлой неволей» и «Вы жертвою пали» блестяще переведены ею на фр<анцузский>. (Переводила для заработка, но с увлечением.) В 1934 перевела на французский> ряд современных революц<ионных> и советских песен, к<отор>ые и сейчас поются в Париже (в т. ч. «Полюшко-поле», «Марш» из «Весёлых ребят» и др.). В 1936 перевела много пушкинских стихов (на фр<анцузский>), из к<отор>ых в Париже было опубликовано два (всего лишь! – но всё же больше, чем здесь!) – песнь из «Пира во время Чумы» и «К няне». В 1939-40-41 -м много переводила уже здесь -чехов, белорусов, немцев, Важа Пшавела, англ<ийские>. баллады, Бодлера... всего не помню4. Во Франции перевела на фр<анцузский> своего «Молодца» (Гончарова сделала к нему иллюстрации); 1-2 главы были опубл<икованы> в Бельгии, в 30-х годах. В Москве в 40-м году перевела на фр<анцузский> ряд стихотворений Лермонтова.








