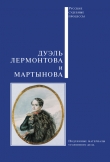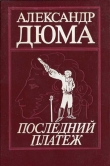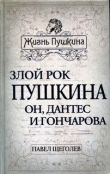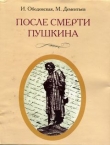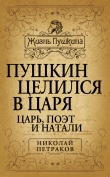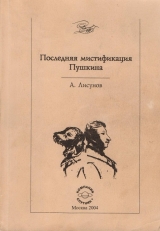
Текст книги "Последняя мистификация Пушкина"
Автор книги: Андрей Лисунов
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
Вскоре подошел я к В.А.Жуковскому, кн. Вяземскому и гр. Виельгорскому и сказал: отходит! Бодрый дух все еще сохранял могущество свое – изредка только полудремотное забвение на несколько секунд туманило мысли и душу. Тогда умирающий, несколько раз, подавал мне руку, сжимал ее и говорил:
«Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше – ну пойдем!» Опамятовавшись сказал он мне: «Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу вверх по этим книгам и полкам, высоко – и голова закружилась».
Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, стал искать мою руку и, потянув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе!»
Друзья и ближние, молча, сложа руки, окружили изголовье отходящего. Я, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше. Он вдруг, будто проснувшись, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал:
«Кончена жизнь».
Я не дослышал и спросил тихо: «Что кончено».
«Жизнь кончена», – отвечал он внятно и положительно.
«Тяжело дышать, давит» – были последние слова его. Всеместное спокойствие разлилось по всему телу – руки остыли по самые плечи, пальцы на ногах, ступни, колена также, – отрывистое, частое дыхание изменялось более и более на медленное, тихое, протяжное – еще один слабый, едва заметный вздох – и – пропасть необъятная, неизмеримая разделяла уже живых от мертвого![709].
Было 2 часа 45 минут. Пушкина не стало.
Круги по воде
Пушкин умер, но катастрофа 1837 года на этом не закончилась. Дуэльная история, перестав быть частным делом пушкинской семьи, вышла на поверхность, поселилась в умах и сердцах многих людей. Слухи и домыслы как круги по воде стали расходиться по стране, вызывая волнение и смуту в настроениях россиян.
Люди, собравшиеся у дома Пушкина, в большинстве своем книг его не читали. Они просто слышали, что иностранец убил русского, к тому же поэта, а значит, ранимого и беззащитного, и пришли выразить несогласие с засильем иностранцев, которые своим самолюбованием и хищными повадками разрушали патриархальный, семейный уклад российской жизни.
Были здесь и читатели Пушкина – в основном студенты, но они читали и принимали у поэта только то, что он написал в молодости, находясь в поиске, переживая «дух отрицания или сомнения». Их привели сюда строки из «Кинжала»:
Везде его найдет удар нежданный твой ...
О юный праведник, избранник роковой...[710].
Они не знали, да и не могли знать, поскольку время для воспоминаний еще не наступило, что зрелый поэт, отказавшись от крови и насилия, совсем иначе оценивал свой ранний поэтический опыт:
Это плохо, высокопарно! ...Мне кажется, что это стихотворение я написал на ходулях, так оно напыщенно. Как человек глуп, когда он молод! Мои герои того времени скрежещут зубами и заставляют скрежетать зубами меня самого[711].
Правительство, заметно состоявшее из иностранцев, и царь, по крови тоже иностранец, испугались народного движения и в духе европейского «просвещения» приняли самые радикальные и подлые меры: выставили жандармов, тайно перенесли место панихиды, а главарей и зачинщиков стихийного выступления нашли среди друзей поэта, ввергнув их в полное замешательство.
Вяземский и Жуковский принялись оправдываться, явно искажая смысл дуэльной истории, не щадя достоинства поэта. А ведь, именно, в достоинстве писателя[712], по мнению Пушкина, заключалась его народность!
Исключая даже намек на политическую окраску событий, они настаивали на частном характере катастрофы, на ее случайной связи с народным волнением. И все высокое, справедливое и поэтическое, сказанное ими о последних днях Пушкина, было продиктовано лишь одним желаньем скрыть от читателя и общества факт, что в отношениях поэта и власти назрел кризис, что последний и главный опыт в жизни поэта – его работа над «Историей Петра» – работа, безусловно, политическая – оказалась невостребованной властью, что призыв к переосмыслению истории и возрождению подлинной русской культуры, не был услышан Николаем.
Жуковский совестился, чувствуя, что грешит, публикуя «Последние минуты Пушкина». Его письмо к Бенкендорфу, способное в какой-то мере исправить следы невольного отступничества, было исполнено боли, искреннего чувства и справедливого, едва сдерживаемого, гнева:
Пушкин хотел поехать в деревню на житье, чтобы заняться на покое литературой, ему в том было отказано под тем видом, что он служил, а действительно потому, что не верили. Но в чем же была его служба? …Его служба была его перо, его “Петр Великий”, его поэмы, его произведения, коими бы ознаменовалось нынешнее славное время? Для такой службы нужно свободное уединение. Какое спокойствие мог он иметь с своею пылкою, огорченною душой, с своими стесненными домашними обстоятельствами, посреди того света, где все тревожило его суетность, где было столько раздражительного для его самолюбия, где, наконец, тысячи презрительных сплетней, из сети которых он не имел возможности вырваться, погубили его...[713].
Друг поэта произнес слова, к которым непременно следует прислушаться:
Вы называете его и теперь демагогическим писателем… Уверяю вас напротив, что Пушкин (здесь говорится о том, что он был в последние свои годы) решительно был утвержден в необходимости для России чистого, неограниченного самодержавия, и это не по одной любви к нынешнему государю, а по своему внутреннему убеждению, основанному на фактах исторических (этому теперь есть и письменное свидетельство в его собственноручном письме к Чадаеву)[714].
А далее следовали строки, говорящие, что Жуковский прекрасно понимал истинный смысл событий, происходящих вокруг поэта:
Пушкин умирает убитый на дуэли, и убийца его француз, принятый в нашу службу с отличием; этот француз преследовал жену Пушкина и за тот стыд, который нанес его чести, еще убил его на дуэли… Если бы, таким образом, погиб и простой человек, без всякого национального имени, то и об нем заговорили бы повсюду, но это была бы просто светская болтовня, без всякого особенного чувства. Но здесь жертвою иноземного развратника сделался первый поэт России, известный по сочинениям своим большому и малому обществу. Чему же тут дивиться, что общее чувство при таком трагическом происшествии вспыхнуло сильно...[715].
Жуковский давал перечень примет этого возмущения:
по слухам, дошедшим до меня после, полагаю, что блюстительная полиция подслушала там и здесь (на улицах, в Гостином дворе и проч.), что Геккерну угрожают; вероятно, что не один, а весьма многие в народе ругали иноземца, который застрелил русского, и кого же русского, Пушкина? Вероятно, что иные толковали между собою, как бы хорошо было его побить, разбить стекла в его доме и тому подобное; вероятно, что и до самого министра Геккерна доходили подобные толки, и что его испуганное воображение их преувеличивало, и что он сообщил свои опасения и требовал защиты. С другой стороны, вероятно и то, что говорили о Пушкине с живым участием, о том, как бы хорошо было изъявить ему уважение какими-нибудь видимыми знаками; многие, вероятно, говорили, как бы хорошо отпрячь лошадей от гроба и довезти его на руках до церкви; другие, может быть, толковали, как бы хорошо произнести над ним речь и в этой речи поразить бы его убийцу, и прочее, и прочее. Все подобные толки суть единственное следствие подобного происшествия; его необходимый, неизбежный отголосок.
Жуковский не забывал и о себе. Он тут же вспомнил о своем участии в скорбном мероприятии, но сделал это с достоинством, нисколько не пытаясь выгородить себя:
Вдруг полиция догадывается, что должен существовать заговор, что министр Геккерн, что жена Пушкина в опасности ... назначенную для отпевания церковь переменили, тело перенесли в нее ночью, с какой-то тайною, всех поразившею, без факелов, почти без проводников; и в минуту выноса, на который собралось не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились о умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражею проводили тело до церкви. Какое намерение могли в нас предполагать? Чего могли от нас бояться? Этого я изъяснить не берусь. И, признаться, будучи наполнен главным своим чувством, печалью о конце Пушкина, я в минуту выноса и не заметил того, что вокруг нас происходило; уже после это пришло мне в голову и жестоко меня обидело[716].
Какое благородное и верное письмо! Вот если бы с ним Жуковский вышел к российской публике, а не с «Последними минутами Пушкина», выполненными в верноподданническом духе и говорившими совсем о другом – о трогательном единстве поэта и власти, о том, как правительство понимало и заботилось о Пушкине. Куда как спокойней было писать:
Редкий из посетителей, помолясь перед гробом, не помолился в то же время за государя, и можно сказать, что это изъявление национальной печали о поэте было самым трогательным прославлением его великодушного покровителя[717]!
Отведя душу в письме к Бенкендорфу, Жуковский не решился опубликовать его. Соотечественникам оставалось догадываться, что же на самом деле произошло между царем и поэтом. Друг заботился о будущем детей Пушкина, забывая о будущем страны, в которой им предстояло жить. Стоит ли удивляться, что дочь поэта – Мария – умрет без средств к существованию в голодной Москве в далеком 1919 году!
Примерно за месяц до этого написал свое письмо к великому князю и Вяземский. Правда, цель этого послания была несколько иной. Если Жуковского искренне возмутило циничное отношение правительства к поэту, то Вяземский желал одного – личного оправдания перед властью. Работал он не один: ему помогали жена и Долли Фикельмон. Письмо сопровождалось доказательной базой – целой подборкой документов – и от того имело внушительный вид.
Князь начинал с красивой фразы, как бы защищавшей друга: «Клевета продолжала терзать память Пушкина, как терзала при жизни его душу». Но слова эти были лишь прелюдией к выражению мыслей другого рода:
Я не из тех патриотов, которые содрогаются при имени иностранца, я удовлетворяюсь патриотизмом в духе Петра Великого, который был патриотом с ног до головы, но признавал, несмотря на это, что есть у иностранцев преимущества, которыми можно позаимствоваться[718].
Вяземский прекрасно понимал, что этим заявлением он сам более других терзает память Пушкина. Он даже сознавался, что между ним и поэтом,
бывало иногда разномыслие в так называемых чисто русских вопросах. Он, хотя вовсе не славянофил, примыкал нередко к понятиям, сочувствиям, умозрениям ... России, не признающей Европы ... то есть допетровской России[719].
Так князь давал понять власти, что в ее разногласиях с поэтом он целиком находился на стороне власти. Его крайне расстроило,
что выражения горя к столь несчастной кончине, потере друга, поклонения таланту были истолкованы, как политическое и враждебное правительству движение.
И он дал событиям свое толкование:
Старый граф Строганов, родственник г-жи Пушкиной, поспешил объявить, что он берет на себя издержки по похоронам. ...Он хотел, чтобы похороны были насколько возможно торжественнее, так как он устраивал их на свой счет. ...Могли ли мы вмешиваться в распоряжения графа Строганова?
Выходит, во всех невольных «излишествах», заметных приготовлениях виновен был Строганов, а друзья поэта, занятые своим горем, не обратили на них внимание? Конечно, в черновике Вяземский попытался говорить о ложности полицейских донесений, о нелепости правительственных мер, но все это выходило опять же дерзко. Проще было перевести внимание на всемогущего Строганова, а себя изобразить случайной жертвой:
Не было той нелепости, которая не была бы нам приписана... Клянусь перед богом и перед вами, что все, чему поверили, или хотели заставить поверить о нас, – была ложь, самая отвратительная ложь. ...Боже великий! Как могла какая-нибудь супротивная мысль закрасться туда, где было одно умиление, одна благоговейная преданность, где характер государя явился перед нами во всей своей чистоте, во всем, что только есть в нем благородного и возвышенного, когда он бывает сам собою, когда действует без посредников?
Князь вычеркнул опасные строчки о неловких действиях правительства и принялся с пафосом отстаивать образ поэта, который, как ему казалось, вполне устраивал власть:
Кроме того, какое невежество, какие узкие и ограниченные взгляды проглядывают в подобных суждениях о Пушкине! Какой он был политический деятель! Он прежде всего был поэт, и только поэт.
Впрочем, клятвы и уверения Вяземского не многого стоили. Великий князь имел ясные представления о подлинных взглядах поэта. Пушкинская фраза: «Вы истинный член вашей семьи. Все Романовы революционеры и уравнители»[720] не могла не врезаться ему в память. И Вяземский знал о разговорах поэта с Михаилом Павловичем, именно, на политические темы. И все же писал, играя в наивность, демонстрируя свою якобы неосведомленность в делах и мыслях друга. Между тем, когда приходило время утверждать обратное, как, например, в «Биографическом и литературном известии о Пушкине», он ничуть не смущался и с тем же пафосом заявлял о поэте:
Когда говорил он о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентарных прений[721].
А как же иначе?! Историограф, государственный деятель, занимавшийся культовой фигурой Петра – и вдруг не политик?! Сказать о таком человеке, что он «поэт, и только поэт», означало откровенно унизить его личные и творческие достоинства. И Вяземский с легкостью делал это. «Шутки, некоторая независимость характера и мнений – еще не либерализм и не систематическая оппозиция. Это просто особенность характера» – заявлял он без тени смущения и добавлял:
он был не либерал, а аристократ и по вкусу, и по убеждениям[722].
И все недоразумение заключалось в том, что
истинные его убеждения не сходились с доносами о нем полиции. Но разве те, кто их составлял, знали Пушкина лучше, чем его друзья? ...Разве генерал Бенкендорф удостоил меня, хотя бы в продолжение четверти часа разговора, чтобы самому лично узнать меня?[723].
Шеф жандармов, выходит, был сам виноват – упустил ценного сотрудника, готового работать на правительство?! Лепет Вяземского – жалкий и малоубедительный – все же успокаивал власть и тем самым достигал своей цели.
Важно иметь в виду, что новое аристократическое общество боялось вовсе не либеральной, в современном понимании, критики поэта. Во дворце хорошо знали, что поэт пережил романтические идеалы молодости и не тешил себя мыслью о «справедливом» переустройстве мира. Наоборот, тревогу вызывали его консервативные взгляды – нравственное осуждение казнокрадства и хищных чиновничьих порядков – всего того, что принесли с собой Романовы, «революционеры и уравнители», что нашло свое отражение, например, в известном стихотворении «На выздоровление Лукулла»:
Он мнил: «Теперь уж у вельмож
Не стану нянчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож;
В подвалах, благо, есть излишек.
Теперь мне честность – трын-трава!
Жену обсчитывать не буду,
И воровать уже забуду
Казенные дрова!»[724].
Однако, в пушкинские времена под либерализмом понимали любое несогласие с властью, независимо от его политического направления. Именно, поэтому в «Отчете о действиях корпуса жандармов за 1837 год» говорилось, что
Пушкин соединял в себе два единых существа: он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти.
Отсюда возникала путаница в определениях: любой критикующий либеральные изменения власти объявлялся вольнодумцем и либералом, а защитник либерализма ходил в консерваторах. Впрочем, этот казус никого не вводил в заблуждение. Погодин писал в дневнике 2 марта:
Ездил к Аксаковым... Толковали о впечатлении, произведенном смертью Пушкина в обществе, при дворе и проч., между литераторами. Пушкина боялись все и ждали стихов в роде Уварову[725].
Последняя оговорка Погодина многих наводит на мысль, что травлю поэта организовал министр народного просвещения – главный фигурант стихотворения «На выздоровление Лукулла». При этом как-то упускается из виду фраза: «боялись все и ждали». Стал бы хитроумный Уваров отрабатывать за всех? Думается, не в его интересах было торопить события, которые и так толкали поэта на конфликт с обществом и властью.
Опальному Тургеневу нечего было бояться, но и он чувствовал неловкость по отношению к поэту:
31 генваря. Воскресенье. Зашел к Пушкину. Первые слова, кои поразили меня в чтении псалтыря: “Правду твою не скрыв в сердце твоем”. Конечно, то, что Пушкин почитал правдою, то есть злобу свою и причины оной к антагонисту – он не скрыл, не угомонился в сердце своем и погиб[726].
Это была точка зрения честного, но не слишком проницательного человека. Тургенев записывал то, что видел, а видел он растерянность друзей и всего общества:
Знать наша не знает славы русской, олицетворенной в Пушкине. ...Обедал у Карамзиных. Спор о Геккерне и Пушкине. Подозрения опять на князя Ивана Гагарина. После обеда на панихиду. Оттуда пить чай к княгине Мещерской – и опять на вынос. В 12, то есть в полночь, явились жандармы, полиция, шпионы – всего 10 штук, а нас едва ли столько было! Публику уже не впускали. В 1-м часу мы вывезли гроб в церковь Конюшенную, пропели заупокой, и я возвратился тихо домой[727].
Тихо возвратились домой и остальные друзья поэта. Они не понимали пушкинской правды, а потому робели перед откровенной наглостью власти. Их спор о Дантесе и Пушкине привел к неутешительному выводу. Виновного они нашли на стороне – Ивана Гагарина. Он, по их мнению, написал анонимку, и спровоцировал Пушкина на отчаянный поступок. Но ловить анонимщика за руку никто не собирался – слишком поверхностным и неубедительным было обвинение.
Геккерны знали о настроениях в доме убитого, а потому не постеснялись на следующий день – 1 февраля – прийти туда для налаживания родственных отношений. Дантесу грозил суд и благоволение семьи погибшего, особенно вдовы, могло существенно облегчить участь кавалергарда. Депутация княгини Долгоруковой с просьбой поэта о примирении вроде бы позволяла им надеяться на это. Но в доме Пушкина они потерпели фиаско. Жуковский написал в своем третьем конспекте:
В понедельник приезд Геккерна и ссора на лестнице[728].
Впрочем, первоначально запись выглядела иначе: «В понедельник приезд Дантеса с». Далее могло следовать: «с отцом» или «с Геккерном», а возможно и с «женой» или «с Екатериной». Но Жуковский заменил имена, как будто отредактировал ошибочное сообщение. Сам он при этой сцене не присутствовал, а пользовался чьим-то свидетельством – вероятно, опять же Александрины. Тело поэта уже перевезли в церковь, и посторонние покинули дом. Никто не мог помешать доверительной беседе родственников. И вряд ли Геккерны пошли на нее без участия Екатерины. Самостоятельное появление одного из них у вдовы вызвало бы неудобные вопросы, а вот сопровождение жены или невестки, желающей принести соболезнование сестре, выглядело бы вполне естественным и не нарушало норм приличия.
Состоялся ли разговор между сестрами, участвовал ли в нем Дантес или Геккерн, или все ограничилось тем, что визитеров не пустили в дом – сказать трудно. Ссора на лестнице могла произойти как до, так и после обмена любезностями. Жуковский, отметив место происшествия, ничего не написал о его участниках. Можно предположить, что зачинщицей скандала выступила Александрина, склонная к нравоучениям и патетике. Как уже говорилось, больнее всего дуэльная история ударила по ней. С одной стороны, она лишилась возможности перебраться к Геккернам, а с другой – потеряла Пушкина, который имел перед ней обязательства. Ее сестры могли хоть как-то утешиться: одна оставалась при муже, а другая – при детях, но с обеспеченным будущим. И только Александрине отводилась роль неутешной бесприданницы. Провожая Геккернов, она не сдержала гнева и сказала что-то резкое. Как бы то ни было, в этот день Наталья Николаевна не появилась у гроба мужа – сказалась больной. Возможно, это было отголоском визита Геккернов.
А тем временем, Тургенев усердно исполнял обязанности хроникера, составляя разнообразный «гербарий» из лиц и событий трагического дня, в который отпевали Пушкина:
В 11 часов нашел я уже в церкви обедню, в 10 Ѕ начавшуюся. Стечение народа, коего не впускали в церковь, по Мойке и на площади. Послы со свитами и женами. Лицо Баранта: единственный русский (фр.) – вчера еще, но сегодня генералы и флигель-адъютанты. Блудов и Уваров: смерть – примиритель. Крылов. Князь Шаховской. Дамы-посольши и пр. Каратыгин, молодежь. Жуковский. Мое чувство при пении. Мы снесли гроб в подвал. Тесновато. Оттуда к вдове: там опять Жуковский. ...Все описал сестрице и для других...[729].
«Смерть – примиритель» – писал Тургенев?! И сам тут же добавлял – «тесновато...». От чего же тесновато? Конечно, растерянность, если не сказать больше – паника. Весь генералитет собрался у гроба поэта. К чему бы это? Вероятно, потому что государь оказал благодеяния семье Пушкина. Но зачем столько торжественности, церемонности? Разве не понятно, что произошла семейная трагедия, драма ревности – сугубо частное событие? В том то и дело, что многие в это не верили и хотели понять, что происходит на самом деле.
Еще более непонятно было, как царь организовал похороны Пушкина?! Тургенев записал в дневнике от 2 февраля:
Жуковский приехал ко мне с известием, что государь назначает меня провожать тело Пушкина до последнего жилища его. Мы толковали о прекрасном поступке государя в отношении к Пушкину и к Карамзину[730].
О «прекрасном» поступке государя уже говорилось, но почему друзья так охотно согласились с почти тайным захоронением поэта? Иначе как смущением это объяснить невозможно! Читая хронику Тургенева, начинаешь понимать степень их растерянности:
Встретил Даршиака, который едет в 8 часов вечера, послал к нему еще письмо к брату ...У князя Вяземского написал письмо к графу Строганову, обедал у Путятиных и заказал отыскать кибитку. Встретил князя Голицына, и в сенях у князя Кочубей прочел ему письмо и сказал слышанное: что не в мундире положен, якобы по моему или князя Вяземского совету? Жуковский сказал государю, что по желанию жены. Был в другой раз, до обеда у графа Строганова, отдал письмо, и мы условились о дне отъезда. Государю угодно чтобы завтра в ночь. Я сказал, что поеду на свой счет и с особой подорожной. ...К Жуковскому: там Спасский прочел мне записку свою о последних минутах Пушкина. Отзыв графа Б<енкендорфа?> Гречу о Пушкине. ...Куда еду – еще не знаю. Заколотили Пушкина в ящик. Вяземский положил с ним свою перчатку. Не поехал к нему, для жены[731].
По городу поползли слухи. Начались пересуды – состязание нелепостей, на первый взгляд, бессмысленных. Но как фрагменты всякой разбросанной мозаики, вместе они составляли живую картину тех дней – куда более полную, чем та, что спустя годы возникла из воспоминаний современников.
Девица М.К.Мердер – далеко не новичок в светской жизни (ей шел двадцать второй год) – с детской непосредственностью обозревала все, что происходило вокруг нее:
28-го января 1837 г. Четверг… Вот к чему привела женитьба барона Дантеса! Раз дуэли было суждено состояться, то уж не проще ли было покончить с мужем прежде, чем обвенчаться с сестрою его жены?[732]
Так она задавала невинный и вместе с тем весьма справедливый вопрос и сама же отвечала на него:
В моем распоряжении две версии. Тетя рассказывает одно, бабушка совсем другое – последнее мне милее. У бабушки Дантес-де-Геккерн является «галантным рыцарем». Если верить тете – «это – грубая личность».
Мердер разбирала самые пикантные новости:
Говорят, будто со дня свадьбы, даже ранее венчания, Пушкина преследовали анонимные письма. Одно из них он не в силах был переварить: под изображением рогов стояло множество имен обманутых мужей, выражавших свое восхищение по поводу того, что общей их участи не избежал человек, пользующийся репутациею далеко не добродушного, которому случается даже и поколачивать жену[733].
Рассуждая о финальном эпизоде поединка, она с удивлением заметила:
Возможно ли, имея простреленные внутренности, найти в себе достаточно силы, чтобы стрелять?
И самокритично добавила:
Бал...ин, очевидно, прав, говоря, что все женщины отдают предпочтение бездельникам: Дантес мне симпатичнее Пушкина... Матушка послала камердинера узнать, жив ли А.С.Пушкин[734].
В эти дни многие следили за состоянием поэта. М.Неверов писал 28 января С.П.Шевыреву в Москву:
Наш поэт, наш бедный Пушкин борется со смертию и, может быть, в эту минуту уже более не существует. Вчера вечером он имел жестокую дуэль со своим свояком Дантесом и ранен смертельно пулею в левый бок. Причины этого страшного приключения еще не известны, но по всему видно, что то была оскорбленная честь супруга; впрочем, зачем оскорблять, может быть, невинных – рассказываю факт и умолчу о толках, разнесшихся по городу. Не прошло трех недель, как Пушкин выдал сестру жены своей за Дантеса, и вот он на смертном одре. Дантес также ранен, но не опасно. Стрелялись в шести шагах – и два раза. Сегодня вечером Арендт сделал операцию Пушкину – отчаянную операцию – и, бог знает, какие будут следствия[735].
Достоверность своего фантастического сообщения Неверов подкрепляет «безупречным» фактом:
Я живу возле того дома, который занимает Пушкин, и нас разделяет только стена, так что получаю через человека известия о всех переменах с больным.
Что уж теперь говорить об откровениях тех, кто жил за квартал и более от дома поэта?! Они ведь тоже опирались на «надежные» источники...
«Пушкин убит на дуэли. Расскажу Вам подробности этого дела, тем больше, что я узнал их от самых верных людей. Александр Степанович слышал от князя Вяземского» – так начинал Н.Г. Осокин письмо к отцу 1 февраля в Вологодскую губернию и продолжал:
Пушкин был знаком одному кавалерийскому офицеру, сыну голландского посланника; этот офицер часто посещал жену Пушкина ...и имел на нее не слишком благородные виды; чтобы прикрыть эти преступные намерения, он притворился влюбленным в сестру жены Пушкина, придворную даму, и вынужденный обстоятельствами женился на ней, но через шестнадцать дней после свадьбы возобновил опять свои виды на жену Пушкина и, вероятно, не имея успеха, расславлял в обществе, что он имеет связи с его женой, – и был настолько бесстыден, что однажды приглашал его ехать на бал этими словами: «Поедем к графине, там сегодня будет много рогоносцев, тебе кстати быть там». Обиженный Пушкин пишет к его отцу самое пасквильное письмо – сын посланника вызывает его на дуэль, и 29 числа дуэль состоялась. Стрелялись из пистолетов на близком расстоянии, и Дантес стрелял первый и ранил Пушкина под сердце, – тот упал, но поднятый секундантами, раздробил руку Дантеса; тотчас его привезли домой, с два часа жил после дуэли, получил прощение императора и умер со словами: «Ах! пуля дура»[736].
Удивительно глупые слова! Но, в целом, они отражали точку зрения Вяземского, смотревшего на происходящее глазами литератора. «Какая драма, какой роман, какой вымысел сравнится с тем, что мы видели! Когда автором выступает Провидение, оно выказывает такую силу воображения, перед которой ничтожны выдумки всех сочинителей, взятых вместе» – писал он Мусиной-Пушкиной 16 февраля в Москву и тут же разворачивал перед ней картину воображаемого апокалипсиса:
Мои насмешки над красными принесли несчастье. Какое грустное, какое позорное событие! Пушкин и жена его попали в гнусную западню, их погубили. В этом красном столько же черноты, сколько и крови; надеюсь, вы заперли для него двери. Как-нибудь я расскажу вам подробно всю эту мерзость. Я должен откровенно высказать вам (хотя бы то повело к разрыву между нами), что в этом происшествии покрыли себя стыдом все те из красных, кому вы покровительствуете, все ваше Красное море. У них достало бесстыдства превратить это событие в дело партии, в дело о чести полка. Они оклеветали Пушкина, и его память, и его жену, защищая сторону того, кто всем поведением уже был убийцей Пушкина, а теперь и в действительности застрелил его[737].
Надо ли говорить, что Вяземский никому, никогда, ничего подробного об этой «мерзости» не рассказывал, что этим «разоблачением» он добивался одного – установить контроль над воображением испуганной дамы и добиться отставки конкурента?!
Вы должны довериться мне; вы не знаете всех данных, вы не знаете всех доводов, на которые опирается мое суждение; вас должна убедить моя уверенность, ее вы должны принять[738]
– восклицал он в демиургическом порыве и примерно тут же – 14 февраля писал великому князю:
Мы так никогда и не узнали, на чем было основано это предположение... Только неожиданный случай дал ему впоследствии некоторую долю вероятности. Но так как на этот счет не существует никаких юридических доказательств, ни даже положительных оснований, то это предположение надо отдать на суд божий, а не людской[739].
Как видим, не отдал! Но и помимо князя нашлось немало охотников подменить Провидение игрой воображения. А.Ф. Воейков писал А.Я. Стороженко 4 февраля в Варшаву:
Причиною ссоры между творцом «Онегина» и творцом пакостей была, как говорят, ревность ...одна дама, влюбленная в Дантеса, стала писать к Пушкину письма anonymes, в коих то предупреждала его, то насмехалась над ним, то уведомляла, что он принят в действительные члены Общества рогоносцев. Жена Пушкина кокетствовала с ним и тем еще больше разжигала ревность мужа, в жилах которого кипела африканская кровь деда его Ганнибала. Однажды, встретив его у своей жены, Пушкин грозно спросил: зачем он так часто ездит к нему? Тот, не собравшись с духом, отвечал, что влюблен в сестру жены его. «Так женитесь же на ней!» возразил Пушкин. И тотчас же их обручили. 9 января нынешнего года была объявлена свадьба, а 27, как уверяют, он опять нашел в гостях у своей жены Дантеса и вызвал его на поединок[740].
Ревность, африканская страсть, появления загадочной дамы, встречи Дантеса и Натальи Николаевны в доме Пушкина – все это очень напоминает воспоминания Соллогуба. То, что Воейков черпал свои сведения не от Вяземского и Жуковского, своего ближайшего родственника, видно из сообщения, которое явно расходится с желанием друзей «облагообразить» кончину поэта: «Пушкин уже сам потребовал священника и приобщился св. тайн прежде, чем получил всемилостивейший рескрипт государев». Желчный и неуживчивый Воейков замечает и другую малоизвестную, но довольно важную, подробность, о которой еще пойдет речь:
Два сына его взяты в пажи, дочери в один из женских институтов; в указе камер-юнкер Пушкин наименован камергером.