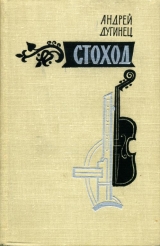
Текст книги "Стоход"
Автор книги: Андрей Дугинец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
Хозяйка быстро пошла в дом. На крыльце, мельком взглянув на Олесю, она вдруг остановилась. Сухое лицо ее перекосилось, фиолетовые жилы на шее вздулись.
– А-а-а! Слушаешь и смеешься?
Олеся еще не умела притворяться и скрывать свои чувства, она действительно смеялась.
– Лапотница! Жрешь мой хлеб, носишь мое платье, учишься строить глазки моему мужу, да еще и смеешься над моим несчастьем?! – Выхватив из руки Олеси банку с охрой, хозяйка замахнулась ею.
Но тут подоспел Антон и вырвал банку. Евклазия Илиандровна обернулась и от удивления разинула рот. Антон спокойно поставил банку на перила крыльца. Хозяйка отступила к двери, изогнулась и только тогда зашипела:
– А-а-ах! Во-от ш-што! Вот оно ш-што! Урод! Квазимода! Грязный Квазимода! Вон! Вон со двора! – И убежала в комнату, гулко хлопнув дверью.
Антон, уже однажды пострадавший из-за странного, непонятного слова, догадывался, что оно более оскорбительно, чем все, что обычно говорят люди в перепалке. Он молча выпряг коня и пустил его на луг. Потом так же молча пошел в свой чулан, пристроенный за стенкой конюшни, и начал собирать пожитки.
Явился хозяин и стал уговаривать его не уходить. Рындин знал, что другого такого батрака не найти: работает за двоих, не пьянствует, никогда ни в чем не перечит.
– Я вам ничего не должен, – сказал Антон. – А работу я найду. Была б крэпка шея, а ярмо найдется.
Но тут вбежала Олеся, ухватилась за своего заступника, заголосила:
– Дядя Антон! Дядя Антон! Не уходите! Бронь боже, бронь боже! Не уходите. Кто ж за меня будет заступаться? Я тогда утоплюсь! Обязательно утоплюсь.
Антон уронил на пол свой узелок. И, положив тяжелые шершавые руки на вздрагивающие худенькие плечи девушки, задумался. За месяц они сроднились. Олеся казалась ему сестрой, дочерью, другом – всем, чего ему не хватало в его одинокой, нескладной жизни. И теперь он потеряет ее, может быть, навсегда…
– Добрэ. Будем вместе бедовать, – проговорил он устало.
Хозяин ласково улыбнулся Олесе, дал злот и ушел.
– Будь она не такая сатана, то жить можно бы, – тихо сказала Олеся, когда захлопнулась дверь, – хозяин у нас неплохой. Всегда веселый и щедрый.
– Э-э, голубонька, ошибаешься ты. Крэпко ошибаешься. Веселый он да щедрый только для себя. А для других страшней, чем она. Куда страшней.
Антон считал, что хозяйка не хитрее и не опаснее клуши. Хоть и много кудахчет, зато вся видна как на ладони. А вот что прячет за своей улыбкой Рындин, никогда не узнаешь. Этот будет приятно улыбаться даже тогда, когда наденет человеку петлю на шею.
– Добрый! – Антон сощурил узенькие подслеповатые глаза. – Такого убить, то бог еще тыщу грехов простит. Ты берегись его, Олеся. Не оставайся с ним в комнате одна…
* * *
Пришло лето. Ягод было еще больше, чем в прошлом году. Но собирать их Грише не хотелось. В лесу теперь чего-то не хватало. Даже в самых укромных уголках было как-то неуютно, пусто.
Выгнав коров на поляну, Гриша делал дудочку и подолгу играл. Играл с таким упоением, что забывал обо всем на свете.
Мелодии его, как и всегда, рождались сами собой. И была в них большая, не по летам глубокая тоска. Тоска о чем-то невозвратно потерянном, слишком рано оборвавшемся… Иногда Грише казалось, что то, чего он ждет и повсюду ищет, скоро найдется, явится сразу же, как только он доиграет песню. А уж когда оно явится – все вокруг оживет, преобразится. Все станет и родней, и дороже, и понятней. Но кончалась мелодия. За нею Гриша придумывал другую, третью, а то, чего он ждал, так и не приходило.
Так обманывает себя человек, заблудившийся в болотах. Идет он с грудка на грудок и все поспешает пробежать последнюю трясину. Но за этой последней начинается еще более вязкая и страшная. А там еще и еще. А та, за которой должен начаться желанный берег, все так же далека, как и в начале пути.
Однажды в полдень, когда коровы отдыхали в тени, Гриша услышал тихий шорох ветвей, почувствовал, что сзади кто-то крадется. Оглянулся и увидел бородатого старика, одетого в грязное серое рванье. Незнакомец стоял за кустом ольхи и манил его пальцем.
Гриша испугался и, схватив торбу, хотел было нырнуть в кусты, но услышал торопливый шепот:
– Гриша, куда ж ты?
Голос показался знакомым. Но борода… такой густой, рыжей щетины Гриша нигде не видал. Но откуда чужой человек знает его имя? В лесу часто встречаются беглые арестанты, которых ищет полиция, нищие, бредущие от села к селу, словом, самые разнообразные люди. Но что за человек этот бородач?
Немного подумав, Гриша решил, что бояться ему нечего, раз это не приказчик и не стражник. Оставив свою торбу, он направился прямо к бродяге. А когда встретил взгляд его серых с теплой голубизной глаз, чуть не вскрикнул. Глянул по сторонам. Нет никого. Потом снова – в глаза бородача и прошептал одними губами:
– Пан учитель! Вы? Из Березы убежали?
Жесткие выгоревшие брови учителя строго сдвинулись: молчи. Словно к родному отцу после долгой разлуки, прильнул Гриша к учителю, у которого так и не пришлось ему учиться.
– Идем в ольшаник, а то кто-нибудь увидит! – сказал Александр Федорович и, хромая на левую ногу, пошел в чащу.
– Пан учитель, что у вас с ногой?
– Перебили в Картуз-Березе. Весной начала было заживать, а теперь вот походил и открылась рана. Да не беда, пройдет.
Сели в густом, пахнущем крепким огуречным рассолом, молодом ольшанике.
– Как же ты вырос! И весь в деда, – тихо говорил учитель. – Такого ясновельможным нелегко будет согнуть. А на гармошке играть научился?
Гриша сказал, что играет уже не только на вечорках, но и на свадьбах.
– А как дедушка?
– В батраки попал сразу же, как вас увезли, – опустил голову Гриша и вдруг спросил: – Вы, может, давно ничего не ели?
– Летом этого сказать нельзя, но одними ягодами да щавелем долго не проживешь. А я на этой пище вот уже вторую неделю. Я ж давно в этом лесу, да все не удавалось встретить кого-нибудь надежного, чтобы позвали Анну Вацлавовну.
Гриша мигом сбегал за торбой. Устроился рядом с учителем под ольхой. Выложил все, что у него было: печеную картошку, соль, кусочек сухаря из отрубей с толченым вьюном и луковицу.
– Ешьте. А я проверю мордушки: рыбы наварим. – И он направился было к протоке.
– Потом! – остановил учитель. – Посиди со мной.
Александр Федорович прилег, прислонившись спиной к ольхе, разделил всю еду пополам и свою долю съел в один миг. Гриша, счастливый тем, что хоть чем-нибудь может помочь учителю, уговаривал его съесть и остальное. Но тот отказался.
– Пан учитель, а помните, как мы первый раз встретились? Это ж вот тут, недалеко…
– Да, тогда мне понравилось, как ты сшиб стражника. Но теперь я бы тебя не похвалил: от такой расправы с панами никакого толку, только себя загубишь.
Учитель начал разворачивать скатанный в котомку рваный зипун, который служил ему, видно, и одеждой, и постелью, и шалашом.
– Дам я тебе почитать кое-какие книжки, и ты сам поймешь мою правоту.
– Книжки из тюрьмы?
– Нет. Это подарил мне товарищ, у которого я скрывался после побега… Книги эти заменят тебе не только сельскую школу, но и гимназию, в которую ты никогда не попадешь, и даже университет, откуда за такие книги увозят прямо в Картуз-Березу… Вот тебе первая. – Александр Федорович вытащил из широченного кармана зипуна потрепанную, до черноты замусоленную книгу.
Гриша схватил ее с жадностью голодного волчонка и прильнул глазами к рисунку на твердой коленкоровой обложке. На могучем, вздыбленном коне сидел мускулистый, суровый воин. Огромным тяжелым мечом он замахнулся на пузатого богача, упавшего перед ним на колени.
Вот! Вот то, что давно хотел увидеть Гриша наяву: богач на коленях перед бедняком! Все, все – не только объездчик и управляющий, но и сам ясновельможный! Все на коленях перед Антоном Мараканом или еще кем-нибудь бедным, но сильным!
– Спартак, – прочитал Гриша шепотом слово, красными буквами выбитое под рисунком.
– Прочитай эту книгу и возврати мне, – сказал учитель. – Тогда поговорим серьезнее… Ну, а в случае, кто увидит, скажи, что нашел в лесу… – Учитель тяжело вздохнул и, как бы оправдываясь, добавил: – Жизнь требует иногда говорить неправду.
Гриша хотел еще что-то спросить, но вдруг схватил учителя за руку:
– Кто-то идет!
– Сиди. Никогда не шарахайся. В лесу будь хозяином.
– Это девчата. За ягодами, – выглядывая из-за куста, сказал Гриша спокойнее.
– Не за ягодами, а домой, без ягод… – возразил учитель. – Видишь, кошики поломаны, видно, попались стражнику в лапы.
– Прошли! – облегченно вздохнул Гриша.
– Давай на всякий случай договоримся, что ты сегодня же скажешь обо мне Анне Вацлавовне.
– Я ее могу даже привести сюда.
– Нет. Ты только шепни ей, пусть придет туда, где мы с нею осенью уху варили. Напомни, что у меня ранена нога. Да не пугай ее, скажи, что рана пустячная, на сучок напоролся… Ну, иди, коровы твои уже разбрелись. С тобой увидимся, когда вылечу ногу. Читай и прячь книгу только в лесу. А то за нее попадешь туда, откуда я вырвался с таким трудом…
– Пан учитель, я сейчас напою коров и вернусь. А вы мне расскажете про Картуз-Березу? Ладно?
– Беги, беги!
Напоив коров, Гриша вернулся на прежнее место, сел возле учителя. Глядя ему в глаза и тихо, со страхом, будто находился в пустой церкви или на кладбище, спросил:
– Какая она, Береза?
– Разве дедушка тебе не рассказывал?
– Он говорит, мне еще не надо этого знать.
– Нет, уж лучше знать все заранее…
– Дедушка сказал только одно: стены там такие высокие, что никогда не перелезешь!
– Что стены, – вздохнул учитель. – Дело не в стенах…
– Как же вы убежали?
– О, я сидел бы еще долго. Да помогли друзья…
Послышался топот копыт.
– Наверное, лесник! – побледнев, прошептал Гриша.
– Да не бойся, – успокоил учитель. – Мы еще встретимся, и я расскажу тебе про Картуз-Березу.
И скрылся в густом ольшанике…
Поздним вечером в дом коменданта морочанской полиции тайно пришел высокий, закутанный в плащ человек. Он прошмыгнул с заднего хода, где его ожидал комендант. Они закрылись в пустой комнате и, не зажигая лампы, повели разговор.
– Пан Сюсько, никто не должен даже подозревать о наших отношениях, – заговорил комендант. – В комендатуру вы никогда не должны заходить, да и сюда только в условленные часы, когда у меня в доме все спят. Говорить будете только шепотом. Понятно? Так вот, я узнал, что вы проделали одно ловкое дельце по поручению пана управляющего. Считаю вас способным человеком и решил поручить вам более серьезное дело. О нем мы поговорим потом, а сейчас расскажите, как вы живете, в чем нуждаетесь.
– Хатенка у меня никудышная. И землички маловато, да и та никудышная…
Рассказывая о своей жизни, Сюсько все называл никудышным. Выслушав его, комендант сказал, что, выполнив первое задание, он сможет выстроить себе хороший дом, а дальше все будет зависеть от него самого.
– Вы помните учителя Моцака? Ну того самого, которому вы подбросили запрещенную литературу и от которого помогли нам избавиться?
– Помню, помню, – подхватил Сюсько. – А как же, хорошо помню!
– Так вот, он бежал из тюрьмы.
– Бежал? – Сюсько неспокойно заерзал на стуле. – Э-э… бежал… Как же это? Как же можно убежать из Картуз-Березы?!
– Рано или поздно он должен наведаться к семье.
– А-а, понимаю! Тут мы его, значит, и прихватим! Ей-бо, прихватим! – в азарте сказал Сюсько.
– Не так-то легко это сделать, – возразил комендант. – Домой он не придет. Он даст знать жене, а сам будет где-нибудь скрываться.
– Так мы будем следить за женой.
– И этого мало. Жена может сама не пойти к нему. У нее много друзей… Вот за ними в первую очередь и надо следить. Вероятнее всего, это будут подростки: пастушки, сборщики ягод, словом, те, на кого меньше всего падает подозрение.
Дальше разговор стал настолько секретным, что комендант вплотную приблизился к новому тайному полицаю и заговорил едва слышным шепотом…
* * *
Мать удивлялась неожиданной перемене в сыне. Прежде Гриша почти всегда просыпал, и приходилось его будить. Угрюмый, молчаливый, он одевался и, с кнутом на плече, понуро брел на скотный двор. А теперь вставал сам. Вбегал в комнату веселый, говорливый. Наскоро поест чего-нибудь и умчится, щелкая кнутом так, что цепные собаки поднимаются на дыбы.
Да и на гармонике стал играть совсем по-другому. Раньше печально, положив голову на мехи, он растягивал их так, что гармонь только вздыхала, чуть слышно голосила, точно мать по умершему сыну, и лишь изредка тяжелым стоном проносился сдержанный рокот ее басов. А теперь, только возьмет в руки, сразу рванет горячо и решительно, словно куда-то спешит. Да и мелодии стали не те. Если раньше играл он о своем горе, о тяжелой доле, то теперь его гармонь громко пела гимны доблестному Спартаку. Правда, не было у него специальной песни про Спартака. Но, играя думы и песни, какие слышал от нищих стариков, юный музыкант видел перед собой образ древнего героя. Новые песни скоро стали собирать возле дома молодежь…
Мать заставляла пораньше ложиться спать: «Рано еще парубковать». Но дед всегда заступался и даже сам вспоминал боевые старинные песни. До полуночи молодежь пела и плясала. А потом самые близкие друзья оставались с Гришей, забивались куда-нибудь в укромный уголок за сараем или в ольшанике и слушали его рассказы о славных подвигах Спартака.
Заметил перемену в поведении Гриши и приказчик. Но он оценил ее по-своему. «За ум берется хлопец. Большой уже», – решил он и перевел Гришу на скотный двор рабочим. Это «повышение» было на руку юному музыканту: теперь у него стало больше свободного времени, а в воскресенье во вторую половину дня он мог уходить, куда хочет.
* * *
Весело потрескивая и помигивая, в коминке жарко горит лучина. Олеся белит комнату Антона. А он, сидя в темном углу за печкой, плетет ей постолы: завтра она пойдет в лес по ягоды. Хозяйка давно спит. А хозяин сидит в своем кабинете с комендантом полиции, с самого обеда они пьют и о чем-то шумно спорят. Пользуясь этим, батрак с батрачкой говорят о чем только им вздумается. Антон был сегодня в селе и слышал, что кузнец из Вульки убежал в СССР.
– Как же он границу перейдет? – горестно вздохнула Олеся.
– За него не бойся. Главное, что решился человек! – ответил Антон с явной завистью к беглецу.
– А по какой дороге туда? Через Пинск?
– Лучше совсем без дороги. Через Чертову дрягву и прямо на восход, – объяснял Антон. – Только все время прямо и прямо. И придешь в самую Москву.
– Дядя Антон… – вдруг перешла на шепот Олеся и посмотрела на окошко.
Единственное в комнате оконце из двух стеклышек было завешено Антоновой свиткой. Да если б оно было и открыто, едва ли кто смог бы в него заглянуть. Оконце это Антон сделал по своему вкусу. На уровне глаза вырезал в стене кусок бревна в метр длиной и вставил два небольших стекла так, чтоб можно было, не нагибаясь, из комнаты обозревать весь двор. Зимой он целое воскресенье мог простаивать у этого окна и смотреть на занесенный снегом двор.
– Дядя Антон, – Олеся соскочила с табуретки и подбежала к Антону. – А давайте и мы убежим в Советы.
Антон почесал в затылке и ответил, что раз уж в молодости не убежал, то теперь никуда не побежит.
– А почему теперь нельзя? Плохо видите? Я вас за руку поведу, – умоляла девушка.
– Нет, Олеся. Я уже пробовал. Не могу я покидать свою землю.
– Да где ж у вас та земля? Она ж панская.
– Э-э, не. Это только мы панские, а земля наша, мужицкая. Мы ж на ней работаем, а не паны.
Долго Антон раздумывал молча. Олеся кончила белить стены, подмела пол, и тогда только он добавил:
– Тут родились, тут и умрем…
В полночь Олеся ушла спать, а Антон, погасив лучину, сел в угол бриться. Он всегда брился в темноте и, конечно, без зеркала. Днем некогда было думать о красоте, а при лучине он все равно ничего не видел в зеркале. Так зачем зря переводить лучину? Впрочем, он почти все в своей комнате делал в темноте, на ощупь.
Антон уже вытирал бритву, как вдруг услышал быстро приближающийся конский топот. Подошел к двери, прислушался. Кто-то прискакал со стороны Морочны. Остановился возле двора и забарабанил в ворота. Антон вышел во двор и спросил, кто там и что случилось.
– Пан комендант еще тут? – спросил визгливый голос.
– Сдается, тут, – ответил Антон и спросил, кто это.
– Я Сюсько! Отворяй! Живо! Срочное дело до пана коменданта!
Антон впустил десятника во двор. А тем временем вышел хозяин. Сюсько что-то шепнул ему, и оба вошли в дом. Антона почему-то встревожило это событие, и он, подойдя к окну, закрытому ставней, прильнул ухом. Сюсько, захлебываясь и все повышая голос, рассказывал, что к попу пришла Хрыстя, вдова хуторянина Кривича, и на исповеди сказала, что у них скрывается учитель, бежавший недавно из тюрьмы. Пришла на исповедь и спрашивает: смертный или не смертный грех скрывать человека, которого разыскивает власть. Батюшка ответил ей, что грех это большой, но не смертный.
Комендант только крякнул, а управляющий громко рассмеялся и переспросил:
– Так, значит, не смертный? – и снова залился издевательским раскатистым смехом. Но вдруг смех оборвался, и Рындин серьезно, даже торжественно, сказал: – Не зря же, пан комендант, я говорю, что это джунгли. Край дикарей! Хе! «Не смертный ли грех прятать коммуниста!» Да я на месте коменданта полиции лежал бы да в потолок поплевывал – с таким народом революции здесь не будет еще тысячу лет…
– Сейчас важно другое, – заговорил комендант устало. – Когда вы, пан Сюсько, об этом узнали? Успеем что-нибудь сделать?
– Только час назад. Я сразу – на коня и по лесу! О!
Антон догадался, что сейчас будут говорить по телефону. Поднялся по чердачной лестнице. Оторвал телефонный провод, подведенный под крышу, и опять возвратился к окну.
– Черт знает, что такое! – сердился управляющий. – Станция не отвечает. Спят, сволочи! – и снова начал крутить телефонную ручку.
Антон пробрался к оконцу комнаты, в которой жила Олеся, потихоньку вызвал ее и спросил, знает ли она в Морочне кого-нибудь из хлопцев, кто умел бы держать язык за зубами. Узнав, зачем нужен такой хлопец, Олеся сразу же подумала о Грише. И хотя зимой тот не раз ее обижал, она все-таки назвала его имя Антону.
– Крэпкий хлопец? – спросил Антон, делая вид, что не знает Гришу. – Не побоится ночью плыть на лодке?
– Бронь боже! Он самый смелый по всей Морочне!
– Ну, то я запрягу и поеду.
– Бронь боже! На бричке нельзя, они услышат и догонят.
– А ты отпусти коня.
– Зачем же отпускать? Лучше на нем поехать!
– Алэ ж я верхом не можу, сама знаешь…
– Так я поеду!
– Ты? Дивчина верхом, ночью, по лесу? Не…
– Я не боюсь.
– Ну, то слушай… – и Антон шепотом рассказал, куда надо перевезти учителя.
Когда комендант, управляющий и Сюсько вышли из дому, то уже чуть слышно по лесу раздавался удаляющийся топот копыт.
– Конь сорвался! – закричал комендант.
– Шалава! Как привязывал! – Рындин влепил Сюсько оплеуху. – Своего коня я не дам тебе гнать ночью по лесу! Беги пешком.
Олеся, беспрерывно нахлестывая коня, скакала по дороге вдоль озера. Она боялась, что ее догонят на другом коне, и часто оглядывалась. Справа, окаймленное черной лентой леса, поблескивало озеро. Слева, как волчий глаз, горела над лесом только что взошедшая желтая луна. Деревья все ближе подступали к дороге, все выше поднимали свои кудрявые головы. И все же луна ухитрялась из-за каждого дерева хоть мельком глянуть на девушку, похожую в своей белой сорочке на привидение. Вдруг луна показалась Олесе круглой, улыбающейся рожей хозяина. Скалит зубы эта противная пухлая морда, катится по макушкам деревьев и не спускает с девушки глаз. Так же елейно улыбается, как хозяин. И так же, как у хозяина, не поймешь, что скрывается за этой улыбкой.
Но вот конь круто повернул в густой сосновый бор и сразу спрятал всадницу от зловещего желтого ока. Со всех сторон Олесю обхватили тьма и холод, словно ее окунули в воду.
Олеся выросла на сказках и поверьях о леших, ведьмах, русалках, о болотных огоньках, заводящих людей в трясину, и других не менее страшных обитателях своего края. Ночью она боялась выйти одна из дому. А вот пришлось в полночь скакать по глухому безлюдному бору. И ей казалось, что топот копыт несется во все стороны, как набат, и будит все нечистое, что притаилось в старом густом лесу. И все оно сбегается к дороге, окружает коня, садится верхом позади нее, хихикает, хрюкает и хохочет сумасшедшим, раскатистым смехом.
Промелькнула вторая поляна – как раз середина пути, а ничего не случилось. Может, и правду говорил когда-то дед Сибиряк, что никакой чертовщины нет, что самая страшная на земле чертовщина – это паны да Картуз-Береза. И только подумала она об этом, как прямо над ухом повеяло чем-то теплым. Хлестнуло в лицо, захохотало, захихикало, зашипело… Потом опять хлестнуло… «Да нет! Это не леший, это ветка сосны! – поняла Олеся. – А хохочет сова…» Еще крепче прижалась к шее коня, который тоже испуганно прядал большими чуткими ушами.
Последний поворот. Тьма сгустилась. Луны будто совсем не стало на небе. Конь скачет устало, часто спотыкается. Олеся уже не подгоняет его. Она замерла и почти лежит на мокрой, горячей гриве. А вокруг все темней, темней. Деревья над головой переплелись. И нет никакого неба – только шатер из густых черных ветвей. Не это ли путь на тот свет? И вдруг, словно в ответ ей, прямо поперек дороги сверкнула узкая стальная коса: а смерть ведь ходит с косой…
Но тут же неожиданно для самой Олеси из груди ее вырвался вздох облегчения: это речка, освещенная луной! Олеся изо всех сил натянула поводья, однако долго не могла остановить коня. Наконец он перешел на рысь и остановился в молодом березняке.
Привязав коня к дереву и благодарно похлопав по холке, Олеся вбежала в Морочну. Село, косо освещенное низко склонившейся луной, спало. Высокие черные кресты, широко, словно объятия, распростершие свои огромные деревянные руки, казались безмолвными сторожами, Олеся посматривала на кресты, как на старых знакомых, и перед каждым торопливо крестилась.
В неурожай, в падеж скота, в наводнения – во всякую невзгоду морочане ставят жертву богу: большой сосновый крест, увешанный красиво вышитыми рушниками да передниками. Причем все делается за одну ночь… Мужики с закатом солнца едут в лес за сосной для креста. А женщины прядут лен. В полночь ткут. После первых петухов вышивают. А на рассвете с молитвой и поклонами вывешивают свое рукоделие на крест. Бог молча принимает жертву. Солнце и дожди охотно ее белят. Осенние ветры треплют и рвут полотно на узкие тесемки. Идущие на пастбища коровы хлещут по ним грязными мокрыми хвостами. Тесемки эти чернеют, скручиваются и болтаются, как страшные рубища нищего.
Олеся оглянулась, и вдруг черные кресты показались ей ворами, пришедшими из лесу в село. Обошли все хаты, перерыли сундуки, намотали на себя все лучшее и вот стоят, высоко подняв головы, смотрят, что бы еще потянуть. Стало страшно, и Олеся побежала по середине улицы, мимо колодезных журавлей.
* * *
Окруженный товарищами, Гриша сидел возле сарая и шепотом рассказывал, как шел Спартак от города к городу, открывал тюрьмы и освобождал рабов. Ребята вздыхали и теснее жались к рассказчику.
– Постой, Гришка! – вдруг прошептал Иван Параныця. – Кто-то идет к вам. Смотри, возле калитки.
Гриша, махнув, чтоб все оставались на месте, побежал к дому, где стоял кто-то в белом.
– Кто там?
– Гриша… Сюда… Скорее сюда! – послышался торопливый шепот.
– Олеся? – удивился Гриша. – Что случилось? Почему раздетая?
– Гриша, скорее беги на хутор Кривича, – с трудом переводя дыхание, прошептала девушка. – Там учитель. А Сюсько узнал и заявил в полицию.
В это время сбежались все, кто стоял возле сарая.
Когда Олеся рассказала о том, что произошло в доме управляющего, Санько рассудил, что Грише нельзя плыть на хутор, потому что не успеет вернуться к дойке коров.
– Лучше я поплыву: Егор выручит, если опоздаю.
Все согласились. Санько пустился к речке. Олеся пробежала с ним несколько шагов и шепнула, чтоб привез учителя к дубу, разбитому громом.
Санько убежал. Олеся осталась одна посреди дороги. К ней подошел Гриша и робко спросил:
– А ты как же!? Тебе надо скорей домой, а то догадаются.
– Я назад боюсь по селу, тут собаки…
– Да одну мы тебя не пустим. Пошли.
Через огород вся ватага направилась в лес, где Олеся оставила коня. Светало.
– Я поеду лесом напрямик, чтоб не встретиться с комендантом, – вдруг решила Олеся и отказалась от провожатых.
– Что ты! Страшно одной.
– В лесу я уже не боюсь.
– А коня куда денешь?
– Коня оставлю в лесу, пусть пасется, а сама скоренько насобираю грибков и скажу, что по грибы ходила. Да паны еще спать будут, когда я вернусь.
Грише очень хотелось поговорить с Олесей наедине: стыдно было за прежние насмешки над ней, надо было как-то загладить свою вину. Но рядом все время шли ребята, и заговорить было невозможно. И лишь подсаживая дивчину на коня, он шепнул:
– Олеся! Я больше не буду петь «Тиха вода»…
Но сказал так невнятно, что Олеся ничего не поняла и, вскочив на коня, натянула поводья.
Застоявшийся конь ударил копытом, заржал и, не дожидаясь понуканья, унес ее в лес, над которым уже гасли звезды и зеленело остывшее за ночь небо.
* * *
Александр Федорович, распрощавшись с Саньком, пошел опушкой леса и недалеко от дуба, обожженного когда-то молнией, увидел Антона Миссюру. Немного поговорив, они решили, что временно Александр Федорович поживет в заполненной снопами жита клуне управляющего, куда, кроме Антона, никто не ходит.
Шли густым еловым лесом. Говорили шепотом. Внимательно прислушивались. Часто останавливались, чтобы осмотреться. И все-таки не убереглись. Только перешли по жердочке через ручей, навстречу из густого ельника вышел Крысолов в высоких яловичных сапогах, с ружьем на плече. В зубах, как всегда, он держал деревянного чертика, из пасти которого медленно тянулись тонкие сизые струйки дыма.
– Пан учитель? – удивленно и вместе с тем радушно заговорил Крысолов. Вынув изо рта трубку, он подошел ближе. – Добрый день, пан учитель. Слава богу, вырвались!
Александр Федорович, уже немного знавший этого человека, смущенно ответил на приветствие… А Миссюра молча остановился за спиной учителя.
– Полиция перевернула всю Морочну. На хуторах обшарила все кусты и теперь пьянствует с досады, – усмехаясь, сказал Крысолов. – Но это все чепуха… А вот куда вам теперь деваться? Антон, конечно, хороший проводник, только ж… – Вдруг он умолк: понял, что ему не доверяют. Посмотрел Антону в глаза и протянул к нему руку, словно прося о чем-то: – Да ты, Антон, скажи пану учителю, кто я такой.
– Я знаю, знаю вас, Иван Петрович, – чувствуя неловкость, поспешно ответил Александр Федорович.
– Нет! – почти с обидой отрезал Крысолов. – Скажи, Антон, я погубил кого-нибудь?
– Чому? Такого вы не можете, то я крэпко знаю.
Крысолов затянулся едким, пахнущим на весь лес табаком и спокойно посмотрел вокруг.
– Здесь никто не подслушивает. Поговорим откровенно… Зачем рисковать, куда-то брести с больной ногой? Можно пожить в тепле, по-человечески, пока подлечитесь.
– Где теперь найдешь такое убежище? – пожал плечами учитель. – Везде шарят, вынюхивают…
– Ну, положим, не везде им позволено нюхать. – Крысолов часто запыхтел дымом, потом не спеша выбил пепел и остатки табака, продул трубку и, лишь спрятав ее в нагрудный карман коротенькой черной кожанки, спросил: – Вы знаете, что в Кракове десять лет подпольная типография коммунистов работала в подвале дома, где жил прокурор?
– Не слыхал такого, – ответил Александр Федорович, криво улыбнувшись.
– Вот и мы проведем такой опыт, – глядя прямо в глаза, сказал Крысолов. – Спрячем вас под самым носом ясного пана, у меня в доме.
Моцак развел руками:
– Зачем вам ставить себя в такое положение?
– Зачем? – переспросил Крысолов и тяжело вздохнул. – Ведь я волжанин, пан учитель. Тело мое здесь, а душа на матушке Волге. Но когда-нибудь я весь туда переберусь… Теперь вы кое-что поняли?
– Кое-что да… Но все же…
– Остальное потом поймете. Идемте. А ты, Антон, отправляйся домой. И конечно, молчи. Впрочем, тебя предупреждать не надо.
– Как быть, Антон? – спросил учитель.
– Оно и так не плохо. Можно и так, – ответил Антон, досадуя на Крысолова, что тот отнял у него возможность помочь учителю.
Когда Антон ушел, Крысолов сказал:
– Ведь я понимаю, товарищ учитель, дело, за которое вы боретесь, рано или поздно восторжествует. Так пусть и моя капля труда будет в этом деле… Ну а если придется вам бежать в СССР, я с радостью пойду с вами. Даже буду вам полезен: сумею достать прекрасные карты. Тайно устроив учителя в маленькой комнатке, заполненной охотничьими принадлежностями, Крысолов дал отпуск женщине, работавшей у него прислугой.
– Зачем ты взял этого человека? – испугалась жена.
– Смотри вперед! – ответил Иван Петрович своей любимой поговоркой и строго приказал молчать.
* * *
В темной комнате раздраженный комендант зло выговаривал Савке Сюсько:
– Болван! Показаться на улице в таком виде!
– Бардзо проше! – держась за перевязанную голову, чуть не стонал Сюсько. – Проше бардзо пана коменданта! Что ж я тут мог поделать? Ей-бо! Куда ж мне было девать мою разбитую голову, раз я должен прийти к вам, проше пана?
– Какая глупость! Как лошадь: может делать только то, что прикажет кнут. А чтоб мозгами пошевелить…
– Проше пана коменданта! Меня как оглушили тем камнем, то я ни руками, ни ногами не мог шевелить, а вы говорите, мозгами шевели…
– Надо же додуматься выйти на улицу с забинтованной головой! Ведь этим ты каждому дураку сказал: вот он я, что подслушивал!
– О-о! Пусть пан комендант про то не беспокоится. Я целый день сидел дома, а сюда пошел, когда уже совсем стемнело. Ей-боженьки! Низенько так себе пригнулся. И все время огородами, огородами, трюх-трюх…
– Довольно! Рассказывай, что нового.
– Ну так вот же, – с готовностью начал Сюсько. – Гришка этот…
– Опять: этот, тот! – перебил Красовский. – Ты что, с кумом о рыбалке растабариваешь? Мне нужны фамилии, имена! Без всяких «этих» и «тех»…
– Проше пана коменданта! Григорий Крук, внук того самого деда Сибиряка, который и вам сапоги…
– К делу!
– Ну так вот же ж… Этот Григорий позавчера опять рассказывал хлопцам про того разбойника, красного большевика, что всех бунтовал. Про Спартака, проше пана.
– Ты идиот, Сюсько! Я тебя выгоню! – процедил Красовский.
– Смилуйтесь, пане комендант. Бардзо проше пана коменданта. Я ж говорю чистую правду. Ей-бо!
– Продолжай!
– Ну так вот же ж… Этот Спартак, проше пана, собрал вокруг себя шестьдесят тысяч. И задумал пригласить к себе Катерину.
– Какую Катерину? – заорал Красовский, вставая.
– Э-э… – замялся Сюсько. – По-моему, она была русская царица. А Спартак, видно, задумал на ней жениться…








