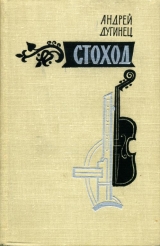
Текст книги "Стоход"
Автор книги: Андрей Дугинец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц)
А на вопрос о школе ответил, что очень любит сына и желает ему доброй жизни, потому и не пускает в школу: грамотному человеку теперь живется хуже, чем темному. Неграмотный знай ковыряет землю, добывает себе ковалок хлеба. А ученый, глядишь, книжку в руки возьмет, начнет искать правду да все такое… А паны его за шиворот да в Картуз-Березу. Коммунист. Красный. Враг власти и бога. Уж лучше так, без науки и книжек. Сын у него растет крепкий, здоровый и уже приучается хозяйновать.
– Хозяйничать такому малышу рановато, – возразил учитель.
– Ни, вин дуже моцный, хай втягуется. Наше дило працовать. Мы ж з ным на хутор стягуемся.
– Вот на хутор я бы вам не советовал выезжать. Одичаете как волки.
– А! Дикому волку лучше, чем прирученному, – устало отмахнулся Егор.
Продолжая путь, Александр Федорович больше но обращал внимания ни на вязкую болотную грязь, ни на жару, ни на слепней. Все это было ничто в сравнении с повседневной мукой здешних крестьян. Он прошел мимо косарей, которые, стоя почти по пояс в воде, косили траву, купленную у пана по восемьдесят злотых за морг. Долго следил за подростками, которые на длинных палках подносили к стогу копны сена. Мальчикам было лет по тринадцати. Они увязали в болоте до самого пояса и ворочались в нем, как пчелы, попавшие в деготь. Казалось невероятным, что они все же продвигаются вперед.
Учителя поразила выносливость жителей этого сурового края, их долготерпение и трудолюбие. Он задумался и не заметил, как вышел из болота в большой смешанный лес. В лесу было сухо, свежо и торжественно. Напоминая шум дождя, падающего на озеро, мелко лепетали осины. Шушукаясь, поскрипывали сосны. Чуть слышно посвистывали березы. Где-то настойчиво и монотонно выстукивал свою азбуку дятел. И ко всему этому, как сторожа, прислушивались дубы.
Переодевшись в сухие штаны и обувшись в сапоги, учитель почувствовал себя другим человеком, бодрым, сильным. Он шел, внимательно присматриваясь к жизни леса. На одной полянке, возле березнячка, увидел диких коз. Они беззаботно паслись: никто их здесь не пугал. В этом лесу было запрещено не только охотиться, но даже появляться мужикам-лапотникам. В другом месте дорогу перебежал лось, преследуемый волком. Увидев человека, волк оставил свою жертву и нырнул в чащу.
Бор становился все гуще, а воздух суше и приятней. Пряный запах земляники и теплого меда носился над полянами, усеянными цветами и густой сочной травой, которую никогда не трогала коса. Это были места прогулок панской семьи, и портить траву здесь не разрешалось, так же как и собирать ягоды.
«Совсем другой мир, – подумал учитель. – А ведь можно было бы все болото превратить в такие же леса и луга и распрощаться с постолами да вонючими онучами».
От поляны по лесу шла просека, на которой стояло несколько стожков свежего сена. Он догадался, что это для приманки диких коз и лосей на потеху панам. Догадка подтвердилась: в конце просеки белела высокая каменная вилла графа Жестовского. На середине поляны стоял незаконченный стожок. А в конце ее, у самой опушки леса, – воз сена. Вдруг расстояние между возом и стожком начало заметно сокращаться. Раскачиваясь и вздрагивая, зеленый воз быстро катился по траве. Может, показалось?
Нет, воз двигался. Лишь подойдя совсем близко, учитель заметил мелькавшие под возом ноги, аккуратно обмотанные белыми полотняными онучами и обутые в постолы. Впрягшись вместо лошади, человек быстро шел, прикрытый нависшим сеном.
– Боже помогай! – нарочито громко сказал учитель.
Ответа не последовало. Но воз остановился, оглобли упали, и из-под зеленой шапки сена выглянул здоровенный, раскрасневшийся мужик лет тридцати. Телосложением он напоминал старого горбатого лося: весь вырос в спину и плечи, а ноги в белых домотканых штанах – крепкие, длинные. На разгоряченном крупном лице – широкая, счастливая улыбка.
Учитель понял, что человек этот радуется буйной неукротимой силе, играющей в его могучих руках. А руки у него большие, тяжелые. Пальцы толстые, узловатые и черные, точно болотные корневища.
– Да вы что ж это, сами тянули воз? – спросил учитель, удивленно глядя на силача.
Крестьянин улыбнулся еще самодовольнее и ответил:
– Алэ.
– А лошадь заболела?
– Чому?
– Так чего ж вы сами тянете такой тяжелый воз? Коня жалеете?
– Алэ.
– Коня жалеете? – учитель недоуменно пожал плечами.
– Вин так крэпко пасеться… – Мужик, прищурив глаза, посмотрел на опушку, где пасся сытый гнедой конь.
– Конь-то собственный?
– Чому? Хозяйский.
– А сено для кого?
Крестьянин отер лицо тыльной стороной ладони и не спеша почесал в затылке. Он, видно, никак не мог подобрать нужное слово и вот искал его, ероша тяжелые русые кудри, в которых запуталось несколько зеленых травинок и голубой цветочек величиной с дождевую каплю. Наконец слово было найдено.
– Кому сено? Та кому ж, звирам.
– Лосям да сернам?
– Алэ.
– Что ж, и серны нужны. Панам забава… – согласился учитель.
Лицо крестьянина вдруг помрачнело, словно на него упала тень от тучки, закрывшей солнце. Сощурившись, будто сам себе, сказал:
– Та вжэ хай лучше зверями забавляются, чем людьми. – Но тут же спохватился. – А вы до самого пана?
– Да, к графу.
– Ну, то прямо. От по той стэжци, мимо стожков. – Указав тропинку, повернулся к возу.
Но учителю не хотелось уходить, и он спросил мужика, где тот живет.
– А вы хто ж будете?
– Учитель из Морочны.
Мужик еще сильнее сощурил свои маленькие и черные, как паслен, глаза.
– У-у-чи-тель? – переспросил он. И тут же охотно пояснил, что он батрак Рындина, управляющего имением. И уже полушепотом добавил, что после одного случая хозяин запретил ему разговаривать с незнакомыми людьми.
– Тогда я пойду, чтобы вам не было неприятности.
– Чому? Не бойтесь. За вас совсём ничего не будет. – Узнав, что имеет дело с учителем, батрак начал стараться говорить по-городскому.
– Почему вы думаете, что за меня ничего не будет?
– Про вас и люди, и паны хорошо говорят.
– Ну, паны долго хвалить не будут, – усмехнулся учитель. – А вас как зовут?
– Антоном меня зовут. Был хлопцем, то и фамилия была. Миссюра моя фамилия. А зараз Антон – тай усе. А то еще Мараканом прозывают…
– Так это вы тот самый Антон, который цепом убил дикого кабана?
– Алэ, – Антон улыбнулся той же счастливой улыбкой, которой встретил учителя. – Крэпко я его…
Александр Федорович с интересом смотрел на странную фигуру этого человека. Он вспоминал рассказы морочан о том, что Антон весь изувечен и видит совсем плохо, но силы у него на пятерых.
– Не знаю, Антон, откуда вы берете такую силу. Но растрачиваете ее немилосердно.
Антон удивленно пожал плечами.
– А куда ж девать ее? На то она и сила, чтоб крэпко работу делать.
– Да, работу вы любите. Пан, наверно, доволен.
– А мне мало дела до того, что он про меня скажет. Оно лучше, коб работал на себя… Да ничего не поделаешь. Простому человеку, я так скажу, без работы совсем нельзя. Бывает, наробишься, аж ноги гудят. Повалишься на постель и вместо молитвы скажешь: крэпко сегодня поработал!
Учитель уже понял, что «крэпко» – любимое слово Антона. Употреблял он его часто невпопад, даже вместо «хорошо» и «красиво». Но каждый раз это слово полнее и глубже, чем всякое другое, выражало сущность его могучей натуры.
– Чего ж мы стоим на жарюке? – вдруг спохватился Антон. – Лучше ж под дерево… Вон под ту березу…
– Как интересно растет! – Учитель залюбовался старой березой с двумя круто изогнутыми под самой кроной стволами. – Никогда не видел такого причудливого дерева!
– Алэ. Добрые полозья растут. Крутые, гладкие, без сучка, – заметил Антон. – Думаю так, что двое саней выйдет. А по-вашему?
– Должно получиться, – ответил учитель, хотя смотрел на березу совсем с другой точки зрения.
Подошли к березе и уселись там, где зеленые ветви каскадом падали на траву. Антон достал из-за куста кувшин простокваши, горшочек гречневой каши, кусок черного хлеба и предложил учителю вместе пообедать. Учитель тоже вынул все, что было у него в карманах пиджака. Разложили припасы на большом листе лопуха и начали есть.
Антон был счастлив, что учитель обедает с ним запросто, как с равным. Он заговорил проще и откровеннее. Рассказал, какие деньги выбрасывает граф на увеселения, чего стоит каждая охота. Шепнул и о том, что управляющий собирается каким-то хитрым способом оттягать имение у ясного пана.
– А что вы думаете? И оттягает. Да пан и сам уже махнул рукой на это имение.
– Почему вы так думаете?
– Чому ж думать? Оно так и есть. Вот же канал прочистил. Думаете, с добра? Э-э-э… – Антон прищурил правый глаз и помахал у себя перед лицом толстым черным, как дубовый корешок, пальцем. – По этому каналу поплывет за границу морочанский лес. Поплывет, как лед весною. Вон сосед наш, Скирмунт, еще в прошлом году весь свой сосняк спустил за полгроша. А раньше старый пан даже сажал лес. И-и… Бронь боже, чтобы продал деревинку!
– Да почему ж это так? – спросил учитель, стараясь вызвать Антона на дальнейший разговор.
– Як же почему? – удивился Антон. – Паны они ж тоже не дурные, видят, что скоро им «жаба титьки даст». Я вам скажу так, пане учитель: боятся они соседства с Советами, как черт креста. Вот и стараются все повернуть в деньги. Дерево оно штука ж ненадежная: может загореться, а где и червяк подточит. А золото ничего не боится. Отослал его куда-нибудь в английску чи там в америцку банку – и получай про́центы.
Учитель удивился, что этот неграмотный батрак так здраво рассуждает, и подумал: «А хозяева, наверное, его и за человека не считают».
Антон словно угадал его мысли:
– Мой хозяин да и его жинка думают, что я понимаю не больше, чем вижу. А глаза у меня и правда плохие. Так они часто вслух говорят про все такое… А я так, ненароком, кой-что возьму да и пойму…
За беседой не заметили, как из-за толстого ствола березы прокралось солнце и начало растапливать масло на хлебе, которым учитель угощал Антона. Глянув на солнце, Александр Федорович стал собираться.
– Давно со мной никто так не говорил, – признался Антон. – Дома совсем не с кем побеседовать. Только с конем… А вы, пане учитель, гукните, когда нужно чи дров привезти, чи другое дело… Я на своего хозяина не дуже молюсь, да и он знает, что другого такого дурня не найдет, то и держится за меня, особенно не прижимает.
– Спасибо, Антон. Хозяйства у меня никакого нет, а с дровами я сам справлюсь. Правда, у меня не столько силы, как у вас, но…
– Э-э-э… – печально протянул Антон. – Теперь и половины не стало того, что было. Крэпкий был я когда-то. Дуже крэпкий! Алэ ж! У меня все кости переломаны, а ноги совсем плохо гнутся. А все по милости ясного пана. Забавлялись паны моей силой. Скуку разгоняли…
И Антон доверчиво рассказал о своем сиротском детстве и покалеченной юности.
Четырнадцати лет остался без родителей и начал жить самостоятельно. Сперва был конюхом на панском дворе. Потом заставили возить сено. Раньше этим занимались два человека. А он согласился работать один, потому что был очень сильный и умел так увязать воз, что покати – не растрясется. Работал старательно: мечтал скопить денег на свой ковалок земли и уйти на хутор. Может, мечта его и сбылась бы, да сила помешала. Из-за силы и пострадал. По вечерам да в воскресенье Антон любил бороться, но никто не хотел с ним тягаться, все боялись. Тогда он обучил этому делу годовалого бычка. Упрутся лбами – и кто кого. Сначала побеждал Антон. Но бычок рос быстрее и скоро перестал сдаваться, а в два года начал побеждать человека. Как-то эту борьбу увидел управляющий и приказал повторить ее перед окнами графа. Тогда еще был жив старый пан Казимир.
С того дня Антон стал часто бороться с быком на потеху панам. Огромные толпы зевак, шум и свист разъяряли быка. И он, случалось, нарушал правила борьбы, которым был обучен: бросался на своего противника и поднимал его на рога.
А однажды молодой пан, теперешний граф, захотел похвастаться перед гостями своим силачом. Одел его в красный костюм, расшитый золотом. А управляющему приказал напоить быка водкой и устроить борьбу на закрытом дворе, где не будет зевак.
Антон с детства был близорук: не заметил свирепости быка, его налитых кровью глаз. Лишь когда открыли ворота сарая, он понял, что с животным творится что-то неладное. Но отказаться от борьбы не посмел. Против обыкновения, бык не стал дожидаться ласкового почесывания шеи. Сразу же уставился в землю лбом и с глухим ревом начал рыть копытом землю. Это был вызов на борьбу. При первом же столкновении бык повалил Антона и начал катать, как веретено.
Зрители, сидевшие высоко на балконе, хохотали от удовольствия. Управляющий от страха перед быком спрятался в сарае. Не растерялась только Оляна, любившая Антона. Девушка видела борьбу в щелку забора. Она схватила топор и, как в колоду, вогнала топор в голову обезумевшего животного.
Никто не надеялся, что Антон выживет. Да была тогда в Морочне бабка Куприяниха, которая лечила от всех болезней. Целый месяц обкладывала она травами да окуривала пахучими кореньями изувеченного борца. И выходила. Но Антон с тех пор стал нескладным и неуклюжим. Даже верхом на коня сесть не может.
А только ж паны не дали ему покоя и после увечья. Пошел он к пану проситься на прежнюю работу. А тот топнул ногой: «Вон со двора, Квазимодо!» Антон не понял слова и ляпнул: «Сам ты козья морда!» И в тот же день очутился в тюрьме. Будто за политику… Да так три года и отсидел.
– Это я рассказал вам, щоб вы, значит, знали, якой он, тот ясный пан, раз идете просить его, – сказал Антон, закончив свою повесть. – А только ж не советую вам говорить сразу с самим паном. Начните сперва с управляющим.
– Почему?
– Да не любит он, когда его обходят. Крэпко не любит.
Управляющий Игорь Вячеславович Рындин оказался лысым полненьким мужчиной лет пятидесяти. По белым холеным рукам с пухлыми пальцами и длинными ногтями в нем сразу угадывался потомственный барин.
Он принял учителя с любезной улыбкой, которая почти не сходила с его лица в течение всего разговора, провел гостя в беседку, устроенную под кленом на берегу озера, угостил холодным варшавским пивом из тяжелых черных бутылок, наливая его в такие же черные бокалы, и первым заговорил о природе, окружавшей имение.
Александр Федорович пил пиво и молча любовался озером, окаймленным густым смешанным лесом. В ширину оно было не больше километра, зато в длину казалось бесконечным, и дальний берег его отделялся от неба чуть приметной дымчатой лентой лозняка. Среди озера, на островке, похожем на курган, зеленели две березки. Небо в озере отражалось, как в хорошем зеркале, – светлое, чуть-чуть голубое. Но вот из лесу дохнул ветерок и сразу же собрал воду в синеватую мелкую рябь. Он старательно гнал эту рябь к другому берегу, но барашки вновь и вновь поднимались откуда-то со дна и бежали, бежали. Учитель смотрел на эту рябь и на островок с березками, и ему казалось, что островок плывет, мчится, разрезая мелкие волны. Но вот солнце зашло за тучу. Лес на другой стороне озера почернел. Березки на островке нахмурились. Озеро потемнело. Теперь и вода, и березки слились с общим темным фоном леса. А когда солнце выглянуло снизу из-под тучки, на середину озера откуда-то выскочила яхта с раздутыми светло-зелеными парусами.
Учитель даже привстал от удивления. Яхтой ему показался островок с двумя березками. На фоне все еще чернеющего леса эти березки были удивительно схожи с большими раздутыми парусами на белых, немного накренившихся мачтах.
Но тучка ушла, лес снова зазеленел, и видение мчащейся по озеру яхты исчезло. На островке, склонившись в разные стороны, как поссорившиеся сестры, по-прежнему стояли одинокие тоскующие березки.
«Здесь даже солнце светит по-другому», – подумал учитель и перевел взгляд на высокий восточный берег, с которого смотрелась в воду двухэтажная вилла. Вилла напоминала новенький пароход, который вот-вот спустят на воду.
Вдруг тишину озера, как большую хрустальную вазу, раскололи звуки вальса. Сначала учитель подумал, что играют на террасе виллы. Но тут же увидел две лодки, выплывшие из-за мыса, поросшего черемухой. В маленькой голубой лодке сидел стражник в белом кителе и форменной фуражке. А на большой четырехвесельной лодке разместились музыканты во фраках. Звуки вальса плавно разливались над мелкими, чуть приметными волнами. Так же медленно, как этот вальс, из-за мыса выплыла еще одна лодка, белая, под черным парусом. Она направлялась к островку.
Только теперь Александр Федорович разглядел между березками на островке стол и суетившихся вокруг него девушек в белых платьях.
За парусной лодкой плыли два черных, совершенно одинаковых лебедя. Этих птиц Александр Федорович видел впервые и залюбовался ими. Лебеди грациозно изгибали длинные красивые шеи, окунали клювы в воду и снова, с каким-то подчеркнутым сознанием собственного достоинства, спокойно поднимали головы, лишь изредка поворачивая их в стороны, словно проверяя, любуются ли ими.
Сначала непонятно было, почему эти птицы так неотступно следуют за парусником, но когда лодка повернулась, учитель увидел даму в белом платье и пышной шляпе с развевающимися перьями. Дама сидела на корме и, склонившись на борт, бросала в воду кусочки хлеба.
– Это графиня. Какова дамочка, а? – сказал Рындин и, сладко улыбаясь, зажмурился. – Не женщина, а тысяча и одна ночь! Вкус… Манеры… А выдумщица!.. Недавно вычитала, что какой-то князь любил черных лебедей и яхту под черными парусами. И что ж вы думаете? Пришлось из римского зоопарка доставить ей на гидроплане пару этих вот птиц. Они стоят, пожалуй, всей вашей Морочны.
Учитель смотрел на лебедей и невольно вспомнил мальчишек, косивших сено на болоте. Какая пропасть между той и этой жизнью!
– Вы, вероятно, к графу? – спросил управляющий, улыбаясь одними губами.
– Да, я хотел бы…
– Видите ли, – подхватил Рындин, – граф приезжает сюда на месяц-два, чтобы отдохнуть от варшавской суеты, и очень неохотно занимается делами.
– Но ясный пан шефствует над нашей школой. Как-то проезжая через село, он разрешил мне обращаться к нему в любое время.
– Что ж… – Рындин посмотрел на ручные часы и что-то прикинул в уме. – Попытайте счастья. Только сегодня у него там выставка…
– Выставка картин? Чьих?..
– Нет, какие там картины! Выставка диких кабанов, убитых позавчера на охоте. Впрочем, вам не мешает взглянуть. Сто сорок диков за один день! Такое может случиться только в этих джунглях. Сегодня к графу съезжается вся окрестная знать. Ожидается гидросамолет с гостями из Варшавы и даже из Женевы. Пойдите. Только прежде всего поинтересуйтесь выставкой. А о деле как-нибудь вскользь, коротенько.
Окруженный дюжиной охотничьих собак разных мастей, граф сидел на плетеном стуле в старом яблоневом саду и позировал перед фотоаппаратом. Одной рукой он гладил серую пятнистую собаку, а другой высоко поднимал убитого глухаря.
Александр Федорович прошел через калитку и остановился на почтительном расстоянии, ожидая, пока маленький, юркий фотограф закончит свое дело.
Граф был молод и свеж. На лице его играл здоровый смуглый румянец, свойственный людям, живущим на свежем воздухе. Дорогой костюм с короткими до колен штанами забрызган кровью, помят и во многих местах разорван. Видно, что на охоте граф себя не жалел.
Когда фотограф ушел, граф, которого собаки своим беспокойством предупредили о постороннем, повернулся к калитке.
– А-аа… просветитель моих диких полешуков, – добродушно протянул он по-польски. – Вам-то надо посмотреть… Конечно же, конечно… Дети должны об этом знать… Как же! – и жестом пригласил в парк.
Вышли на поляну, посередине которой росли два огромных дуба. На сучьях головой вниз висели туши диких кабанов, от поросенка до старого пятнадцатипудового кабана.
– Втроем. Только втроем за один день мы убили сто сорок три дика! – выбросив вперед руку, сказал хозяин. – Будет о чем рассказать школьникам? Не правда ли?
Но тут подбежал дворецкий и что-то шепнул хозяину.
– Извините, – любезно сказал граф учителю. – При бывают гости из Парижа, я должен встречать гидросамолет. У вас, вероятно, есть какое-то дело ко мне? Что-нибудь по поводу школы?
Александр Федорович смущенно ответил, что подождет, пока граф освободится.
– А вы обратитесь к управляющему, – посоветовал граф. – Я ему дам распоряжение. Для школы он сделает все, что надо.
Александр Федорович понял, что напрасно не послушался Антона, который советовал не обходить управляющего. Теперь неловко было к нему возвращаться. Но пришлось.
Александр Федорович рассказал Рындину о положении в селе, об избиении деда Сибиряка, о захвате его земли и других беззаконных поступках графских служащих. Выслушав его, управляющий улыбнулся любезнее прежнего:
– Вот видите, не зря я думал, что мы с вами все уладим сами. Мне ясно, что основной темой вашей беседы с графом была бы жалоба на меня и моих людей. И выходит, мы, так сказать, – он постучал ногтями одной руки о ногти другой, изображая столкновение.
Учитель пожал плечами, невольно соглашаясь, что это так.
– Вам со мной ссориться невыгодно: граф приехал и уехал, а хозяином остаюсь я. Говорю это потому, что вы здесь человек новый. Но перейдем к делу. Чего вы хотели от графа?
Александр Федорович попросил к началу учебного года отпустить с работы тех детей, которые этим летом были принуждены отрабатывать долги.
Рындин слушал его все с той же широкой и доброй улыбкой. Однако учитель заметил, что это улыбка привычки, а не сердечности, что глаза этого человека совершенно холодны.
– И если это в вашей власти, то Конону Багно отсрочьте на год-два выплату долга. Пусть его внук учится. Это необычайно способный, я бы сказал, одаренный подросток. Знаете, из него мог бы получиться замечательный музыкант…
Управляющий опять улыбнулся одними губами и, любезно склонив голову, ответил, что это в его руках и он все уладит.
Возвращался домой Александр Федорович с какой-то смутной тревогой в душе. Ему не верилось, что Рындин исполнит обещание. Да и вообще, несмотря на подчеркнутую вежливость, управляющий очень не понравился. Вспоминалось все, что узнал от Антона и что рассказывают в деревне про этого человека. На память пришла пословица: «Не бойся барина, бойся его слуги».
А управляющий в этот же вечер вызвал Барабака и приказал достать несколько запрещенных книжонок на политические темы.
– Лучше всего о жизни в СССР. За каждую брошюру – четверть водки.
Неслыханная щедрость! И Барабак вытянулся в струнку.
– Будет сполнено, ваше благородие! – Барабак не мог отвыкнуть от старой формы обращения с управляющим, как со своим командиром, полковником царской армии.
Уже двадцать лет Рындин никем не командует. Но бывший унтер Барабак козыряет ему, как и много лет назад.
– Ты вот спешишь с ответом, – заметил Рындин, – а как ты их будешь подбирать, когда читаешь по складам?
– Я заставлю заняться этим делом самого образованного в имении человека.
– Это кого же?
– Секвестратора.
– Ну, это неплохо придумано, – одобрил управляющий. – Был у меня тут учитель. Явный коммунист, хотя и прикидывается обычным просветителем, – говорил Рындин, глядя прямо в глаза Барабака. – Со временем он станет нам мешать. Надо его удалить заранее…
– Уб-рррать! – с готовностью подхватил Барабак.
– Тебе бы все стрелять! – с раздражением сказал управляющий. – Я говорю по-русски: у-да-лить. Попутно, пока ищешь литературу, подбери человека для этой операции. Нет, нет, самому тебе нельзя. Тут нужен молодой, ловкий, а главное, жадный на деньги. Он нам пригодится и после.
– Есть такой!
– Не спеши. Дело очень важное. Надо провести его тонко.
* * *
В трех километрах от Морочны, там, где расходятся дороги на Мутвицу и Неньковичи, есть сухой песчаный бугор. На одном склоне его чернеют подгнившие, источенные червями деревянные кресты старого кладбища. А на другом, возле самой дороги, как заблудившаяся нищенка, сгорбилась корявая старая сосна. Как она растет на бесплодном, просеянном ветрами песке? Где берут влагу ее оголенные черные корни? Об этом знают только морочанские матери, которые время от времени провожают детей своих на заработки, в рекруты или в тюрьму. Издавна эта сосна стала местом последнего прощания. На ее корни пролиты потоки горьких материнских слез. Знать, оттого-то ветви ее покорежены, перекручены, как и сама житуха горемычных морочанских матерей.
Вот и сейчас возле сосны стоит Оляна, смотрит вслед сыну, который ушел искать работу у лесопромышленника Рабинюка. Вместо кушака подпоясанный старой узкой пилой, как бывалый лесоруб, он споро шагает навстречу неизвестному будущему.
– Гриша, сынок… – мать еще что-то забыла сказать, но что, никак не может припомнить, и, как самое важное, повторяет одно и то же: – Гриша, сынок мой, сыночек!..
Гриша уже далеко. Шагов его не слышно на сухом песке. А над головой матери поскрипывает и раскачивается старая сосна. Заунывно, порывами шумят ее сухие покореженные ветви. Она то охает, точно кто-то стонет сквозь стиснутые зубы, то вздыхает тяжело и надрывно, как измученная невзгодами старуха, то квилит, как аистенок, выброшенный из гнезда, то шумит и шумит, по временам совсем утихая, словно прислушиваясь к горькому, почти беззвучному плачу матери.
– Ма-ма! – от самого леса кричит Гриша. – Мама! Не ходи плакать на могилу бабушки. Не ходи! Буду тебе помогать. Буду стараться…
В последний раз махнув рукой, Гриша скрылся в густом ольшанике.
Пусть идет. Может, хоть себя прокормит.
Долго стоит под сосной осиротевшая мать. Смотрит в лес. Ничего не видит. Ничего не слышит. И не замечает, что слезы ручьями текут на жаждущие, пересохшие корни сосны. Лишь перед закатом солнца, пошатываясь и спотыкаясь, уходит она на кладбище, чтобы остатками слез оросить сухую траву на могиле своей матери, которая умерла, тоже не увидев ни счастья, ни доли.
А на песчаном бугре опять одиноко, словно озябшая нищенка, бредущая от села к селу, остается старая, корявая сосна. И еще жалобнее, еще надрывнее вздыхает она, потому что сухие черные корни ее впитали слезы еще одной обездоленной матери.
Лесопильный завод Рабинюка выпускал тес, штакетник и гонт – дранку для кровли домов и сараев. Гриша устроился на гонтовне, коногоном на приводе, от которого работала центробежная пила с нехитрым приспособлением для изготовления гонта.
Незавидная это работа: стой на деревянном круге привода и помахивай кнутом да посвистывай на пару сонных битюгов, которые так лениво переставляют ноги, словно на каждой висит по стопудовой гире. Кони идут по кругу все время в одну сторону. Привод тарахтит, как телега по неровной дороге. Центробежка взвизгивает, словно свинья, которую режут. И так с утра и до вечера. И день, и другой, и третий. Утешало Гришу только одно: за свою работу он получал целый злот в три дня, потому что попал к доброму мастеру. Абрам Шток, старый добродушный еврей с маленькими черными усами и длинными костлявыми руками, оказался заядлым курильщиком. Курил он почти через каждые двадцать минут. А так как курить возле машины не позволялось, то приходилось останавливать лошадей. Сначала Гриша радовался частым передышкам, а потом попросил у дяди Абрама разрешения работать вместо него. Так минуты перекура стали для Гриши самым счастливым временем. Закурив трубку и низко свесив совершенно лысую, отяжелевшую от дум голову, старик шел из гонтовни на привод, а Гриша – к машине.
Центробежка работала под тесовым навесом. В одном углу лежала куча щепы, а на середине в аккуратные штабеля складывались белые, крепко пахнущие смолой ровные дощечки, которые куда-то увозились и обращались в деньги для толстого кармана Рабинюка. Впрочем, Гриша пока что не задумывался, на кого он работает. Он был счастлив, что имеет дело с настоящей машиной, где одних гаек столько, что Санько позавидовал бы. Хотелось поскорее изучить машину и самому стать гонтовщиком. Дядя Абрам собирается уходить из гонтовни. Ему уже не нужно так много работать – жена и дочка умерли, а себя он прокормит и в городе. Гриша станет к машине и тогда будет получать каждый день по злоту. За год он скопит столько, что хватит рассчитаться с паном и даже купить гармонь. После того как приехал новый учитель, гармонь не давала Грише покоя. Он видел ее и во сне и наяву.
– Сто-о-ой! – прервал его сладкие грезы протяжный окрик. Лошади остановились.
– Что там? – спросил Гриша, глядя под навес.
– Да что ж! Ничего такого, – послышался хриплый усталый голос Штока. – Что ж тут, в этой глухомани, может случиться? Хозяин едет. А больше ж ничего интересного не произошло.
– Хозяин? – испугался Гриша и зачем-то спрыгнул на землю. – Так чего ж мы бросили работу?
– А прошло то время, когда я стоял перед ним навытяжку. Да и ты немножко поумнеешь, так перестанешь бояться хозяев. У тебя котелок варит неплохо, ты скоро поймешь, что к чему.
Из березнячка вылетела пара белых, как лебеди, сытых рысаков, запряженных в легкий черный фаэтон. Возле гонтовни вспотевшие красноглазые рысаки остановились. Кучер, по-городскому одетый усатый старик, остался на козлах с туго натянутыми вожжами в руках. А хозяин, старый, но крепкий и красный, как бурак, быстро подошел к приводу.
– Эй, мальчишька! Зови рабочих. Бегом!
Гриша стремглав помчался на склад. Рабочие знали, что если зовет сам, то прохлаждаться нельзя, и быстро собрались возле привода.
– У пана Скирмунта сгорело пятнадцать построек, – не дожидаясь, когда сойдутся все, заговорил Рабинюк. – Теперь туда нужно много дранки и доски. Только Мейзель нас может опередить. Тогда я не смогу платить вам по злоту. Лучше вы поторопитесь, поработайте ночку. Я уплачу два раза. Два раза! Понимаете? – повторил он, многозначительно подняв белый пухленький палец.
Рабочие молчали.
– Ну и что же? – нетерпеливо спросил Рабинюк.
– Да что ж, хозяин, – выступил вперед Шток. – Оно б неплохо и подзаработать, да небо ж заволакивает… К ночи дождь пойдет.
– Ну и что же?
– Вишь ты, в непогоду нельзя. Покалечиться можно.
– Ну и что же? Я же вам два раза плачу. Два раза! И… даже еще на водку добавлю! – Бросив эти слова через плечо, Рабинюк сел в фаэтон и, развалясь на мягких подушках, стал обмахиваться веткой бузины.
Рабочие тихо совещались. А Гриша смотрел на хозяина, которого видел впервые. Уставленные в затылок кучера черные глаза с белесыми мешками под ними, огромный горбатый нос и тяжелая, как старый мокрый лапоть, отвислая губа, создавали впечатление, что этот человек презирает все на свете, кроме самого себя и своих денег.
Абрам Шток проработал на лесопилках Рабинюка около пятнадцати лет и знал, что такое работа ночью да еще в непогоду, поэтому он старался отговорить рабочих от предложения хозяина. Но здесь было много новичков, и все молодежь. Каждому хотелось заработать, и рабочие согласились. Чтоб не подводить артель, Шток молча кивнул в знак согласия и понуро пошел к своему станку.








