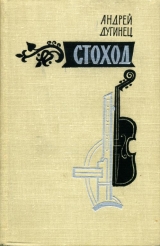
Текст книги "Стоход"
Автор книги: Андрей Дугинец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
– Мамочка! Почему ты так страшно смотришь?!
Мать обняла ее и, прижимая к себе, посадила рядом на лавочку. Она долго молчала, точно прислушивалась к едва уловимому шепоту старой вербы, потом заговорила тихо, устало:
– Не бойся, доченька, что я так смотрю. Это я на черемуху. Появился у нее отросточек. Да не долго ему красоваться…
– Пока не расцветет! А расцветет, сразу обломают, – сказала Олеся. – Да зачем ты про это думаешь?
– Как зачем? Это ж и твоя доля, – и, положив голову на плечо дочери, мать горько, беззвучно заплакала.
– Бронь боже. Бронь боже! Мамочка, что ты говоришь! Это неправда! – Олеся утешала мать, гладила ее по плечам, по голове.
Ветерок усилился, и верба начала помахивать своими длинными, седыми, как космы старухи, ветвями, словно хотела отогнать горе от Олеси и ее медленно угасающей матери. Немного успокоившись, мать вытерла кончиком платка слезы.
– Садись, моя ягодка. Я расскажу тебе про эту черемуху и про вербу.
Олеся села рядом и, чтобы не расплакаться, начала пристально рассматривать засохшую, почерневшую черемуху. Она представила себе это деревцо молодым и красивым. От каждого теперь уже высохшего сучка шла когда-то зеленая, кудрявая ветка. Весной, когда черемуха расцвела, одну ветку обломали возле самого ствола. Другую так просто отломить не удалось. Ее согнули, но она держалась крепко. Тогда, упираясь ногой в ствол, ее начали тянуть вниз. И вырвали вместе с толстым и длинным куском сердцевины. В эту трещину ветер набил земли, там поселились какие-то мохнатые, рыжие черви. С другой стороны дерева кто-то выхватил кусок коры шириной в солдатский ремень. А уж когда не осталось боковых веток, пришел, видно, кто-то длиннорукий и жадный, как Сюсько. Ухватившись за ствол, согнул деревцо в три погибели и отломил макушку. И все же черемуха каждую весну еще пыталась пустить новые ветки, расцвести и опять стать красивой, как и в первую весну. Но все ее усилия были напрасны. Наконец, ободранная, растерзанная, она быстро начала чахнуть. А увидев, что уже не подняться, пустила от корня отросток: может, хоть у него будет другая доля.
«Так вот почему мама говорит, что моя доля, как у этого отростка черемухи», – наконец догадалась Олеся. И под сердцем шевельнулось что-то холодное. Она вздрогнула и крепче прижалась к матери. Хотелось спросить, зачем же черемуха пустила на свет этот отросток, заранее зная, что судьба его будет такой же горькой, нескладной. Но она сдержалась, промолчала.
– Так слушай же, доченька. Эту вербу и черемуху мы с подругой посадили в один день. Как раз в первую весну после смерти твоего дедушки, когда я попала в этот барак. Посадили и загадали на счастье. Я и подруге советовала черемуху посадить, а она говорит: «Ты красивая, Антося, то и сажай черемуху. А я видишь какая рябая, так я посажу вербу».
– Кто это был, мамуся?
– Да Дунька рябая, что за Гирею.
– Рябая, а счастливая! – вздохнула Олеся.
– То ж старые люди не зря говорят: «Не родись красивой, а родись счастливой». Была б черемуха некрасивая да не цвела, жила бы себе, как верба: тихо и спокойно.
– Мама! – Олеся судорожно ухватилась за руку матери. – Неужели и я буду такая несчастная, как ты?
Мать отрицательно покачала головой:
– Нет, доченька! Ты будешь счастливее меня. Ты найдешь свою долю. Недаром же аист свил гнездо прямо над твоей постелькой. Только не доживу я.
– Мамочка, доживешь, доживешь! Ты скоро выздоровеешь…
Но мать, словно ничего не слыша, продолжала: – Потом Дунька вышла замуж за Ивана Гирю. А он же тоже был рябой и самый некрасивый хлопец. Ну, то не беда. Пожили они год. И нашел он кошелек денег. Кто его знает, одни говорят, украл, другие верят, что нашел… Поехали они с теми деньгами в Америку, чтоб разбогатеть. Да еще не доехали до самой Америки, а уже разбогатели. Опять, говорят, нашел. Вернулся, отхватил себе хутор за пять тысяч злотых, и живет теперь Дунька хозяйкою. А я не успела воткнуть ту черемуху, как Барабак пристал: «Работай у меня кухаркой». Говорит ласково, за руку держит и все усмехается. А я уже знала, чего стоит эта панская ласка. «Нет, – говорю, – не пойду, потому что замуж выхожу». «Замуж? Ну что ж, выходи. А в кухарки сама ко мне попросишься». Засмеялся так, что мне стало холодно, и ушел. Вышла я за Ивася, твоего отца. И рада: пришло мое счастье. Жили мы в хате его деда, в Коморах. Он в поле, я по домашности. Поля у нас было всего два морга, а жили мирно, хорошо. Да ни с того ни с сего Ивась мой в речке утопился: трех месяцев тебя не дождался. Мать его чуть не убила меня: «Это ты его со свету сжила!»
Только один человек на селе не верил, что Ивась сам утопился. Был у нас учитель, старый такой, рассудительный. «Нет, – говорит, – не сам он утопился, его утопили». И показал следы пальцев на шее Ивася. «Сперва, – говорит, – его задушили, а потом в речку сунули. А только как же узнаешь, чьи то были пальцы…»
Олеся смотрела на черемуху, слизывала с верхней губы горячие соленые слезы, но не шевелилась, чтоб не прервать рассказ матери.
– А через каких-нибудь полмесяца на поле, где я жала, снова пришел Барабак. И опять за свое: иди кухаркой. Я и тут отрубила: не пойду. Он ушел, как и тогда, с усмешечкой. Даже доброго здоровья пожелал. А тут уже вскоре и ты нашлась. Ну, думаю, вдвоем нам будет веселее. Ты хоть ничего еще не понимала, а я на второй день уже разговаривала с тобою, как с большою, советовалась. Да не долго довелось нам так ворковать… Подошла осень. Начали картошку копать. Я спеленаю тебя – и в поле. Ты была спокойная, терпеливая, будто понимала, что нет у меня времени нянчиться.
Один раз утром копаю картошку. Глядь – а в селе пожар. Чи то не моя хата горит? Схватила тебя и домой. Да не успела. Пока добежала, хата наша сгорела. Пожили мы с тобой у соседки с неделю. А тут зашли холода, выпал снег. У соседки своих как гороху по хате насыпано, да еще и я с тобою. И опять же эта проклятая красота! Ревновать стала мужа своего соседка, хоть я и сном-духом ничего не знала.
Куда деваться? И пошла я в Морочну, к свекрови. Кое-чем закутала тебя и несу. Думаю: бабушка ж, не откажется. А она, старая карга, и на порог не пустила. Шипит как змея, что я ее сына свела в могилу. Горько мне было, Олеся! Ох, как горько! Я ж его любила… Иду я от нее, плачу… слеза слезу побивает…
И что же думаешь? Навстречу мне опять Барабак. Едет на подводе, веселый, ласковый. А я, говорит, за тобою. Узнал, что у тебя горе, и решил выручить. Думала я тогда только о тебе и готова была на все. Села в бричку и поехала. Жена у него была из богатых, да уродливая. С первого же дня она поедом ела меня за мою красоту. Два года промучилась я у стражника. Ни кухарка, ни жена, ни хозяйка. А потом ушла в барак. Но и там он еще долго не давал мне покоя. Чего только не вытворял! Правда, все это тайно, но я теперь уже знала, кто мне на каждом шагу ногу подставляет. Знала, да ничего не могла поделать. Вот и начала чахнуть. А тут еще ж и побил он меня. Да это ты знаешь…
– Жаль, что Гриша мало ему… – процедила Олеся сквозь зубы, и, спохватившись, замолчала.
– Что ты сказала, доченька?
– Да то я так, ничего. Больно мне за тебя, мамочка.
– Ты опять про Гришу? – мать посмотрела в глаза Олеси. – Ох, доченька, давно я хотела сказать тебе, да все жалко.
– Про что, мамця?
– Боюсь за тебя.
– Чего ж за меня бояться?
– Полюбишь такого же бедного, как сама, выйдешь за него – и не будет доли ни тебе, ни ему. – Тонкими худыми пальцами мать перебирала тяжелые черные косы дочери. – Подружились вы с Гришей. Ягоды вместе рвете. Рыбу ловите. А потом и полюбитесь.
Олеся молчала, затаив дыхание. Все в ней напряглось, натянулось, как струна, ей стало жарко.
– Полюбитесь, да и выйдешь за него. А ни постлать, ни прикрыться…
– Мама, мамочка… – Олеся задыхалась от слез, подступивших к горлу. – Что же делать?
Но мать продолжала свое:
– Мы с батькой твоим любили друг друга, а что от этого, раз не пришлось пожить? Уж лучше б он женился на такой, чтоб никто не завидовал. А я бы свою лямку тянула и хоть редко, да видела б моего любимого Ивася. Вон Гашка вышла не по любви, а привыкла и не жалуется на свою долю, хотя и не забыла Семку Коваля, с которым гуляла два года. По любви жениться могут только богатые, да и то они этого не делают. А вам надо прилаживаться так, чтоб муж и прокормил семью, и сумел постоять за нее. Что же поделаешь – такая наша доля.
Олеся молчала, чтоб не огорчить мать. Когда она расстроится, то кашляет так, будто все нутро выворачивается наизнанку.
– Лучше не надо мне этих денег, не ходи ты больше по рыбу.
– Мамочка! Так я ж пообещала прийти до полдня. Как же я… Гриша зря будет бродить по речке. Да еще и дождь собирается.
– Если у него добрая душа, он только обрадуется, что ты не пришла в дождь.
– Ну а потом как же? Он подумает, со мной что-то случилось. Вечером прибежит сюда.
– Вот и хорошо. Я с ним и поговорю.
– Бронь боже! Бронь боже! – замахала Олеся руками. – Лучше я сама…
– Да ты не бойся, моя красная ягодка, я не обижу его. Нет, за что ж обижать хлопца. Он так помогал нам… Скажу ему, что приказчик видел тебя с рыбой и теперь будет следить.
– Мама, это ж неправда, это грех!
– Лучше раз согрешить, чем всю жизнь мучиться!
Олеся уткнулась лицом в колени матери, притихла, только плечи ее время от времени вздрагивали.
– Не горюй, доченька. Не горюй. Вот же поселился аист. Не зря ж он выбрал место прямо над твоим уголком. Придет твое счастье, придет… – Мать вздохнула и посмотрела на дождевую тучу, тяжело нависшую над бараком. – Зимой ты уже пойдешь на вечорки. Полюбишься хорошему хлопцу. Не батраку, а такому, что сам хозяином будет. Конечно полюбишься. Только не чурайся, когда будет с тобой говорить хлопец из хорошего дома. Не гони свое счастье. Прилаживай свое гнездышко к надежному дереву.
Она умолкла. Верба тихо шумела, точно повторяла про себя то, что нечаянно подслушала. Зеленый побег черемухи качался, гнулся от ветра и все клонился к раскидистой, самоуверенной вербе, словно боялся, что и сам он зачахнет возле родного, но прогнившего старого пня.
Тоскующим, ничего не видящим взглядом Олеся смотрела куда-то далеко-далеко и думала: «Может, и правда лучше быть простой вербой, чем красивой, но искалеченной черемухой».
* * *
В этот вечер Грише не удалось поговорить с Олесей. Когда загонял коров в хлев, она пробежала мимо и горячо шепнула:
– Завтра приду туда. Не сердись.
И убежала, даже рыбу не взяла.
* * *
Утро после дождя наступило свежее, ясное. Деревья стояли чистые, веселые, словно дети после купанья. До восхода солнца они молчали, прислушиваясь к заливистому пению птиц. А когда зеленые макушки многолетних великанов вдруг вспыхнули ярким румянцем, а с озера потянуло сквозняком, деревья вздрогнули, точно струны: березки зашелестели, елки зашушукались, как девушки, завидевшие незнакомого парня, стройные сосны загудели низким раскатистым басом, и только дубы лишь изредка чуть слышно вздыхали.
Гриша сидел на березовом пеньке и слушал эту музыку утреннего леса. Он так размечтался, что не заметил, как сзади кто-то подошел и руками закрыл ему глаза.
По тонким ласковым пальцам Гриша сразу же узнал Олесю, вскочил. Девушка стояла перед ним босая, в голубеньком вылинявшем платье. Гриша восторженно спросил:
– Олеся, ты слышишь, как поет лес?! Слышишь?
– Ты как та чуткая скрипочка, – тихо ответила девушка. – Тебе не только лес, а и вода в озере, и трава на лугах, и даже капли дождя – все тебе поет.
– Когда я стану настоящим музыкантом, – Гриша говорил это, мечтательно глядя в глубь леса, пронизанного яркими лучами солнца, словно золотыми струнами, – я обязательно научусь играть песни нашего бора. Нигде лес не поет так хорошо, как у нас.
Олесе хотелось возразить: как можно судить о других лесах, если ты в них не бывал. Но жалко было разбивать сладкие грезы друга, потому что и ей они были дороги. И она тихо, протяжно запела «Барвиночек» – любимую песню Гриши.
Пересчитав коров, пасшихся вдоль опушки, Гриша вслед за Олесей вышел на широкую поляну, окруженную старыми мохнатыми елками. Высокая густая трава здесь чуть заметно волновалась. Огромные кремово-белые цветы медуницы, разомлевшие под лучами утреннего солнца, источали медово-теплый аромат, от которого сладостно и угарно щекотало в носу.
Олесе захотелось побегать по траве. Она шлепнула Гришу по плечу:
– Догоняй!
Гриша мгновение постоял в нерешительности и тоже пустился по росистой траве.
Быстро сверкая пятками и полными розовыми икрами, Олеся то бежала прямо и звонко смеялась, то, подпустив Гришу совсем близко, вдруг круто поворачивала. На неожиданных поворотах трава под босыми ногами скрипела, как мокрое стекло, когда проведешь по нему пальцем.
В какой-то счастливый миг он угадал намерение подруги, кинулся навстречу, и они столкнулись лицом к лицу. Раскрасневшиеся, запыхавшиеся, ухватились за руки.
– Ну, все! – мягко высвобождая руки, сказала Олеся. – Теперь ты беги!
Но Гриша никуда не собирался бежать. Он смотрел на Олесю и не мог оторваться, словно видел ее впервые.
Иссиня-черные, до половины расплетенные косы тяжело повисли на грудь. Красные и сочные, как слипшиеся смородинки, губы чуть приметно вздрагивали, чего-то ждали.
Гриша неожиданно схватил ее за плечи, привлек и рывком поцеловал.
Олеся звонко шлепнула его по щеке и снова убежала.
Остановившись на середине поляны и спрятав лицо за пушистым цветком медуницы, она громко, чтобы заглушить смущение, запела что-то неопределенное, но вызывающе веселое. Голос от волнения срывался, но она пела все громче, все задорней.
Гриша с минуту стоял на месте. Его удивил какой-то незнакомый радостный страх, появившийся после поцелуя. Он не знал, что делать, и не отрываясь смотрел на Олесю.
Вдруг, как вихрь, Гриша сорвался с места. Ему захотелось еще и еще раз поцеловать эти огненно-спелые смородинки.
Подпустив его совсем близко, Олеся бросила ему в лицо горсть белой цветочной кашки, а сама легко, как горлица, метнулась в сторону.
– Ну, – крикнул Гриша, – теперь держись!
Но в это время на конце поляны громко, протяжно затрубила корова.
Олеся вздрогнула, вспомнив, что шла совсем не затем, чтобы резвиться и бегать. И виновато опустила голову.
Гриша понял, что радостная минутка, которую оба только что пережили, улетела, как птица из открывшейся клетки.
– Олеся, что с тобой? – спросил он с участием. – Маму жалко?
Олеся закусила губку и, отвернувшись, начала растирать ногой траву. И вдруг, едва сдерживая рыдание, сказала:
– Мама не разрешает больше ловить рыбу.
– Почему? – убитым голосом спросил Гриша.
Олеся заплакала. Сорвалась с места и побежала. Гриша догнал и, схватив за руку, остановил ее под огромной сосной. Олеся отворачивалась и плакала навзрыд.
– Ну, что случилось? Почему не разрешает?
– Не разрешает, и все, – с трудом ответила девушка.
Почувствовав, как сразу ослабли пальцы Гриши, высвободила свою руку и пошла прочь.
Гриша молча смотрел ей вслед. Бледно-голубое платье, как ручеек в густом лесу, мелькало то там, то тут. Вскоре оно растворилось в сизой дымке, мревшей в глубине леса.
Старый сосновый бор сумрачно молчал, словно и не было здесь никогда веселого смеха.
Где-то у самой верхушки сосны со звонким треском обломился пересохший сучок. И опять нависла тоскливая, сосущая сердце тишина.
Гриша стоит на высоком красном столе и играет на маленькой золотой скрипке. А кругом толпа, как на базаре. Кто слушает молча, кто плачет. А кто-то тихо стонет и время от времени шепчет:
– Гриша, помоги, помоги…
Гриша перестал играть. Прислушался, и вот уже нет вокруг него никакой толпы, а только речка. И Олеся, стоя в лодке, вынимает наставку, в которой бьется черная пудовая щука. Бросив золотую скрипку, Гриша бежит на помощь Олесе. Но вдруг за спиной слышит стук в дверь. Где ж там дверь? Никакой двери и не видал. А стучат. Все громче и настойчивей.
– Сейчас! – силится ответить Гриша, но лишь мычит сквозь сон и поворачивается на другой бок.
А стук повторяется настойчивее и громче. Наконец Гриша просыпается. В ворота сарая и на самом деле кто-то вовсю барабанит кулаками.
– Гришка, открой! Скорей! – слышится тревожный, сдавленный шепот.
– Санько?! – Гриша кубарем слетел с сеновала и – к воротам. Отдернул засов, высунулся в сырую непогожую тьму ночи. – Откуда ты?
– Хватай палку. Бежим! – торопил Санько. – Учителя хотят обокрасть.
– Что ты?
– Сам видел, кто-то полез на чердак.
Выхватив из плетня по палке, друзья огородами помчались к дому учителя.
С тех пор как Санько ушел на заработки, Гриша его не видел. Ходили слухи, вроде Санько так разбогател, что купил сапоги и каждый день ест хлеб и запивает лимонадом. Только один дед Конон недоверчиво качал головой: плетете, мол… И вот он, Санько. В том же полотняном пиджачке, теперь уже изодранном в клочья. И даже не в постолах, а совсем босой.
Перепрыгивая через плетни и заборы, друзья взбудоражили всех собак. Гриша понял из торопливого рассказа друга, что тот ничего не заработал у Мейзеля, а только обносился. Платил хозяин половину того, что платят на других фанерных фабриках. Рабочие не вытерпели, разбили фабрику и разошлись. Отправился домой и Санько. В Морочну он вошел вот только сейчас. Проходя мимо старой хаты Ивана Гири, где жил теперь учитель, заметил, что кто-то лезет на чердак. Но лишь подойдя к Гришкиной хате, он догадался, что учителя хотят обокрасть или поджечь.
Возле дома учителя было тихо, темно. Притаившись под глухой стенкой и посматривая из-за угла на чердачную дверцу, ребята долго прислушивались. Собаки от злости рвали цепи и заливались так, словно в каждый дом лезло по шайке воров. Но мало-помалу они успокоились, и на селе стало тихо. Тесно прижавшись друг к другу и держа наготове палки, ребята босиком стояли па раскисшей от бесконечных сентябрьских дождей студеной земле. Ноги коченели. Зубы стучали. А с чердака никто не спускался.
– Сань, давай разбудим учителя и все расскажем, – не вытерпел Гриша.
– Выдумал! Скажет, вдвоем одного побоялись. Да и неловко ночью беспокоить!
– Сам пойду, я у него уже три раза был. Стой тут, следи за чердаком…
Гриша пробрался к двери. И только потянул веревочку щеколды – дверь открылась. Он вспомнил, что этот дом не запирается на ночь, потому что к Анне Вацлавовне днем и ночью приходят люди за медицинской помощью.
– Пане учитель! – прошептал Гриша.
Проснулась Анна Вацлавовна и подбежала к двери.
– А? Заболел кто-нибудь? Где?
– Нет, никто не заболел. Это я, Гришка Крук.
– Что случилось, Гришутка? Сейчас я зажгу лучину.
– У вас на чердаке воры!
– Воры? Что ты, милый! У нас и в доме воровать нечего, не только на чердаке.
Проснулся и Александр Федорович. Жена объяснила ему, в чем дело. Зажгла лучину. Накинув плащ и на босу ногу натянув сапоги, учитель вышел с Гришей во двор.
– О, да вы вдвоем, – сказал он, заметив прижавшегося к стенке Санька, – и оба босые? Сейчас же в комнату, на печку.
– Пане учитель, возьмите палку, – стуча зубами, предложил свое оружие Санько.
– Марш в комнату! Управлюсь без палки.
Анна Вацлавовна посадила ребят на лежанку греться, а сама тоже вышла.
Учитель возвратился не скоро. Когда вошел, сразу же раздул огонь в коминке, бросил на стол кучу книг и газет. Бледный, расстроенный, он повернулся к ребятам:
– Спасибо, что разбудили… Только жаль, что вы еще несовершеннолетние и не можете быть свидетелями. Кто-то подбросил нам книжки, за которые можно угодить в самую Картуз-Березу.
– Но все же, если что случится, сошлемся на них, – взволнованно говорила Анна Вацлавовна. – Мол, ребята видели, как кто-то лез на чердак.
– Ах, что уж там докажешь! – перебирая книжки, ответил Александр Федорович.
– Нужно поскорее сжечь все это! – хозяйка бросила книги в печь и начала растапливать.
Возле дома послышался топот лошадей.
– Быстро через крышу сарая и огородами домой! А то еще скажут, что я вам читал все это. – Александр Федорович кивнул на печь, где никак не разгоралась отсыревшая и слежавшаяся бумага.
– Это про политику? – спросил Гриша. – Дайте мы спрячем.
– Поздно. Хоть сами ушли бы незаметно…
Ребята убежали. А учитель подошел к печи, чтобы помочь жене:
– Керосинчику бы!
– Что ты! Банка сухая, – ответила Анна Вацлавовна.
В коридоре уже шарили, отыскивая вход.
– Ложись, Аня. Я сам с ними…
Рывком открылась дверь, и в комнату просунулась красная физиономия коменданта полиции.
– Дозвольте войти, пане учитель, – пророкотал он и, не дожидаясь разрешения, вошел.
Печка была уже закрыта. Хозяйка лежала в постели. Хозяин стоял возле стола. На приветствие коменданта он ничего не ответил, только, подложив сырой лучины, убавил свет в коминке, чтобы в темноте скрыть свое волнение. За комендантом вошли два полицая и солтис [10]10
Солтис – сельский староста.
[Закрыть]. Полицейские остановились у двери. А солтис, держа в руках шапчонку, вышел на середину комнаты.
Бросив в огонь лучину посмолистее, комендант сел к столу и объявил, что должен сделать обыск, так как есть сведения, что учитель хранит большевистскую литературу.
– Пан учитель, – комкая свою потрепанную шапчонку и переступая с ноги на ногу, смущенно заговорил солтис, – пан учитель, я битый час уговаривал пана коменданта не беспокоить вас ночью. Да какое-то падло написало, что вы, значит, большевик, красный. Ей-богу, не верю, пан комендант. И сейчас не верю…
– Сами разберемся! – оборвал комендант.
Встал с постели Игорек. Он протирал глаза и, видно, плохо понимал, что происходит.
Комендант подошел к печке, открыл заслонку. И спокойно спросил:
– Что, не загорелось? Как же вы, пан учитель, такую ценную литературу – и в печку?
– Пан комендант, вся эта провокация шита белыми нитками, – ответил учитель. – Пан солтис, вы должны узнать правду и рассказать ее людям. Часа два назад на чердаке нашего дома был какой-то прохвост и подбросил все это, – Александр Федорович указал на ворох незагоревшейся в печке бумаги.
Солтис испуганно смотрел в печь. Комендант криво усмехнулся и, покачивая головой, процедил:
– Пан Моцак! Вы образованный человек и не могли придумать объяснения получше? Кто ж понесет на чужой чердак такие книжечки! Коммунисты рвут их из рук, жизни за них не жалеют, а вы…
– Кто понесет? Вы прекрасно знаете, кто их принес!
– Ну, не будем терять времени. – Комендант встал и подошел к печке. – Значит, не загорелись? Хорошо. Еще где есть?
– У меня никогда ничего подобного в доме не бывало. Потому-то я сразу все и бросил в печь…
– Как только узнали, что мы едем к вам, – докончил фразу комендант. – Интересно бы установить, кто вам сообщил об этом.
– Эх вы! – вздохнул учитель. И больше он не сказал ни слова, пока не услышал приказа собираться.
Едва Александр Федорович оделся в старенький черный костюм, комендант надел ему наручники.
– Папа! Папа! Зачем тебя спутали? Распутайте его. Распутайте! – закричал Игорек, вырываясь из рук матери.
* * *
Чуть свет Гриша и Санько опять прибежали к учителю. Дома оказался только Игорек. Он сидел на земляном полу посреди комнаты и связывал куски шпагата в одну длинную веревочку. На вопрос ребят, что он делает, Игорек ответил:
– Петлю. Мама сказала, надо повесить того, кто принес нам страшные книжки.
– А папа твой еще не вернулся?
– Мама сказала, теперь он вернется, когда я буду уже большой. А я буду много есть, чтоб скорее вырасти.
Насупившись, Гриша и Санько вышли из осиротевшего дома.
– Санько, смотри! – наклонившись, прошептал Гриша. – Чей это след?
– Полицая, – сказал Санько, увидев в грязи след сапога.
– Как раз! У полицаев на сапогах подковы. А у самого коменданта разве ж такая маленькая нога?
– Чей же?
– Чей, чей! Того, кто был на крыше и все подстроил!
– Правда? – удивился Санько.
– Сам посмотри: полицейские приехали отсюда, лошадей поставили возле дверей. – Гриша потащил Санька к двери: – Видишь, их большие следы идут прямо в дом, а к глухой стенке им не за чем было идти.
– А! Что узнаешь по следам! – уныло ответил Санько.
– Эх ты! Да я каждую корову знаю по следу. Даже когда грязи нет, разыщу. По следу можно все узнать… – Гриша снова присел возле следа. В черной густой грязи каблук сапога отпечатался так четко, что видны были все гвоздики. На самой середине каблука один гвоздик скрутился червячком. Внук сапожника знал, что так скручивается гвоздик, когда попадает на другой, вбитый раньше.
– Санько, теперь везде будем искать этот след. Не я буду, если мы его не отыщем!
– Давай смотреть возле каждого дома, где есть сапоги, – предложил Санько.
На ходу они начали считать дома, в которых есть сапоги. Насчитали четыре: у попа, у дьяка, у писаря и у самого учителя.
Сапоги учителя не брались в расчет: они были другой формы. У попа нога как лапоть. Его широченные мокроступы знает вся деревня.
К вечеру Санько уже знал, что отпечатки сапог писаря и дьячка совсем не похожи на таинственный след возле дома учителя.
* * *
Утро только начиналось. Над высокими дымарями висели тяжелые облака густого темно-сизого дыма. В безветрие дыму некуда было податься, и, придавленный холодным отсыревшим небом, он оседал прямо на крышах. Под воротами и плетнями, точно мохнатые серые щенята, прятались сизые клубки тумана. А по улице со стороны имения уже шел пан Суета с неразлучной черной книгой под мышкой. И где-то на самом краю Морочны время от времени раздавался глухой, словно отсыревший, голос десятника:
– На шарварок! На шарварок!
Люди, как всегда, запирали ворота, прятались по задворкам, убегали в поле. Не прятался на этот раз только дед Сибиряк. Как нищенскую суму, повесив через плечо серую, много раз штопанную торбу, он шел на конюшню графа. В торбе он нес швайку, дратву, две печеные картофелины и луковицу. Он часто спотыкался, хотя смотрел прямо себе под ноги.
На второй день после ареста учителя приказчик объявил, что Грише в школу ходить не разрешено и что управляющий приказал и самому деду Конону перебраться на конюшню и работать шорником до тех пор, пока не отработает долга. Оляна просила управляющего вместо отца взять на работу ее. А тот и слушать не стал. Тогда она решила упасть в ноги самому графу. Но ясный пан уехал охотиться на уток. Заплаканная, убитая горем Оляна возвращалась домой. И как-то незаметно для самой себя свернула на тропинку, по которой когда-то ходили с Антоном в лес.
Антон издали заметил Оляну и вышел ей навстречу по той же тропинке вдоль опушки леса. Остановился возле невысокого, но толстого, наполовину сожженного молнией дуба. Метрах в трех от земли дуб когда-то был начисто срезан. Но он пустил новые ветки на самом верху и теперь стоит снова буйный, кучерявый. Антон с грустью посмотрел на дерево и вспомнил давнее, утерянное навсегда.
…Стоят они вдвоем с Оляной под дубом, ждут, пока пройдет ливень. А молнии на куски рвут черное майское небо, и гром сотрясает землю до основания.
– Антон, любимый, может, это бог на нас гневается? – шепчет девушка, дрожит и с диким ужасом смотрит на беснующееся небо.
– Не бойся, гроза сейчас кончится, – выходя из-под дуба, успокаивает ее Антон. – Мы пойдем до батюшки и уговорим его обвенчать нас.
– Он не захочет без согласия батька.
– А это на что? – показал Антон узелок с деньгами.
В этот миг все вокруг него вдруг вспыхнуло хлестким ослепляющим огнем. И огонь этот словно проглотил его невесту.
– Оляна! – не своим голосом закричал Антон.
Но снова грянул гром и заглушил его голос. Опять стало темно. И Антон не увидел Оляны. А дуб, под которым они только что стояли, остался без ветвей и дымился, как большой догорающий костер. От срезанной кудрявой кроны его до самой земли была отколота добрая треть сердцевины. Черная, обуглившаяся, она торчала, как переломанная кость.
– Оляна! – крикнул Антон еще раз.
А когда молния сверкнула опять, он увидел Оляну уже вместе с ее отцом на дороге. Толстыми веревочными вожжами Конон Багно гнал свою дочку домой. А через день Оляна стояла в церкви под венцом с Харитоном Круком, у которого был и свой дом, и ковалок земли. И раскололась жизнь Антона Миссюры, как тот дуб под ударом грома. Вместе с невестой у него словно отняли и счастье, и разум, и смекалку… За что ни возьмется, нет ему удачи. Первое время он старался во что бы то ни стало разбогатеть. Все что-нибудь выдумывал: то бричку-самокатку, то плуг такой, чтоб пахал без коня, а то смастерил водяное колесо, такое, что сразу может приводить в движение просорушку, молотилку и веялку. Ни на одну из этих машин в Морочне не было спроса, и они не принесли Антону ничего, кроме разорения и насмешек. На селе стали считать его чудаком и неудачником. А когда он в кузне устроил электрический движок и осветил свое рабочее место, кто-то спалил его кузню. Разоренный в прах, Антон уехал в Америку, надеясь заработать много денег, купить самый лучший в Морочне хутор и если не переманить к себе Оляну, то хоть отомстить ее отцу, погнавшемуся за каким-то там ковалком земли Харитона Крука. Но из Америки Антон Миссюра вернулся несчастнее, чем был. Вместо долларов привез оттуда тропическую малярию да подобранную где-то на пароходе голубую бархатную шляпу с розовым бантом на боку. Он не знал, что это была дамская шляпа, и гордо щеголял в ней по праздникам. За это и прозвали его Американцем. Со временем это слово сократилось, обтерлось, как старая, долго ходившая по рукам монета, и получилось короткое прозвище: Маракан.
Возвратившись, Антон пошел батраком к Рындину. А потом управляющий впряг его и в работу с Крысоловом. Антон принял на свои плечи еще одну тяжесть: «Плечам тяжело, душе легче».
Из задумчивости Антона вывел шелест травы. Он глянул вперед: Оляна шла не по тропинке, пытаясь обойти его. Встретились глазами, и она смутилась, вернулась на тропу.
Молча пошли к селу. Она по тропе. Антон по высокой траве. Уже возле самого села Антон, глядя себе под ноги, тихо сказал то, о чем думал непрестанно:
– Выходила б замуж.
– Ох, Антон, не до того мне теперь. Будто не видишь, как бедую…
– От и говорю, что все вижу. Все я вижу, Оляна. И не можу больше терпеть твоего бедованья…
– А вдвоем, думаешь, будет легче? У меня ж еще и хлопец.
– Хлопцу я буду за родного батька. Соглашайся, Оляна, а то убегу в Советы.
– Что ты, бог с тобою!
– Я давно убежал бы, да не можу без тебя. А откажешь, решусь.
– Нет, Антон. Не уходи, то хоть редко, да вижу тебя…
– Оляна! То правда? Не забыла?..
– Ничего не забыла, Антоша. Ничего. – И залилась слезами.
Антон начал ее успокаивать:
– Может, еще что переменится. Говорят, скоро пан продаст имение, простит долги и уедет.
– Э-э, скорее Чертова дрягва высохнет, чем ясный пан простит нам долги!
Холодным осенним утром, как шипучая болотная гадюка, в Морочну вполз слух: учитель в Березе Картузской.








