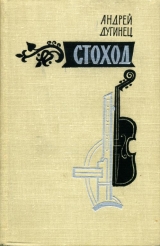
Текст книги "Стоход"
Автор книги: Андрей Дугинец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц)
Дед засунул топор за пояс и пошел назад, бурча себе под нос:
– Брал пеньки корчевать. А теперь вижу, до греха недалеко…
Барабак, видно, вспомнил, чем кончилась попытка лесничего отнять у Сибиряка топор, и решил, что один на один с дедом не стоит связываться. Пожимая плечами и оглядываясь, он возвратился к коню. Вскочил в скрипящее, обшитое красной кожей седло, огрел жеребца плеткой так, что тот взвился на дыбы, и пустил с места в карьер.
– Дедушка, что ж теперь будет? – сдавленным шепотом спросил Гриша, когда всадник скрылся за пшеницей.
– Теперь, внучек, надо за ночь успеть… А там будь что будет. Только бы землю тебе добыть!
И снова Гриша увидел своего деда суровым, могучим. Даже усы его теперь не висели мочалками, а задорно торчали в разные стороны. Правда, они мало походили на те острые, как штык, бравые матросские усы, какие Гриша видел на старой фотографии, висящей над кроватью дедушки. Но все же сейчас эти усы да и все выражение лица сильно напоминали решительного, отважного защитника Порт-Артура.
Видя, как легко дед выворачивает огромные глыбы мокрой болотной земли, Гриша старался изо всех сил, но ему не удавалось поднимать и половины того, что поднимал дед. Ростом он был уже деду по плечо, но худой и щупленький, как болотная березка. К тому же, как назло, ему с самого обеда сильно хотелось есть. Под ложечкой сосало, а в глазах кружились огоньки. Он беспрерывно пил воду, чтобы обмануть себя. Но от болотной воды в животе булькало и болело еще сильнее. Однако Гриша не жаловался, а, стиснув зубы, копал и копал…
Зашло солнце. Болото сразу же выпустило белый прохладный туман. Лозы окутались сединой. Кругом стало тихо, тоскливо. Слышалось только хлюпанье воды под ногами да сочное чмоканье мокрой земли, выбрасываемой лопатой. И вдруг в той стороне, куда ускакал Барабак, раздался крик. Дед и внук прислушались. Громкий, отчаянный крик повторился. Потом он оборвался так же внезапно, как и начался. И послышался удаляющийся топот конских копыт.
– Кого-то убили! – закричал Гриша. – Может, Санька. Это Барабак!
– Тю на тебя. Такое скажет! – возразил дед, но тут же тревожно добавил: – А кто его, сукина сына, знает. Он это может, попадись ему в глухом месте. Вот же кричал человек, а больше не слышно. – Дед прислушался и вдруг прошептал: – Беги, Грыць, беги краем болота, я тут один управлюсь. А нужно будет, крикни. Беги скорее.
Гриша выбежал из воды и, не обращая внимания на боль в животе, со всех ног пустился по едва заметной в сумерках тропинке. Над болотом, до краев залитым молочным туманом, всходила красная, тяжелая луна. С материнским участием следила она за бегущим хлопцем. А когда он углубился в ольшаник, показала ему другого, большего ростом паренька. Гриша угадал. Это был Санько. Он сидел возле плотины из лозы, по которой самые безземельные жители Морочны гоняют своих коров на болотные пастбища, и шарил руками по траве.
– Санько! Это ты?
– Угу, – как всегда, угрюмо и коротко ответил Санько.
– Да ты весь в крови!
– Не весь. Голова. Да руки.
– Мы с дедушкой боялись, что тебя убили. Это Барабак?
– Угу.
– Дай перевяжу.
Гриша, пошарив между кустами лозы, сорвал несколько лопухов, из осоки свил веревочку и перевязал другу руку выше локтя, где рукав полотняной рубашки был разорван.
– На щеке у тебя тоже кровь.
– Щекой не работать. А вот рука…
– Хорошо, что ты громко кричал, мы услышали.
– Это я чтоб стражник скорей отвязался.
– Сань, а ты чего сюда попал?
– С коровой.
– Так это правда, что ты ее выкрал?
– Свое не крадут.
– А Барабак ее назад угнал?
– Черта с два! Теперь даже с полицией не найдет.
– Так он и не станет искать. Пригонишь доить, заберет, и только.
– Уведу в город, продам, с паном рассчитаюсь и еще останется, – ответил Санько и опять продолжал шарить по траве.
– Да что ты ищешь?
– Винтик. Из-за этого гада потерял.
– Оставь ты его.
– Он с гаечкой.
Гриша знал, что винтик с гаечкой для Санька самое большое сокровище, и все же сказал:
– Пошли. Зачем он тебе сейчас?
– Сейчас незачем. А потом пригодится в хозяйстве, – озабоченно ответил Санько. – А ты с дедушкой? Косите?
Гриша загадочно помотал головой и, придвинувшись ближе, прошептал:
– Политикой занимаемся…
Санько в недоумении отодвинулся и даже искать перестал. Но тут оба услышали топот копыт и спрятались за кустами лозы.
Четыре всадника во главе с Барабаком, ломая лозняк, бурей промчались мимо притаившихся ребят.
Топот копыт быстро удалялся. Гриша стоял, оцепенев от ужаса. И вдруг закричал во весь голос:
– Дедушка! Де-душка!
– Что ты! – Санько схватил друга за рукав.
– Дедушку убьют! Дедушка-а-а!
И точно в подтверждение этого опасения, на болоте раздались два выстрела, крики и ругань.
Стремглав бросились друзья на помощь.
– Убили! Убили! – захлебываясь слезами, твердил Гриша, не замечая под ногами ни кочек, ни сучков сухой лозы.
Луна, ни на шаг не отступая от ребят, катилась по белому застывшему озеру тумана. Она видела, как Барабак выстрелил вверх из пистолета, потребовав, чтобы дед отдал топор и лопату, и как потом били старика лопатой до тех пор, пока не переломился черенок, и как четверо здоровенных стражников, повалив деда в грязь, пинали его, а потом, связав, взвалили на коня и увезли. Все это видела побелевшая от ужаса полная июльская луна. Но ребятам, когда они прибежали, она показала только соломенный брыль, плавающий в воде, сломанный черенок лопаты да торчащее из грязи старое блестящее топорище.
Три дня подряд шел мелкий ленивый дождь, переходивший в надоедливую туманную мо́рось. Тяжелое небо опустилось на крыши хат и сараев. Ни утром, ни вечером солнца не было видно, будто оно совсем пропало в холоде и сырости и над миром навеки повисло это тусклое, как залежавшийся свинец, угрюмое небо. Лишь на четвертое утро ветер изменился. Дождь перестал. Небо немножко поднялось, но осталось по-прежнему серым, угрюмым. А с болота во все стороны повалили тяжелые волнистые туманы. Огромными клубами тянулись они по огородам, по улице и закоулкам, взбирались на разбухшие деревянные крыши и там оседали плотными слоями серой плесени, мелкими, как чечевица, грибками на паутинно-тонких ножках, питали собою мхи, разбросанные, как нищенское тряпье, по кровлям бедных покосившихся хат. Куда ни глянь – туман, туман.
Гриша не замечал ни сырости, ни холода, ни тумана. С рассвета до темна сидел на старом плетне против полицейского участка и с тоской смотрел на маленькое окно с решеткой из толстых железных прутьев. Порою в этом оконце появлялись лица арестантов, больше все незнакомых людей. Но ни разу Гриша не увидел дедушку. Может, давно уже умер, да не говорят?
Каждого выходящего из участка полицая Гриша хватал за руки и умолял хоть что-нибудь сказать о дедушке. Не обращая внимания на грубые окрики и подзатыльники, он подолгу бежал за полицаем в надежде услышать хоть слово. И один-таки сжалился, буркнул через плечо:
– Жив твой дед, да только очень плох.
– Жив! Жив! – обрадовался Гриша и стремглав бросился домой поделиться этой вестью с матерью.
На бегу он увидел одноконную подводу, нагруженную домашним скарбом. На вещах с гармошкой в руках сидел кудрявый мальчик лет семи. За подводой, повесив через плечо кнут, ковылял хромой Василь, конюх с панского двора. А следом за ним шли незнакомые мужчина и женщина. Он в широкополой соломенной шляпе и сером полотняном костюме, сшитом по-городскому. Она в простеньком розовом платье.
«Новый учитель! – догадался Гриша, остановившись на середине улицы и рассматривая не столько учителя, сколько гармошку в руках мальчика. – Держит в руках и не играет! – думал с досадой. – Я бы…» – Он вздохнул, не зная, что бы он сделал, попадись ему в руки такая чудесная вещь. Играть-то умел он только на сопелочке… Подвода свернула в проулок и скрылась во дворе Ивана Гири, а Гриша отправился дальше. Но перед глазами долго еще стояла черная гармошка с белыми пуговками…
Во дворе у Козолупов Гриша увидел большую толпу. Мать и сестры Санька плакали во весь голос. Соседки ругались. А два полицая и Барабак стояли на середине двора. В руках у них были железные пожарные крюки на длинных шестах. Глянув вверх, Гриша остолбенел: бледный взлохмаченный Санько сидел на крыше хаты с толстым колом в руках, словно приготовился защищаться от собак.
Черная соломенная крыша хаты напоминала старое прогнившее седло. Середина ее так осела, что дымоход высунулся наружу, как шея Савки Сюська из старого панского жупана. Угол крыши был разворочен, и ветер крутил по двору серую, как зола, мелкую соломенную труху.
– Что случилось? – спросил Гриша товарища и остановился возле плетня подальше от полицейских.
– Раскрыть хотели, – ответил Санько, злобно покосившись на Барабака и Левку Гирю, здоровенного полицая с тяжелой громадной челюстью и холодными, навыкате, белесыми глазами.
– За долги?
– Угу.
– А кровь на плече отчего?
– Барабак зацепил багром.
– Багром с крыши стаскивал? Сдурел! Ты лучше слезь, а то стянут.
– Не-е. Крюк за мою рубашку не держится, старая. – Санько вдруг глянул на улицу и, пригнувшись, сказал так, чтоб никто, кроме Гриши, не слышал. – Пан Суета идет! Видно, к вам. Беги, прячь поросенка!
Гриша умчался…
Пан Суета, а по-настоящему Иаков Шелеп, жил бобылем на квартире у курносой шинкарки Ганночки Зозули.
Веселый, недавно срубленный домик шинкарки стоял в середине Морочны, на перекрестке двух проселочных дорог. В дождь пан Суета обычно сидел дома, играл в карты со своей хозяйкой, попивал самогон, который шинкарка делала лучше всех. А в хорошую погоду он надевал свой ветхий плащ, нахлобучивал шляпу и, взяв неразлучную «черную магию», спозаранку отправлялся на село. Уходя, он всегда говорил:
– Иду, как господь Саваоф, праведный суд творить!
Ходил он медленно и важно, как старый зажившийся аист. Сильно ссутулившись, сосредоточенно смотрел в землю прямо перед собой, словно вечно что-то искал. А может, и правда искал?
Люди говорят, что когда-то был он богат, но хотел стать еще богаче. Продал все свое имение и собрался в Америку, а деньги потерял. И вот с тех пор ходит потупившись, будто ищет свою потерю. Другие шутники утверждают, что пан Суета согнулся под тяжестью собственного носа. Круглый, иссиня-красный нос его и правда весил, пожалуй, не меньше, чем самая переспелая груша в поповском саду. Во всяком случае, согнулся пан Суета не от старости: ему еще нет и пятидесяти. Однако, если человек не так уж стар, почему лицо у него такое морщинистое, словно его целый год держали в крепком уксусе? Не лицо, а сушеная груша. Но толком никто не знает, отчего пан секвестратор так рано согнулся, отчего морщины избороздили его лицо и почему все свои речи он кончает тяжелым вздохом и библейским изречением: «Все в мире суета. Суета сует и томление духа».
Православный поп должен быть с волосами, с усами и бородой. Это закон. Бритый не может быть попом. А Иакову Шелепу пришлось перенести такой позор. Никому из морочан этой истории Шелеп не рассказывал даже спьяну. Но там-то, откуда он приехал, в волынской деревеньке, до сих пор помнят.
Жители Рожищ долгое время обходились без попа, хотя и была у них церквушка. Но однажды прислали им отца Иакова Шелепа. А в селе больше половины крестьян были католиками и, увидев, что православные берут попа, затребовали себе ксендза. Приехал ксендз с бритой, белой, как очищенное яичко, головой. Но ни попа, ни ксендза в церковь люди не пускали: двум медведям в одной берлоге не ужиться. А кого из них оставить в приходе, прихожане никак не могли решить. Наконец высшие духовные власти предложили поставить спорный вопрос на голосование. А пока готовились к этому голосованию, поп-холостяк начал любезничать с молодой служанкой ксендза. Хитрый ксендз сначала даже виду не подавал, что все замечает, а потом с поличным захватил попа в своей квартире. Связал его по рукам и ногам и, не долго думая, обрил. Да не только усы и бороду, но и голову обчистил, как старый огурец. На прощанье еще и одеколончиком спрыснул… Так, говорит, приличнее будет вам идти на голосование. Отец Иаков тут же бежал из села. Забрался в болотную глушь и нанялся секвестратором к графу Жестовскому. Хотел пробыть здесь до тех пор, пока не отрастут борода и волосы. Но постепенно привык к курносой, веселой шинкарке, которая платы за квартиру не брала да еще и самогоном поила, только живи.
Сначала Шелеп все же надеялся, что ему будет возвращен сан священника. И для поддержания в себе духа святого пел на клиросе. Но потом совсем порвал с православной церковью, перешел к мурашковцам [7]7
Мурашковцы – изуверская секта, отколовшаяся от баптистов.
[Закрыть]. И еще чаще стал беседовать с мужиками о близости второго пришествия Христа, о необходимости мириться со всеми житейскими невзгодами, ибо «все в мире суета сует и томление духа». За это и прозвали его паном Суетой.
Дойдя до середины села, пан Суета остановился под старой грушей, возле черной похилившейся хаты. Скептически посмотрел на пустой маленький дворик с раскрытыми настежь воротами, прогнившую в нескольких местах соломенную крышу, с которой даже аист перекочевал к соседям. Сама хата наполовину вошла в землю, обросла мхами, как болото кочками, и напоминала скорее омшаник старого пасечника, чем жилье.
«Ее даже на дрова никто не купит», – подумал секвестратор. Не спеша он вошел во двор и удивился беспорядку, какого никогда не замечал в хозяйстве деда Сибиряка. Оторванная дверца хлева валялась в грязи. На пороге открытой хаты сидела ворона и удивленно пучила на него глаза. Под окном, возле большого, отливающего синевой черного пня, где обычно сиживал хозяин, валялись засохшие прутья лозы. А на середине двора, под огромной дубовой колодой, голодно и тоскливо попискивал маленький желтый утенок.
– Мда-а… Без хозяина и дом сирота! – сокрушенно покачивая головой, промолвил пан Суета. – Такова судьба каждого приходящего на эту скорбную землю. Да… Все в этом мире суета сует…
Однако философствование пана Суеты не перешло в сострадание к человеку, которого он пришел разорить окончательно. Он обошел весь двор, глянул на огород, пошатал старый рыдван, который от первого же прикосновения рассыпался, как высохший скелет.
Пан Суета задумался. Если продать все, вплоть до старой колоды с пищащим под нею утенком, то и тогда не выручишь даже третьей части долга. Но надо найти какой-то выход, иначе граф будет недоволен. Ясный пан велит быть распорядительным и находчивым. Однако что ж тут можно найти?
– О! Нашел! Нашел, как Архимед! – воскликнул секвестратор и, радостно потирая руки, вошел в пустой дом. – Никого нет? Не беда, подождем.
Гриша уже вывел поросенка за огород, как вдруг увидел мать. Заплаканная, но аккуратно причесанная и одетая в праздничную кофточку, она несла в руках ботинки, в которых ходила только в церковь.
– Чего ты нарядилась? – удивился Гриша.
– У пани была. Просила за дедушку.
– Ясна пани помиловала? Дедушку выпустят?
Мать только махнула рукой и, глянув на поросенка, спросила, куда он его гонит.
Гриша посмотрел назад и по сторонам.
– Тихо, мама! Помоги в корчи загнать, пока не заметил тот стягайло. Он уже у нас дома.
– Секвестратор? – бледнея переспросила мать. – Сынок, оставь. Хай берут да подавятся. Не до поросенка!
– Мам! Мы продадим поросенка. Деньги отдадим пану коменданту, и он отпустит дедушку, – скороговоркой шептал Гриша, продолжая гнать голодно повизгивающего поросенка.
– Да подожди. Куда ты его? За такого поросючка не выторгуешь столько, чтоб подкупить полицию.
– Все равно не отдам!
– Что ты выдумываешь! Вон Санько спрятал свою корову, а теперь и сам не рад. Раскроют хату, что ты с ними сделаешь?
Гриша опустился на траву и насупился. Мать присела рядом. Гладила его по голове и молча роняла слезы на его черные, давно не чесанные волосы. А белый курносый поросенок, мирно хрюкая, начал рыться в земле среди высокой, тихо шуршащей осоки.
– Мама, мам! – вдруг оживился Гриша. – А давай скажем секвестратору, что поросенок подох.
– Эх, сынок, не обманешь этого коршуна. Все он знает. Лучше уж смириться. Пани обещала поговорить с паном комендантом и тоже просила меня, чтоб все было тихо да мирно.
– Мирно, тихо! А сами они мирно?! Напали на дедушку, как разбойники. А за что? Он свою землю…
– Замолчи! – сердито замахнулась мать и испуганно посмотрела по сторонам. – Сколько раз говорила тебе, не болтай зря! Всей семьей загонят в Картуз-Березу!
Гриша покорно погнал поросенка назад. А мать, вытирая слезы концом платка, пошла рядом.
– Что ж поделаешь, сынок. Пускай забирают. Раз попался волку в зубы, то не вырывайся.
Секвестратор сидел за столом, как хозяин. Полы его балахона занимали почти половину лавы [8]8
Лава – скамья, стоящая у стены, от порога до переднего угла.
[Закрыть]. Шляпа лежала на единственной в хате табуретке. Широко расставив тонкие и кривые, как лапы паука, длинные ноги в щегольских начищенных сапожках, разложив на столе костлявые руки, он молча смотрел в раскрытую перед ним книгу актов.
А хозяйка с сыном стояли у порога, как нищие, только что вошедшие в чужой неприветливый дом.
Оторвавшись от книги, секвестратор бесцеремонно уставился на них. «Хлопец ничего, – рассуждал он про себя, – видать, работящий, послушный. Правда, лоб уж очень крутой, упрямый. Ну да раз-другой получит кнута от приказчика – и остепенится. А матка… Что ж, она куда красивее шинкарки. Глаза жгучие, как у цыганки. А чего стоят брови да косы! Впрочем, сама она этого, пожалуй, и не замечает. Ей не до того…»
Оляна, заложив руки под передник и потупив глаза, смотрела на свои красные от ходьбы по росе босые ноги, на которых примостился желтый озябший утенок. Тепло было ноге от его пушистого тельца. И он тоже пригрелся и, уткнув длинный оранжевый носик между двумя пальцами, время от времени тихо, словно спросонья, попискивал.
– Ты, отрок, иди себе, погуляй. Мы тут сами решим эти дела мирские, – благодушно склонив голову набок, елейным голосом сказал секвестратор, и маленькие коричневые глаза его заблестели, как горох, пережаренный в масле.
Гриша попятился к выходу. Но мать положила ему на плечо руку:
– Теперь он моя опора. Чего ж мне от него таиться?
Пан Суета окинул оценивающим взглядом ладный и еще полный девичьей силы стан вдовы, прищурился и пояснил:
– По душам хотелось поговорить, пани. По душам.
– Какая уж там пани! – вздохнула Оляна и показала потрескавшиеся, зеленые от работы в огороде руки. – Уж пишите скорее. А по душам… – и чуть слышно прошептала, – по душам говорите с теми, у кого ручки белые…
Гриша удивленно посмотрел на мать: всегда она с почтением относилась к властям. За ясного пана и ясную пани богу молится каждый вечер. А тут перечит человеку, которого боятся даже мужики, не только бабы.
Не меньше удивился и сам пан Суета. Он хмуро посмотрел на Оляну и заговорил своим обычным металлически-бесстрастным голосом:
– Паа-ни Багно! Baa-ми была арендована пахотная земля у ясного пана графа Жестовского в количестве трех моргов. Пользовались вы оной беспрерывно, однако арендную плату не вносили. Долги росли из года в год и достигли общей суммы триста злотых и двадцать пять грошей.
– Триста злотых! – хозяйка приложила руки к груди и широко раскрытыми глазами посмотрела на секвестратора. – Триста-а-а…
А тот продолжал:
– Сегодня, пятого августа тысяча девятьсот тридцать восьмого года, вы обязаны внести названную сумму долга, и лишь тогда я не прибегну к описи вашего движимого и недвижимого имущества.
– Пан секвестратор! Смилуйтесь! – протянула руки хозяйка. – Смилуйтесь. Какое ж у нас движимое. Вот оно наше движимое, – она стряхнула с ноги утенка. – Что ж тут описывать? Может, только нас самих?
– У вас имеется пятимесячный поросенок, которого я оцениваю в пятьдесят злотых. Сегодня же отведите его на скотный двор нашего милостивого пана.
– Сам веди! – закричал Гриша. – Я не поведу!..
– Молчи, сынок, – прошептала мать, прижав его к себе. – Мы против них, что жаба против быка…
– Остальные же двести пятьдесят злотых и двадцать пять грошей вы обязаны отработать. Однако, учитывая отсутствие в вашей семье настоящих рабочих рук, мы, по милосердию ясного пана, порешили согласиться принять вашего подростка в батраки.
– В батраки?! – Мать, как перед иконой, упала на колени перед секвестратором.
А Гриша, опустив руки и раскрыв рот, смотрел на пана Суету, словно видел его впервые. Угластый приподнятый подбородок Гриши дрожал, широко раскрытые темно-серые глаза часто моргали, по зеленовато-бледным щекам катились крупные слезы.
– Смилуйтесь, смилуйтесь, пан секвестратор! – молила мать. – Хлопца помилуйте. Я! Лучше я пойду батрачить! Хлопца нельзя так рано… Ему ж еще нет и четырнадцати. Смилуйтесь. Вы же все можете!..
Прищурив маленькие, хитрые глаза, секвестратор размышлял: конечно, можно было бы оставить в покое эту безнадежно бедную семью. По книге все это можно провести. Не зря же ее считают колдовской, понятной только ему одному. Можно бы все списать. Но какая ему выгода? Уж лучше верой и правдой служить ясному пану – там хоть на праздник подарочек получишь да рюмку коньяку…
Когда Оляна затихла, секвестратор встал и одним духом, как надоевшую молитву, от которой надо скорее отвязаться, прочитал протокол. Потом намазал хозяйке палец химическим карандашом и ткнул этим пальцем в бумагу. В одном месте за поросенка, в другом – за сына.
Убедившись, что оттиски просохли, он бережно закрыл книгу. Надел шляпу. Присев на корточки, погладил утенка, что-то сказал ему в ответ на его попискиванье и пошел прочь. Но за порогом, в сенях, остановился, чтобы еще раз посмотреть на хозяйку. И опять неузнаваемо мягким, елейным голосом посоветовал не роптать, молиться и уповать на бога.
– Помните, милостивая пани: все в этом тленном мире только суета. Суета сует и томление духа.
Заметив, что дверь открыта, утенок заковылял в сени. Когда он перебирался через порог, секвестратор размахнулся тяжелой дверью. Утенок, видно, понял, что вперед идти нельзя и повернул назад. Хозяйка бросилась к нему, но было поздно: дверь легко, как воробьиное яйцо, раздавила желтую головку утенка.
И в эту минуту Гриша крикнул:
– Мама! Дедушку везут!
Возле двери остановилась рябая однорогая корова панского конюха Егора Погорельца. Она была запряжена в старый расшатанный рыдван. На голых серых досках лежал почерневший Конон Багно. Голову его конюх поддерживал своей толстой широкой ладонью. Так он, видно, шел всю дорогу от самого полицейского участка. Когда к рыдвану подбежали Гриша и мать, Егор тихо промолвил:
– Звери! Вот звери, так звери! Замордовали человека и говорят, вези, пусть дома умирает.
Пока деда переносили в хату, собрался полный двор народу. Соседка затопила у себя печь, чтобы согреть воды. Прибежала фельдшерица – жена нового учителя. Егор дал Грише десять грошей «на лекарство» и повел домой свою корову. Рассохшийся, давно не мазанный рыдван скрипел жалобно и тоскливо, как цыпленок, затерявшийся в бурьяне.
* * *
Утром, положив в торбу несколько картофелин, узелок соли, а вместо хлеба сушеных вьюнов, Гриша отправился на панский двор. На улице он встретил Санько, который собирался, видно, в дальнюю дорогу.
– Ты куда? – удивился Гриша.
– В город.
– На заработки? А корова?
– Забрали, – ответил Санько и, помолчав, добавил: – Мать отдала. Боялась, раскроют хату.
– Я бы тоже пошел, да дедушке очень плохо. – Гриша почесал в затылке и отправился дальше.
Панский приказчик, юркий щеголь в сером костюме, больно хлестнул Гришу плеткой, для порядка, и послал в лес пасти племенных коров. Он тут же напомнил, что рвать ягоды в лесу нельзя.
– Если язык будет синим от черники, я тебе его отрежу, – ехидно улыбаясь, предупредил он.
У Гриши мороз пробежал по коже от этой улыбки. Он поверил, что этот веселый человек и в самом деле может отрезать язык.
Ягод в панском лесу тьма-тьмущая. Но собирать их разрешается только тому, кто купит «квиток».
Приказчик уехал куда-то на легкой пролетке, и к Грише подошел конюх Егор Погорелец. Ласково, по-отцовски положив руку на плечо, он тихо, чтоб не слышали другие, сказал:
– Не слушай его. Ешь ягод сколько хочешь и домой неси, мать насушит на зиму. Ты ж коров пригонять будешь вечером, когда этот хлюст уже пьянствует или где-нибудь шляется.
Гриша благодарно посмотрел в глаза конюха, и тот чем-то напомнил ему отца. Нет. Не внешностью. Отец был белоголовый, без усов. А этот черный, с густыми усами, подковкой обхватившими рот. Прищуренные глаза тоскующие и добрые. Может, именно эти глаза да ласковый душевный голос и напомнили отца. Пастушок погнал коров. А конюх, поучая и подбадривая, проводил его до самого леса и на прощание сказал:
– Если что, обращайся ко мне.
Гриша ушел в самом хорошем расположении духа и все не мог понять, за что же такого доброго человека все считают чудаком.
* * *
Трое суток фельдшерица почти не отходила от старика, лежавшего без памяти. Наконец горячка прошла. Дед Конон открыл глаза. Но молчал. Ничего не просил, ни на что не жаловался, хотя все тело у него было в ранах и черных кровоподтеках. Заговорил он только через неделю и то вымолвил всего несколько слов возвратившемуся с пастбища Грише. Тяжело дыша и подолгу отдыхая после каждого слова, он сказал, что ему легче было бы терпеть, если бы канава была закончена. Гриша весь вечер сидел возле кровати, молчаливый, сердитый на самого себя. Дедушка пострадал из-за него. Это ему он старался отвоевать у болота ковалок земли. И вот уже на краю могилы думает только об этом. А Грише и в голову не пришло чем-нибудь утешить деда. Наскоро поужинав и сказав матери, что очень устал, Гриша ушел в сарай. Но спать сегодня не собирался. Забравшись на сеновал, стал прислушиваться к стукам в доме. И когда там все утихло и погас свет, спрыгнул с сеновала. Схватил под стрехой лопату и через огород пустился на болото. Теперь его жгло только одно желание: закончить канаву, чтобы дедушке было легче на душе и он скорее бы выздоровел. Закончить сегодня же!
На болоте, как и в ту ночь, когда они с дедушкой начинали свое дело, стоял густой прохладный туман. Только сегодня не было тихо: на панской ниве слышались голоса. Видно, жали и ночью, чтоб не осыпалась пшеница. Гриша удивлялся, что шел один и не боялся ни ведьм, ни русалок, хотя хорошо знал, что как раз в эту пору они целыми хороводами кружатся на болотах, греются под луной.
Никогда работа не радовала его так, как сегодня. Стоя по колено в воде, сбегавшей с панского болота, Гриша глубоко вонзал лопату в густой, вязкий торфяник и отбрасывал в сторону большие, тяжелые глыбы. Старался изо всех сил, искренне веря, что с каждым пластом выброшенной земли дедушке становится легче. Лицо его было мокрым, губы солеными от пота, полотняная рубашка прилипла к спине, ноги в мокрых постолах онемели и, казалось, набухли от воды, как деревянные. Но, не разгибаясь, он продолжал свое дело.
Когда канава подошла к участку, на деревне пропели первые петухи. Напившись воды из речки и немного отдохнув, Гриша поплевал на руки, нывшие от усталости, и снова взялся за лопату.
К рассвету голоса жнецов на панской ниве умолкли. Болото крепко спало под тяжелым потемневшим пологом тумана. Только в деревне перекликались петухи да в ольшанике пробовали свои утренние голоса болотные птицы. Но Гриша не слушал их пения. На отцовском участке рождались новые, более радостные звуки – тихий шелест и плеск воды. Сначала, когда канава подошла к залитому участку, вода лишь с самого края замутилась, закружилась. Потом, когда Гриша выбросил еще несколько пластов земли, вода резвыми струйками устремилась в канаву. Сильнее, сильнее – и наконец пришло в движение все болотце, огороженное заросшей камышом межой. Взяв на плечо лопату, Гриша пошел домой медленно, бесшумно, словно боялся расплескать свою радость. В ушах его долго стоял тихий говор уходящей с заболоченного поля воды.
Возвратился он, когда мать только проснулась и еще не ходила в сарай будить его. Вошел в хату, для вида протирая глаза кулаком. Ни мать, ни дед ничего не поняли. После завтрака, когда мать ушла на огород, Гриша подошел к дедушке.
– Плохо мне, плохо! – стонал дед.
Гриша наклонился над больным и прошептал:
– Дедушка, выздоравливайте. Вода уже сошла. Наша земля скоро высохнет.
Дед повернул забинтованную голову, лицо его было покрыто синяками, и Гриша узнавал только большие, скорбные глаза. Сейчас эти глаза спрашивали, робко радовались и в то же время боялись. Гриша поспешил все объяснить, чтобы успокоить его.
Выслушав рассказ внука, дед положил руку ему на плечо и тихо проговорил:
– Пожить бы. Увидеть, каким ты вырастешь.
Утром звуки по лесу разносятся далеко, далеко. Но здесь, куда Гриша забрел со стадом, не слышно было ни одного человеческого голоса. Только птицы, да в те поют как-то несмело, словно все время к чему-то прислушиваются. Коровы разбрелись по большой зеленой поляне. Гриша резал лозу, хотел сплести кошик для ловли вьюнов. Вспомнив, что каждое лето дед ловил и сушил на зиму вьюнов, Гриша решил заменить старика в этом деле. Конечно, если стражник поймает с кошиком, хорошего не жди. Но лучше об этом не думать.
Нарезав ровненькой красной лозы, он устроился на высоком пеньке так, чтоб видна была вся поляна, по которой разбрелись коровы.
Вдруг в лесу послышался топот скачущего коня. Потом показалось, что кто-то вскрикнул. Гриша насторожился. Крик больше не повторился. А топот начал быстро удаляться и наконец растаял в лесной глубине.
Но до чуткого слуха Гриши долетел какой-то непонятный, хватающий за сердце звук, словно кто-то плакал.
Прислушался – и вправду плачет. Совсем рядом. Не то в ольховых кустах на полянке, не то за ближними соснами. Гриша пошел на странный звук. На поляне никого. Вошел в лес, теперь показалось, что плач позади. Но вот он прекратился, будто бы тот, кто плакал, тоже прислушивался.
«Заметил меня», – подумал пастушок и замер. Внизу, вокруг себя, ничего не увидел. И стал смотреть вверх, на деревья. Может, это какая-то еще неизвестная ему птичка? На маленьких деревьях ничего не было видно. На большой сосне, поднимавшейся выше всех, деловито постукивал дятел. Склоненная набок зеленая макушка сосны качалась, хотя ветер давно утих. Но Гриша уже знал, что верхушки высоких сосен раскачиваются даже в самую тихую погоду.
Он вышел на просеку и под молодой, склонившейся осиной увидел девочку лет четырнадцати. В стареньком сером в горошек платье, босая. Сидит на сыром пеньке и, положив голову на колени, горько плачет. Перед нею валяется растоптанный черный кошик, сплетенный из молодых дубовых корней. В невысокой траве большими дождевыми каплями синеет рассыпанная черника. Гриша сразу все понял:
– Тебя стражник прихватил?








