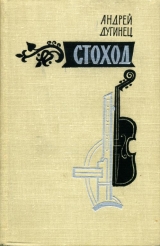
Текст книги "Стоход"
Автор книги: Андрей Дугинец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
Когда комиссар закончил речь словами: «Смерть немецким оккупантам!», все, не сговариваясь, дружно и торжественно повторили:
– Смерть немецким оккупантам!
– Товарищи! – дрогнувшим голосом проговорил комиссар. – Сейчас мы дадим нерушимую партизанскую клятву.
Миссюра, а за ним Егор Погорелец и все остальные вытянули руки по швам. Лица их стали суровыми. Сквозь стиснутые зубы повторяли они слова клятвы, которые комиссар вырывал из глубины своего сердца, переполненного гневом:
– За прерванную мирную жизнь!
– За сожженные города и села!
– За поруганную свободу и честь!
Егор Погорелец до хруста пальцев сжал кулаки и громче всех, незнакомым самому себе голосом вторил:
– Смерть за смерть!
– Кровь за кровь!
Партизаны умолкли. А мрачный, насупившийся лес, казалось, еще долго повторял в своих недрах и уносил все дальше и дальше:
– Смерть за смерть!
– Кровь за кровь!
Пожар на железной дороге клокотал и кипел: горело то, что несло на советскую землю страдания, разруху и смерть.
– Смерть за смерть!
Чтобы запутать следы на случай, если немцы будут с собаками делать облаву, Миссюра предложил подняться сначала вверх по Припяти, а уже оттуда лесом возвращаться к берегу Стохода и плыть к своему лагерю.
– Это целые сутки придется добираться до дому, – недовольно заметил Погорелец.
– Лучше двое суток бродить по лесу, чем привести за собой врага, – согласился с Антоном комиссар.
Уже светало, когда отряд подошел к Припяти и погрузился в огромную долбленую лодку. И только теперь партизаны поняли, как они устали. Командир разрешил всем спать, а одному грести и смотреть по сторонам. Сам он после всего пережитого уснуть не мог, поэтому первый сел за весла.
Лодка остановилась только вечером в заливе, окруженном старым еловым лесом. Здесь было угрюмо, сыро и тихо. Антон разрешил уснуть очередному гребцу, которым был теперь Ермаков. И лишь после заката солнца партизаны вышли на берег и отправились болотистым лесом к своей родной реке.
Миссюра вел уверенно и быстро. Даже в тех местах, по которым сам шел впервые, он заранее предупреждал, где лес поредеет, где ручей, где будет заболоченная полянка. И то круто поворачивал, обходя невидимые препятствия, то, как лось, лез напролом сквозь колючие заросли. Но ни разу не потерял взятого направления. В полночь вышли в сухой сосновый бор, и командир сообщил, что до берега Стохода осталось пять километров. Решили немного отдохнуть, поесть. Но только расположились на траве, Миссюра поднял руку:
– Тихо!
Все замерли. Откуда-то издалека, словно из самой Сибири, доносилась волнующая мелодия старинной песни. А потом послышались и слова:
Верный товарищ бежать пособил,
Ожил я, волю почуяв.
После того, что было совершено на железной дороге, партизаны чувствовали себя обновленными, и слова песни особенно глубоко западали в душу.
– Кто это? – спросил Егор.
– Окруженцы. Бойцы Красной Армии, – уверенно ответил комиссар. – Надежные ребята: не пали духом, раз поют. Может, подойдем, познакомимся?
– Пригласим в отряд, – ответил Миссюра и первым направился на звуки песни.
Вскоре в непроглядной лесной темноте заметили огонек. Но песня, которую теперь уже было слышно совсем хорошо, вдруг оборвалась. Огонек потемнел. Защелкали затворы винтовок. И оттуда, где только что беззаботно пели, донесся грозный окрик:
– Кто идет?
Окрик рассыпался на миллионы отголосков, будто бы каждая сосна повторила этот звук.
– Надо откликнуться, а то, чего доброго, начнут палить, – прошептал Ермаков.
– Кричи просто: свои, – посоветовал Егор.
– А кто их знает, свои они нам или чужие?
– Стой! – строго приказали от притухшего костра.
– Станьте за деревьями! – распорядился Миссюра и крикнул: – Мы партизаны, а кто такие вы, подходите, посмотрим.
Костер вдруг вспыхнул ярче прежнего, и лес огласился радостными возгласами:
– Своя братва!
– Давай на огонек!
Это были отбившиеся от своих частей пехотинцы. Их шесть человек. Месяц прожили на хуторе, залечивали раны. А теперь направились к линии фронта. Сейчас их интересовало только одно: можно ли пробраться к фронту. Но Моцак показал им листовку и стал убеждать не тратить силы на далекий, опасный переход, а, если им хочется бороться с фашистами, остаться здесь.
Бойцы не соглашались, пока не узнали о вчерашней диверсии на железной дороге. А когда Моцак рассказал, какое крушение устроили они совсем маленьким отрядом, красноармейцы стали сговорчивей.
– Ваш клин хорошая штука, но это раз-два, а потом фашисты примут меры и номер больше не пройдет, – вслух размышлял Сергей Орлов, считавшийся в шестерке за старшего. – А вот мины – это дело более надежное.
– Ну, мины… Где их достанешь? – заметил Егор Погорелец. – У нас была авиабомба, так израсходовали. А теперь жалеем: лучше бы на железной дороге ее подложить, чем на каком-то там гнилом мосту.
– Ты забыл, что за этим взрывом на гнилом мосту мы теперь живем как у Христа за пазухой, – возразил Егору Миссюра.
– Одна бомба погоды не делает, – сказал Александр Федорович. – О взрывчатке надо заботиться теперь и день и ночь.
– Я знаю, где есть немного тола и несколько мин, – заявил Орлов.
Неожиданно густо, как из решета, пошел колючий снег.
– Сапсем плохо дело! – щелкнув языком, сказал Омар. – Снег падать будет, след останется, фашист найдет лагерь.
– Это такой снег, что сам же следы и заметет, он на всю ночь, – успокоил Егор. – Антон же обещал провести нас зимней тропкой.
Миссюра кивнул утвердительно и сказал:
– Ну что ж, идемте. Будем искать зимнюю дорожку.
И теперь уже двенадцать человек пошли за Антоном. Партизанам казалось, что Миссюра поведет их по лесным чащобам да невидимым тропам. А он, наоборот, вывел на широкий, гладко засыпанный снегом проселок. На этом проселке пока что, как на свежевыбеленном полотне, не было ни одного следа.
– Надо оставить след только одного человека, – остановив отряд, коротко инструктировал Миссюра. – Я пойду первым, за мной наступайте след в след. Задним пойдет Ягор. Он в старых постолах. Притопчет все огрехи.
– Ясно, – довольный такой маскировкой, похвалил Орлов. – Должно остаться впечатление, что прошел только один человек, и то из местных.
– Алэ. Тут недалеко.
Гуськом прошли с километр и остановились на мостике, под которым бежал быстрый темный ручеек.
Миссюра с моста спустился в ручей. И, стоя на дне, объяснил, что дальше так и пойдут по дну ручья.
– Не увязнем? – спросил с недоверием Орлов.
– Тут через несколько шагов пойдут кладки, – ответил Миссюра. – Еще по теплу я выстелил дно ольховыми жердями. Сверху их затянуло илом и даже днем не видно, а ноги сами почуют… Ягор пойдет дальше, чтоб так один след и оставался на шляху. У него есть где переночевать на хуторе. А когда по снегу люди протопчут дорогу, вернется в лагерь.
– А если попадется? – насторожился Орлов. – Фашисты прижмут его так, что он…
– Ягор скорее сам погибнет, чем выдаст товарищей, – ответил Миссюра. – Пошли!
Один за другим партизаны спустились в ручей, оставив на мосту след, который затоптал своими широченными постолами Егор Погорелец. До крутого поворота ручья дно было вязким, и кое-кто даже зачерпнул воды в сапоги. А дальше по жердям, проложенным по две в ряд, идти стало легко, только вода побулькивала. По этим «кладкам» отряд шел с полкилометра до островка, заросшего ольхой. Здесь вышли из воды и начали переобуваться, выливать воду из сапог, выжимать портянки. Хуже всех чувствовал себя только боец из группы Орлова, который был не в сапогах, а в ботинках с обмотками. Он не хотел даже переобуваться и шутил над своей обувью, говоря, что она лучше сапог: не во что воды набирать. Но Миссюра приказал разуться и посильнее выжать портянки.
– Пробежим немного – и согреемся! – оптимистически сказал Орлов. – А дорожка, я вам скажу, очень хитрая. Ни один черт не догадается!
Так с легкой руки Орлова этот ручей и прозвали «хитрой дорогой».
Давно стемнело, а Олеся не зажигала света, чтобы не видеть ненавистных стен, увешанных коврами да бесстыдными картинами. Смотрела в зарешеченное, как в тюрьме, окно. Прутья решетки здесь, как и все, красивые, ажурные. За окном по-осеннему завывал ветер то с дождем, то со снегом. Однако Олеся рада была бы вырваться в эту стужу и бежать куда глаза глядят. В Морочну идти нельзя. В лесу тоже своих не осталось. Миссюру полицейские убили. Об этом сказал ей сам Сюсько. А Гриша, видно, погиб. И нет у нее теперь ни близких, ни родных. Но бежать все равно надо. Пусть лучше застрелят во время побега, чем тут погибать от разврата.
Обманывать Ганночку уже невозможно, скоро она отдаст солдатам на глумление. А там останется или руки на себя наложить, или покориться судьбе-мачехе.
Ветер за окном скулил, выматывал душу. Береза, стоявшая у самого окна, жалобно поскрипывала. В сильный северный ветер ее клонит к дому, и она трется о стреху. Ствол ее протерло уже до сердцевины. Стало жалко эту беспомощную березу, и Олеся запела:
У поли бэрэза,
У поли кучерява,
Хто идэ, ны мынае,
Бэрэзу ламае…
Ей вдруг показалось, что где-то совсем недалеко за окном – кладбище. По кладбищу ходит босая озябшая женщина. Олеся присмотрелась, а это мать. Бредет куда-то и тихо, с горьким упреком вторит дочери:
Хто идэ, ны мынае,
Бэрэзу ламае…
Олеся вздрогнула и, чтобы отогнать видение, запела другую песню:
У поли дубочок,
Зэлэный лысточок,
Ны бачыла свого мылого
Вжэй другый дэнёчок.
Но тут опять пришли к ней мысли не менее горькие. «Любимая песня Гриши, – подумала она. – Где он теперь? Погиб или мучается так же, как я?» – И уже сквозь рыдания с трудом допела:
Ой ты за горою,
А я за другою,
Чи ты тужэш, мий мылэсэнький,
Як я за тобою?
До конца эту песню Олеся давно уже не пела. И сейчас тоже умолкла, прислушиваясь к завыванию ветра.
И вдруг ей показалось, что где-то рядом, то ли за окном, то ли за стенкой, песню эту кто-то продолжает. Почудились даже слова:
Ой тужу, я тужу,
Щодня гирко плачу,
Що я тэбэ, моя мылая,
Цилый рик нэ бачу.
Прильнула ухом к стенке, отделяющей ее комнату от ресторана, и поняла, что там играет скрипка. Протяжно, печально звучит мелодия этой песни.
Прислушалась еще: нет, слух не обманывал. Родная мелодия льется густою, тягучей тоской.
«Кто это? Неужели и там есть русская душа?» – задумалась девушка.
До этого дня за стенкой по вечерам слышалась только немецкая танцевальная музыка. И вдруг родная, любимая мелодия!
Распахнулась дверь, и вбежала Зося, дежурившая сегодня в кафе.
– Печальница, почему ты в темноте?
– Ой, Зося, не надо света! – взмолилась Олеся. – Без него легче душе: хоть решетки в глаза не лезут. Зося, ты не знаешь, кто там за стенкой так хорошо играет?
– Не. Я там не бывала. Там же ресторан. Туда один раз попадешь – и пропала.
– А если так только, на минутку? – не унималась Олеся.
– Чего ты там не видела?
– Да хочется глянуть, кто там так играет на скрипке.
– Ну так завтра хочешь не хочешь – увидишь.
– А что завтра?
– Фашистский праздник. Ганночка всех нас нарядит и пошлет обслуживать офицеров.
– Пойду! Только бы увидеть, кто там… Что-то неспокойно у меня на душе от этой скрипки. – И, понизив голос, добавила: – Зося, а может, убежим?
– Шалапутная! Думаешь, они оставят нас без присмотра. Не смей! – строго сказала Зося. – Убьют!
Не понравился Олесе этот ответ подруги. Но промолчала, решив поступить так, как подскажет собственное сердце.
* * *
В ресторане во время уборки Олеся наткнулась на высокого худого парня с черными, совсем еще жиденькими усиками. Она шагнула в сторону, уступая дорогу. Но он вдруг больно ухватил ее за плечи.
– Олеся! Олеся! Это ты? Почему ты тут?
Олеся ахнула, узнав Гришу.
– Он здесь? Говори скорее! – тряс ее Григорий.
– Кто?
– Твой пан комендант, Сюсько.
– Сюсько тут ни при чем! Меня пан Суета продал Ганночке… – И тут Олеся, немного передохнув, в свою очередь спросила: – А ты чего сюда? Уходи поскорее. Сегодня русским сюда нельзя – будет офицерский бал.
– Да я… – Григорий виновато поскреб в гладко причесанной, будто прилизанной, голове. – Я тут работаю. На скрипке играю.
– Играешь? Им? – Олеся нахмурилась, отступила.
Григорий взял ее за руку:
– Идем на улицу. Я все тебе расскажу.
– Что ты! Меня не выпустит охранник.
– Что за охранник? – удивился Григорий и только теперь заметил полицейского, сидевшего у дверей с автоматом на коленях.
– Я тут, за стенкой… – опустив голову, стыдливо пояснила Олеся. – Там на окнах решетки, а в дверях полицай…
Григорий, тяжело вздохнув, провел девушку на сценку, где еще не было других музыкантов.
– Олеся, ты не думай плохого, – заговорил он горячо. – Я давно отсюда убежал бы. Меня не охраняют. Да не хочу так просто уходить. Мне бы мину достать или противотанковую гранату, чтобы угостить этих гадов на прощанье! Ты слышала что-нибудь о партизанах?
Олеся утвердительно кивнула.
– Наш дирижер говорит, что мы смогли бы хорошо помочь партизанам, мы тут много слышим…
– Если я вырвусь отсюда, я найду партизан и сделаю все, что ты хочешь!
– Тогда уходи поскорее!
– Может, вечером… В окно…
Беглым взглядом Григорий окинул зал, где такие же, как и Олеся, одетые в голубые платья с белыми кружевными воротничками, девушки накрывали столы. Никто из них не заметил двоих, укрывшихся за ширмой. Гриша достал откуда-то из-за рояля старенький плащ, подал Олесе:
– Надевай скорее! Идем!
Открыв своим ключом дверь, через которую входили только музыканты, Гриша вывел девушку из ресторана. Через минуту они оказались в сквере, уходившем на край города. Все так же за руку Гриша повел Олесю в глубь сквера, возбужденно говоря:
– Дойдем до Мухавца. Перевезу тебя на лодке. Ты уйдешь в лес. А я вернусь.
– Гриша, боюсь! Боюсь!
В этот момент Олеся показалась Григорию такой же, как тогда в лесу, когда он палкой ударил Барабака, а она вот так же сучила кулачками и говорила: «Боюсь! Боюсь!»
– А ты не бойся, иди, но не оглядывайся. За нами еще не гонятся. А если и хватятся, что мы вышли, то скажем, что решили прогуляться. Только не вздумай убегать, если начнется погоня!
– Гришок! А как я тебе передам, если найду партизан? – немного успокоившись, спросила девушка.
– Пройдет неделя, и я начну каждый день по утрам выезжать на лодке далеко за город. Там и встретимся.
– Гриша, теперь ты возвращайся, – сказала Олеся, когда стали спускаться к реке, где уже видна была лодка. – Иди, пока там не спохватились. Я сама переплыву Мухавец…
Через несколько минут Олеся была уже на другой стороне реки и быстро шла к лесу. Ей казалось, что идет она по раскаленной земле. В ногах от нетерпения покалывало и жгло, хотелось рвануться и бежать изо всех сил. Но, собрав все свое мужество, Олеся шла спокойно, но оглядываясь. Побежала она, лишь когда вошла в лесочек, и так быстро, стремительно, как никогда еще не бегала…
* * *
Холодная, хмурая ночь. Тихо, безветренно, падает снег. Кругом все бело, чернеют только стремительно убегающие вдаль рельсы железной дороги. Гулко громыхая подкованными сапогами, идет по шпалам немецкий часовой. Навстречу ему движется второй. Шаги обоих отдаются в лесу, вплотную подступившему к железной дороге с обеих сторон. Часовые встретились, закурили. Поговорили…
Скучно ходить по чужой земле, охранять чужую дорогу и каждую минуту ждать пули из хмурого, никогда не дремлющего, чужого леса. Куда лучше на фронте! Там уж знаешь, что противник впереди. Залег и – стреляй. А тут, как ни смотри, никогда не угадаешь, откуда выскочит твоя смерть. Хорошо, что подходит зима. По снежным тропкам партизан, как куропаток, выловят всех до одного.
Наговорившись, солдаты расходятся. Первый возвращается к мостику. Немного постояв, поворачивает обратно. За мостик ходить нет смысла. Там по обеим сторонам дороги болото, непроходимая трясина. Оттуда партизаны не придут.
Где-то далеко впереди загудел паровоз. А позади, за мостиком, вдруг что-то звякнуло. Часовой резко обернулся, держа автомат наготове. Присел. Долго, внимательно смотрел на рельсы.
«Видно, послышалось, что звякнуло, – сам себя успокоил немец. – С той стороны даже лисица не подойдет».
Поезд шумит, приближается. Рельсы гудят, грохочут и, кажется, накаляются.
Немец сходит с рельсов. Зорко осматриваясь, приседает в кювете. Как буря, проносится дышащий красными искрами паровоз. В ушах сплошной гул и грохот.
За мостиком паровоз вдруг повернул вправо, высоко приподнялся над кюветом, словно хотел его перепрыгнуть, и рухнул в ту самую болотную трясину, о которой только что думал немец. Земля вздрогнула от взрыва. Первые вагоны перелетели через паровоз, остальные, стремительно продолжая движение вперед, лезли один на другой, валились на обе стороны пути.
– Майн гот!..
Утром на мотоциклах примчался специальный наряд гестапо. Офицер обнаружил в болоте следы двух пар широких, самодельных лыж. Партизаны пришли по непроходимой трясине и тем же путем ушли.
Собаки по трясине не пошли. Пришлось на мотоциклах обогнуть болото и пересечь партизанский след. Лыжи вывели на дорогу. Здесь было уже четыре пары лыж. Снег немного припорошил лыжню. Но собаки сразу взяли след. Посадив собак на мотоциклы, гестаповцы проехали с десяток километров. На развилке дорог остановились, но здесь собаки начали чихать, фыркать. Гестаповцы обнаружили на дороге рассыпанную махорку. След был потерян. Лыжня кончилась. На каждой из трех дорог было множество следов лаптей, сапог, ботинок. В чем были партизаны? Куда они пошли? Отряд разделился на три группы. Каждая группа пошла по своей дороге.
Партизаны же у развилки трех дорог не раздумывали ни минуты. Сняв лыжи, они высыпали пачку махорки на свои следы и пошли по средней дороге, которую обступили молодые елочки и березки. Несколько лет назад тут был пожар, и лес только начинал отрастать. Ельничек стоял густой и колючий. Километра через два дорогу пересек ручей. Это и была партизанская «хитрая дорога».
Здесь Санько первым спустился с мостика, не оставив следа на рыхлом девственном снегу. За ним спрыгнул Омар. Потом – новички, впервые ходившие на боевое задание. Сегодня они сидели на опушке леса, и каждый держал фашиста на мушке.
Санько оглянулся. На мостике, под перильцами снег не был тронут. «Молодцы новенькие. Следа не оставили…»
Осторожно прощупывая ногами твердое деревянное дно, партизаны уже спокойно пошли по «хитрой дороге». Студеная вода, хлюпая и побулькивая, уносилась назад, в Стоход.
* * *
В холодную, зимнюю ночь вернулся Омар, ходивший с письмом к жене Моцака. Он пришел предельно усталый и какой-то смущенный. Тихо доложил:
– Товарищ комиссар, ваше задание выполнил.
– Видел их? Письмо есть?
– Там, в женской землянке, греется, – ответил партизан и, заметив недоумение на лице комиссара, уточнил: – Анна Вацлавовна пришла со мной.
– А Игорек? – чувствуя неладное, с тревогой спросил Моцак.
– Идите в женскую землянку, – ответил Омар неопределенно.
Переступив порог санитарной землянки, Моцак увидел у жарко пылающей печурки худую и совершенно седую женщину, которая курила, сосредоточенно глядя на огонь.
– Аня! – остановившись у порога, вскрикнул Александр Федорович. – А Игорек?!
Анна Вацлавовна, бросив окурок в огонь, через силу поднялась, положила на плечи подбежавшего мужа до невесомости исхудалые руки и горько, беззвучно зарыдала.
И он понял без слов, почему она курит, почему так поседели ее черные косы, почему она так исхудала и постарела.
Лучина быстро догорала, в землянке становилось все темней и темней. Но никто из женщин, сидевших на нарах, не хотел встать и подбросить в печурку: горе двоих было безутешным горем всех…
Весть о гибели сына, которую партизаны-односельчане скрывали от Моцака, как страшную тайну, вошла в его сердце глубокой, незаживающей раной. Несколько дней он не мог ни спать, ни есть, ни даже сидеть на месте. Он все время ходил, что-нибудь делал, часто непосильное, то, что комиссар и не должен брать на себя. И, нигде не находя покоя, все чувствовал одно неукротимое желание: ворваться куда-нибудь в самую гущу фашистов и стрелять из автомата до тех пор, пока не останется ни одного патрона. И обязательно так бы и поступил, будь он только отцом. Но он был еще и комиссаром отряда, в котором собралось много людей и каждый носил в своем сердце такую же, а может, еще и более глубокую рану. Да, комиссару нельзя думать только о себе…
Квесне на всей оккупированной территории Белоруссии и Украины началось самое страшное для гитлеровской армии – «рельсовая война».
На места первых крушений поездов съезжались многочисленные комиссии. Какие-то важные лица специальными самолетами прилетали даже из Берлина. Потом комиссий стало меньше: крушения на железных дорогах Украины и Белоруссии стали обычным явлением. И немцы создали специальные аварийные бригады, которые дни и ночи расчищали и восстанавливали пути. Первое время этим бригадам удавалось в несколько часов убирать с дороги обломки вагонов и пропускать очередные поезда. Но потом аварий пошло так много, что некогда стало расчищать дороги. Аварийные бригады под сильно вооруженной охраной стали выезжать на места крушений и строить обводные пути. Но и этим ловко пользовались партизаны. По ночам они прятались среди обломков ранее пущенного под откос эшелона и потом, когда слышали, что идет поезд, ставили мину на обводном пути. Теперь уже два состава громоздились рядом огромной грудой обломков, обвитых рельсами, как удавами. Немцы строили третий обводный путь. И так возникали целые станции из пущенных под откос поездов. Партизаны называли эти станции именами своих командиров.
Недалеко от восьмого разъезда за зиму выросла станция «Козолупа». И когда на ней появилось уже пять обводных путей, фашисты построили там домик и поселили взвод солдат. Но партизанские станции вырастали как грибы после слепого дождя.
К весне дорога Брест – Пинск была оседлана партизанами. Назрела необходимость установить взаимосвязь между партизанскими отрядами. Миссюра и Моцак решили связаться с белорусскими партизанами, место дислокации которых они примерно знали. Послали на это дело Санька и Омара. Чтобы не терять времени, те поехали верхом. Омару дали приблудного коня, каких в начале войны много бродило по лесам. А Санько отправился на своем Везувии, перезимовавшем на глухом хуторе Ивана Погорельца. Егор теперь тоже все время жил у брата. Этот хутор считался партизанской заставой. На четвертые сутки Санько и Омар нашли партизанский отряд «Буревестник» и передали просьбу своего командования.
Возвращались с радостным сообщением о том, что многие отряды белорусских партизан уже связаны не только между собой, но и с Москвой, и что в конце месяца предполагается совещание командиров партизанских отрядов, действующих в районе Пинских болот. На это совещание приглашались и представители отряда «Смерть фашизму!». Командир «Буревестника» обещал на днях сам приехать к морочанам. Связные везли драгоценный подарок партизан «Буревестника» – мину «нажимного действия» и полмешка толу.
Кони шли по колено в болотной грязи, то и дело спотыкаясь о пни и валежник. И когда попалась попутная просека, ребята обрадовались так, словно самое трудное во всей поездке уже миновало. Омар даже запел вполголоса свою любимую:
Здравствуй, милая Маруся,
Здравствуй, цветик дорогой,
Вот приехал я обратно
С Красной Армии домой.
Вдруг он умолк. Остановил коня. Прислушался.
– Совсем шайтан буду, если скажу неправду…
– Чего ты остановился? – придержал коня Санько.
– Идет самый тяжелый!
Санько прислушался к недалекому шуму поезда и согласился:
– Тяжелый, – и огорченно вздохнул, – только не наш.
– Поедем! Немножко на дорогу смотреть будем. Сердцу легче будет!
– Наоборот, – отмахнулся Санько, – досаду нагонишь!
Но когда Омар пустил коня в галоп, Санько, нахлестывая Везувия, поскакал следом.
Быстро проскочив последние заросли, партизаны вдруг остановились. Перед ними открылась широкая и светлая, словно речка, поляна. Это была освещенная луной лесная порубка, которая тянулась вдоль полотна железной дороги. В конце поляны, словно лунная дорожка на воде, сверкали рельсы. По шпалам медленно, устало шел немецкий автоматчик. Чуть дальше виднелся другой.
Немцы вырубили не только деревья, но и маленькие кустарники вдоль железнодорожных магистралей Украины и Белоруссии. Теперь подойти к пути было нелегко. А подъехать на конях и совсем невозможно. Санько и Омар остановились под большой развесистой елью.
Поезд, тяжело пыхтя, быстро приближался. Время от времени он тревожно подавал протяжные гудки.
И вот из-за леса показался длинный состав, освещенный луной.
– Танки! Шайтан! На девяти платформах танки! – крикнул Омар. – Танки нельзя на фронт пускать!
– А что ты им сделаешь?
– «Нахальный» мина ставим! Видишь, дорога поворачивает. Успеем наперерез. Ты патруль убирай. Я мина готовлю. – И, не дав товарищу опомниться, Омар во весь дух поскакал вдоль леса, по теневой стороне.
«Нахальная» мина – самое рискованное дело партизана. «Нахальной» называют ее потому, что ставят перед мчащимся паровозом, когда у минера нет времени на то, чтобы поставить обыкновенную мину: на шнур или нажим. Чаще всего тот, кто ставит «нахальную» мину, гибнет вместе с подорванным паровозом, потому что не успевает отбежать.
Санька слова Омара о «нахальной» мине бросили в дрожь. Он проклинал себя за то, что не сумел отговорить друга, корил кобринских партизан, пропустивших такой важный эшелон. Но и сам все больше загорался азартом, жаждой схватки один на один с врагом, который несравнимо сильнее, с врагом, одетым в броню и железо.
Кони мчались по просеке, ломали молодой березняк и ельник. Близкий шум поезда, вероятно, заглушал топот копыт, потому что на железнодорожном пути не было никакой тревоги. Патруль спокойно шел по полотну.
Дорога круто повернула. Лес отошел вправо. Омар пустил коня через порубку прямо к пути, по которому все еще спокойно шел в обратную сторону патруль.
– Санько, стреляй патруль! – скомандовал Омар, вынимая мину из сумки, привязанной к седлу.
Санько дал очередь из автомата. Немец упал.
Паровоз натужно пыхтит уже за спиной. Кони рвутся прочь от дороги. Но Омар, вытащив мину из мешка, гонит коня по кювету. Санько скачет чуть в стороне и стреляет во второго фашиста, появившегося на пути.
– Сразу отворачивай! – кричит Санько, надеясь, что Омар успеет поставить мину еще далеко впереди паровоза. Но у Омара, видно, что-то не ладится с миной, слишком долго он возится. Наконец, нахлестывая коня, Омар начал сближаться с паровозом. Вот они почти сошлись. Сейчас паровоз легко и свободно уйдет от коня…
Вдруг конь выскочил на насыпь, Омар бросился вниз, повис на стременах и перед самыми колесами паровоза поставил мину. Конь резко повернул в сторону леса. Омар подтянулся в седло.
У Санька сердце зашлось от страха за друга. Нахлестывая Везувия, он стал догонять Омара. Но земля ухнула, словно ушла из-под копыт коня. Все впереди вспыхнуло, рванулось во все стороны. Паровоз повалился под откос. Вагоны с танками полезли друг на друга. Взрыв, казалось, развалил землю пополам…
* * *
Как быстро все в жизни меняется!
Возвышение и падение Слава и унижение. Они всегда, видимо, ходят рядом.
Еще вчера Бергер был самым счастливым человеком в родном городке, куда вернулся после двадцати лет безупречного служения в разведке. Он один из тех, кто подготовил путь фюреру на восток и теперь заслуженно отдыхал. С приходом весны Бергер решил возвратиться в бывшие владения графа Жестовского, чтобы полновластно хозяйничать в них. Теперь это его имение, заработанное долгой и честной службой рейху. В голове, да и не только в голове, а и на бумаге, у фон Бергера столько планов преобразования своих владений! Он, конечно, сделает Пинские болота краем самой увлекательной, самой романтичной охоты…
И вдруг Берлин одной фразой перечеркнул все эти планы!
Бергер ходил по огромному кабинету из угла в угол. Сизый дым из трубки-чертика клочьями падал через плечо. В который раз вспоминал свой вчерашний разговор в Берлине с фон Краузе.
«Нельзя, Бергер, способному разведчику, в самый разгар нашей борьбы становиться помещиком. Ломать голову над проблемами урожая и кормления скота?.. Это слишком! Кончится война, и на вас будут работать тысячи этих… как вы их называете, лапотников. А пока возвращайтесь в свое имение, занимайтесь охотой, ондатрами. Зверьки эти за время вашего отсутствия не погибли?
– Им, конечно, плохо без присмотра. Но помилуйте, до ондатр ли теперь, когда фронт так туго продвигается?!
– Скажем прямо, бессмысленно толчется на месте, – поправил его Краузе, имевший право говорить смелее. – Вот поэтому и придется вам вернуться в свои охотничьи края и заняться охотой. Да, да, обыкновенной охотой… – Видимо, лицо Бергера отразило явное недоумение, и Краузе все объяснил: – За эту зиму в ваших владениях развелось много зверья. Надо сперва очистить леса от этой дичи, а уж потом селиться на постоянное жительство.
– Волки? – пожав плечами, спросил Бергер.
– Нет. Это зверье очень старой, чисто русской породы. Называется оно партизанами.
– Пар-ти-заны? – Бергер откинулся на спинку кресла, задумался. – Почему же в наших газетах об этом ни слова? Все пишут о каких-то бандах. А ведь это совсем другое. Партизаны… Именно они-то и решили судьбу Наполеона!
– Не хотите ли вы сказать, что и нашу судьбу решат именно они? – Холодный огонек сверкнул в глазах Краузе.
– Я считаю, что если это зверье в лаптях взялось за оружие, то война затянется.
– Да, точно, известная затяжка может быть. Но у нас с вами речь не об этом. Конкретно, что требуется от вас, как от человека, знающего этот край? В скором времени предполагается тотальная облава на этих, как их… партизан. Нужна глубокая предварительная разведка, изучение повадок зверья, местоположения его берлог. Мы пошлем карательные экспедиции, после которых не останется в нашем тылу ни одного человека, настроенного против нас.
– Мне все понятно.
– Меня одно беспокоит – видел ли кто из местных жителей, когда вы уезжали из своего дикого уголка?
– Нет. Там не было ни души. А если кто и увидел бы, то подумал, что меня арестовали как советского активиста, я ведь был депутатом районного Совета.
– Значит, все в порядке! Вы вернетесь беженцем-неудачником, не сумевшим пробраться в родные края. Людей мы вам дадим. И радиостанцию, конечно.
«Все в порядке!» – в сердцах повторял Бергер, еще злобней пыхтя своей трубкой.
Вспомнилось раннее детство, большой пятнистый пес, награжденный медалями за сообразительность. Пес этот был настолько умным, что его хотели взять в цирк и научить считать. Но однажды он исчез. Нашли его только через два года, на цепи. Новый хозяин, то ли не знал его феноменальных способностей, то ли не умел их ценить. Он привязал пса на цепь и, как обыкновенную дворняжку, заставил лаять и охранять двор. А когда тот не стал лаять так усердно, как требовали от него, хозяин обрубил ему хвост, чтобы был злее.








