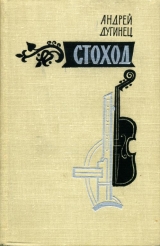
Текст книги "Стоход"
Автор книги: Андрей Дугинец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
– Эта панская библия нам еще пригодится, – сказал он в ответ на недоуменные взгляды крестьян.
– Зачем? – спросил Погорелец.
– Как же! В ней записаны все ваши слезы. По ней будем возвращать людям то, что отнял у них граф Жестовский.
– Да где теперь все это найдешь? – безнадежно сказала Марфа Козолупиха. – Скот управляющий угнал.
– Ошибаетесь, товарищи! – счастливо улыбнулся учитель. – Не управляющий, а батраки спрятали скот в лесу, чтоб граф не продал. Вот установится новая власть – и начнем передел всего панского хозяйства.
К учителю подбежал Сюсько.
– Пане учитель, дайте я вытру эту книжечку. – И угодливо протянул полу своего праздничного пиджака.
– Чище она от этого не станет, – ответил учитель и обратился к мужикам: – Идемте, товарищи, к комендатуре, ведь там за решеткой еще томятся наши люди.
Автомашина, превращенная в бричку, давно скрылась за поворотом. Следом за нею по небу катилась черная погромыхивающая туча. А по дороге бежал растрепанный, подгоняемый сворой уличных собак пан Суета.
На опустевшей дороге, среди раздавленных лепех коровьего помета, оставался растоптанный, смешанный с пылью большой черный лебедь.
Крестьяне сострадательны ко всему живому. Но к этой птице ни у кого не появилось сочувствия. Черный лебедь казался морочанам не простой птицей, не обычным живым существом, а знаком былого панского величия, черным символом проклятого панского канчука.
* * *
За селом секвестратора догнал Крысолов.
– Что, не взяли?
– Им сейчас не до меня, – мрачно ответил пан Суета.
– А я, собственно, не понимаю, чего вам-то за ними?
– Как же, ведь я был секвестратором!
– Чепуха! Теперь вы проповедник, руководитель общины мурашковцев.
– Тем хуже!
– Вы не знаете новой власти. Большевики сектантских руководителей трогать не будут. Такая политика.
– И вы думаете, что меня тоже не тронут?
– Уверен, – ответил Крысолов, беря в зубы трубку.
Пан Суета обеими руками пожал твердую, сильную руку Крысолова и повернул в лес, на хутор Соловья.
Крысолов смотрел ему вслед сквозь густые кольца дыма и думал: «Придет время, на таких можно будет надежно опереться…»
* * *
На конюшню, где Санько чистил коня, влетел приказчик.
– Санько-о! Запрягай мою пару в пролетку и подъезжай к дому. Бегом!
– Были когда-то твоими… – проворчал Санько, но пошел запрягать.
Везувий только два раза ходил в шлее и запрячь его было нелегко. Если б кто другой взялся за это дело, едва ли сладил бы. Но Санько обласкал, уговорил своего любимца.
– Потерпи, дружище! – шептал он коню. – Пану приказчику ж удирать надо. Красная Армия идет, наша власть, бедняцкая. Понимаешь? Тпру! Стой, стой, дурак! Думаешь, и правда я отдам тебя панам?
Осмотревшись по сторонам, Санько привязал к уздечке на лбу коня звездочку, вырезанную из ленты, и сел в пролетку. Взяв вожжи и глянув по сторонам, он задорно крикнул коням:
– Скачем Гришку освобождать из тюрьмы!
Кони рванули с места в карьер. Понеслись так, что ребятишки и куры, словно брызги, разлетались в разные стороны. Во дворе комендатуры Санько соскочил с пролетки и влетел по ступенькам крыльца в дом, на который раньше боялся даже смотреть. В коридоре он увидел плачущую навзрыд Оляну и нескольких женщин. Двери двух камер были уже взломаны. В углу коридора слышались удары топора и лома.
– Где Гриша? – холодея от ужаса, спросил Санько.
– Нету! Нету моего сыночка! – в ответ ему зарыдала Оляна.
По коридору с топорами пробежали Ясинский и Егор Погорелец. Догадавшись, что они спешат на помощь тем, кто ломает двери в углу, Санько побежал за ними. В конце коридора, где было несколько одиночных камер, топорами работали учитель и два мужика с панского двора. Одну за другой выломали двери угловых камер. Но и там не оказалось ни души.
– Вот эту! – коротко распорядился учитель.
И мужики бросились к дубовой двери, окованной толстым листовым железом.
Лязг, грохот, гул – и через несколько минут дверь сорвали с петель. На полу камеры вплотную один возле другого лицом вниз лежали десять связанных мужчин и три женщины. У всех рты были заткнуты тряпьем и завязаны ремнями. Но Гриши не было и здесь.
* * *
В полдень где-то на дороге из Пинска грянул духовой оркестр. Звуки походного марша разорвали пелену туч. Над лесом показалась голубая полоска лазурно-чистого неба. Полоска эта быстро расширялась, давая простор ясному полуденному солнцу.
Все ближе, все громче торжественный армейский марш. Он нарастал и приближался быстро, как рокот первого весеннего грома.
Морочане побежали навстречу, полезли на крыши хат и сараев. На груше, возле дома Сибиряка, гирляндами повисли ребятишки.
В конце улицы, словно костер, вспыхнуло красное знамя, а за ним сверкнули под солнцем трубы оркестра и показались стройные ряды красноармейцев. Морочанские парни и девушки хороводом вышли навстречу и запели «Катюшу».
Оркестр быстро перестроился на «Катюшу». Солдаты подхватили песню. И голоса морочан и красноармейцев слились в такой дружный хор, будто бы они много лет неразлучно пели вместе.
А когда батальон вошел в село, морочане увидели деда Сибиряка рядом с командиром, шедшим за оркестром. Дед Конон, правой рукой придерживая свое ружьишко, висевшее за плечом, а левой широко размахивая перед собой, шел спорой походкой бывалого солдата-ходока.
* * *
Гриша задыхался. Шарф, которым Левка заткнул ему рот, вызывал тошноту и не пропускал воздуха. Нос от уксуса распух и, казалось, совсем закупорился. Гриша дышал часто, судорожно, как в агонии. Он старался подтянуть колени ко рту и вытащить проклятый шарф. Но связанные ноги не сгибались. Хотелось закричать во всю силу. Разорвать себе грудь.
А на улице песня.
«И кому там так весело? Разве ж до песен, когда нечем дышать?! Воздуха! Немножко бы! Глоток воздуха! А там хоть умереть…» В дверь бьют чем-то тяжелым. Крики. Ругань.
«И чего они там стучат? Или кого-то опять бьют в камерах?»
Загремела и настежь распахнулась дверь. В глаза узника ударило солнце. В кабинет коменданта вбежали сразу несколько человек. Впереди учитель Моцак, Санько, мать и загорелый юноша с красной звездочкой на зеленой фуражке и винтовкой в руках.
«Красноармеец!» – догадался Гриша и всем телом рванулся навстречу.
Но от этого потерял последнюю возможность дышать. Слезы подступили к горлу. Глаза сами закрылись.
Санько, выхватив изо рта шарф, начал торопливо развязывать веревку. Но она так затянулась, что развязать было, невозможно.
Красноармеец сорвал с винтовки штык-кинжал и одним взмахом разрезал веревку.
Гриша разбросал руки по полу и глубоко, всей грудью вздохнул. Еще. И еще.
Как хорошо!..
Никогда он еще не испытывал такой радости от того, что может свободно дышать. И только теперь понял, что самое большое счастье на земле – это свободно дышать.
Голубое апрельское утро обещало погожий, теплый денек. Да и на душе у Гриши было светло и легко: впервые в жизни шел он с дедом пахать не арендованный у пана какой-нибудь сухой бугор, а свое собственное, полученное от новой власти, настоящее пахотное поле.
Широко размахивая левой рукой и склонив отяжелевшую от дум седую голову, дед Конон шагал быстро, стремительно, по-солдатски. На молодой траве, густо выбеленной инеем, оставались сочные зеленые следы его огромных растоптанных лаптей. Гриша наступал на эти следы и радовался, что не отстает. Правда, он шел так, что лоб вспотел. Но все же успевал шагом, а не бежал, как бывало раньше. Через два-три года Гриша догонит деда ростом и тоже станет первым скороходом на селе. И тогда всю семью будут звать не просто Багны, а Багны-Скороходы.
И дед и внук молчали. Зато небо пело. Там, в голубой недосягаемой вышине, кипела жизнь, неугомонная, полная песен и радости, привольная жизнь жаворонка.
Подняв голову и приоткрыв рот, как в первый дождь, когда хочешь поймать губами прохладные крупные капли, Гриша слушал беззаботное пение жаворонка, жадно вдыхал густой, еще прохладный воздух весны. Он ни о чем не думал. Просто радовался всему, что видел и слышал.
А дед, прищурив заросшие седыми, колючими бровями глаза, по-хозяйски посматривал на Чертову дрягву и прикидывал, где следовало бы вырыть канаву, чтобы спустить болотную воду и осушить вековечную трясину.
– А что ж! – вслух рассуждал он. – Вода в этом году сошла рано. Лето будет сухое. Можно было б и осушить. Теперь никто не помешает. Только дружно взяться… А добрэнна будет земля. По сто пудов с закрытыми глазами возьмешь…
Вдруг дед заметил, что аист, шедший по болоту, как старый спесивый царь, что-то забеспокоился, начал туда-сюда водить головой, что-то высматривать в прохладном, безоблачном небе.
Где-то далеко послышался вибрирующий гул, напоминающий журчание ручья, пробирающегося по лесной чащобе. Гриша прислушался. Радостно улыбнулся.
– Дедушка, это самолет! Опять будет пускать на болото зеленый дым. Он комаров травит, чтоб лихорадки не было…
Но дед – ни слова. Он весь был занят мечтой об осушении болота, о будущем Чертовой дрягвы.
Звонкий вибрирующий гул быстро нарастал, и вдруг из-за желтой каймы лозняка вылетел светло-голубой двукрылый самолет.
Увидев железную птицу, аист пугливо присел, потом поспешно побежал по болоту и улетел.
– Ага! Боишься? – обрадовался Гриша. – А то задирал голову, как ясновельможный!
Самолет долго кружил над болотом, покачиваясь с бока на бок, но зеленого дыма не пустил. Когда он улетел, Гриша в оправдание ему сказал:
– На росу не стоит пускать отраву. Вот подсохнет, он снова прилетит и все запорошит комариной смертью.
Дед и на это ничего не ответил. Но теперь его мысли были заняты уже другим: он начинал беспокоиться, почему не видно Санька с конем.
Остановились. Приложив к глазам шершавые скрюченные пальцы, дед внимательно осматривал невысокий ольшаник, в котором должен пастись конь. А Гриша замер позади. Приоткрыв рот, он жадно ловил звуки, каких дед и не подозревал. Гриша подслушивал радостный, мало кому понятный лепет молодой травки, которая только что была придавлена огромными лаптями деда и теперь распрямлялась, выравнивалась.
– Неужто домой уехал? – вслух раздумывал Конон Захарович.
Гриша встрепенулся.
– Нет! Санько не такой! Он не подведет! – И, осмотрев свежевспаханную делянку Козолупов, Гриша обрадовался: – Дедушка, гляньте, торба на бороне. Он где-то тут…
Подбежав к невысокой корявой березке, росшей между болотом и пахотным полем, Гриша влез на нее и во весь голос позвал:
– Санько-о-о!
В ответ из лозняка вылетела стая крачек и, кружась с оглушительным криком, улетела прочь.
Опять стало тихо. Гриша позвал еще раз. Из-за пригорочка, поросшего редким лозняком, донесся свист, а вскоре послышался и конский топот.
После раздела панского имущества Конону Багно пришлось совсем породниться с Козолупами: на два двора им досталась одна лошадь да и землю нарезали рядом. Работать решили по очереди. Кто сегодня работает, тот и кормит коня до следующего утра. Вчера Санько пахал свое поле, а ночью пас. Дед Конон тревожился, не останется ли конь голодным: все-таки хлопец еще не настоящий хозяин. Но когда Санько появился верхом на маленьком шустром гнедом коне, дед сразу понял, что зря беспокоился, а Гриша, глядя на раздутый живот Гнедка, нарочито громко воскликнул:
– Эх ты! Вот это напас! Хорошую траву нашел? Где?
– Там, – кивнул Санько.
– В ольшинах? Где от Барабака когда-то корову прятал?
– Угу, – Санько вынул из кармана винтик с гаечкой. – Помнишь?
– Это тот, что ты потерял, когда Барабак гонялся?
– Целых два года пролежал в траве и ничего.
– Заржавел.
– Не беда! Я его золой почищу, станет как новый.
Санько с такой любовью осматривал свою находку, что Гриша невольно вспомнил, как сам он радовался когда-то гармошке, подаренной женой арестованного учителя. Это было давно. С тех пор он больше ничему так не радовался… Санько хоть через два года нашел свою потерю. А он…
Гриша украдкой глянул на свои покалеченные пальцы и спрятал руки в карманы. Он потерял такое, что уже никогда не найдешь…
Придирчиво осмотрев коня, дед Конон остался доволен:
– Напас, прямо скажу, по-хозяйски.
Выслушав одобрение скупого на похвалу старика, Санько попросил разрешения посмотреть первую борозду.
– Чего ж, смотри. Я сглазу не боюсь, – простодушно ответил дед.
Втроем быстро запрягли коня в плуг, лежавший на меже. Взяв Гнедка под уздцы, Конон Захарович сам повел его на свой участок.
И вот она, родная, теперь уже навеки своя земля!
Десять гектаров. Целых десять гектаров!
В начале поля дед остановил коня. Снял брыль. Глубоко, всей грудью вздохнул так, словно хотел выдохнуть все свои беды, все долголетние мытарства. И, к удивлению Гриши, истово, как самый заядлый богомолец, трижды перекрестился.
– Слава тебе господи! И у нас теперь свой ковалок земли!
Граница земельного участка Конона Багно была теперь перенесена далеко от болота, на бывшее панское поле. Но дед с особой любовью смотрел именно на низину, между старым вербовым пнем и разросшимся за прошлое лето кустом осоки.
Когда делили землю, Багно предлагали участок возле конюшни, на залежи. Старый хлебороб знал, что земля там такая, какой не найдешь во всей Морочне – унавоженная десятилетиями, – и все же не согласился, попросил вернуть ему его собственный, издавна «свой ковалок». А раз уж по новым законам положено каждому двору не меньше десяти гектаров, то пусть прирежут тут же рядом от панского поля. Жалко было старому пахарю расставаться с крохотным клочком земли, политой потом и кровью, «ковалком», с которым связано все самое хорошее и самое плохое на долгом, нелегком веку.
Осмотрев свое старое поле, дед оставил внука возле коня и перешел на ту половину надела, куда раньше не смел даже ступить ногой. Вдоль и поперек обошел новый участок. Обмерил шагами. Копнул постолом и набрал полную горсть серой, как зола, влажной земли. Долго мял ее, пересыпал из ладони в ладонь. Понюхал. Наконец попробовал рукой на вес и высыпал так бережно, так благоговейно, словно это была не земля, а уже готовая, хорошо очищенная, крупнозернистая рожь. И лишь после этого вернулся к плугу.
Первая борозда получилась ровная, как туго натянутый шнур. Санько зачарованно смотрел на умелую работу и почесывал в затылке.
– И у тебя так же ровно получилось? – лукаво спросил Гриша.
Санько отрицательно махнул давно не стриженной, лохматой головой.
– Значит, и жизнь весь год будет кривая, – убежденно заявил Гриша. – Когда первая борозда прямая, то и жизнь пойдет ровная, спокойная. Правда, дедушка?
– Э-э-э, – скептически протянул дед Конон. – Наперед не угадаешь, какая она будет, жизнь, ровная чи кривая. Никогда не угадаешь.
Грише такое маловерие казалось обидным для новой власти, которая вернула им все хозяйство, отнятое когда-то панами. Он удивленно и даже со страхом покосился на согнутую спину уходящего по борозде деда и упрямо шепнул другу:
– Это правда! Все так говорят.
– Угу, – согласился Санько и понуро ушел домой.
Обидно было Саньку, что нет у него ни отца, ни деда, что никто его не учил хозяйничать, до всего приходилось доходить самому. Там, где люди брали умением и сноровкой, он набивал кровавые мозоли. Там, где другие пользовались готовым, он должен был изобретать, придумывать заново. Плохо без отца. Очень плохо…
Вторую борозду дед Конон начал, только выждав, когда Санько скроется в лозняке. Плутовато посмотрев по сторонам, старик переставил плуг на добрых полметра вправо от межи и тронул коня вожжой.
– Дедушка! Это ж мы – лишнее, – тревожно прошептал Гриша и в ужасе оглянулся, не видит ли кто.
Дед молчал.
Конь дугой выгнул костлявую спину и низко опустил голову. Роняя пену с узды и надсадно хекая, он шел так поспешно, словно тоже понимал, что захватывает лишнее.
– Дедушка! – опять заговорил Гриша. – Это ж не наше…
– Ковалочек прихватить у пана – не беда! – дед кивнул так задорно и весело, что лицо его показалось внуку помолодевшим на много лет.
И все же Гриша возразил:
– Так это ж теперь не панское!
Дед остановил коня. Устало отер вспотевшее лицо. С сожалением посмотрел на ровную, черную борозду.
– А правда… – согласился он, хотя в глазах его еще не погас блудливый огонек.
Гриша впервые видел такую озорную, плутоватую улыбку на вечно хмуром, морщинистом лице деда.
– Не верится, что у нас теперь столько земли! Совсем не верится!
Но даже после этого признания дед продолжал пахать чужое. И лишь когда довел борозду до конца, сказал нарочито беспечно:
– Да не бойся. Это ж земля Гири. За темное дело получил он ее у пана еще прошлой весной. У него теперь двадцать гектаров. Половину смело можно разделить между бедными.
Гриша брел по глубокой свежей борозде, надеясь, что дед устанет и разрешит ему пахать. Но старый пахарь, дорвавшийся до любимого дела, забыл обо всем на свете и так навалился на плужок, будто бы и сам вместе с лемехом хотел влезть в мягкую, рассыпчатую, хорошо подготовленную весенним солнцем почву.
Лишь вспахав половину поля, дед дал коню отдохнуть и сам присел на плуг.
Только что вспаханная сочная земля парила густо, привольно дышала всей своей широкой, могучей грудью. Чуть приметный болотный ветерок густо гнал по полю мелкие стайки тяжелого сизого пара. Как поземка, этот пар прижимался к земле, полз тонкими, юркими змейками, игривыми дымками резвился вокруг больших рыжих комьев, ждавших бороны. Казалось, что в свежих, еще пахнущих молодым огуречным рассолом бороздах дымят, разгораются маленькие очажки. И в каждом очажке зарождается загадочная, новая жизнь.
Немного передохнув, дед Конон начал нарезать борозды для стока воды.
Посей полешук на ровном поле, как это делают в других краях, у него не только ничего не вырастет, а вместо пашни к осени получится болото. Дождей здесь выпадает столько, что земля не успевает впитывать. Вот и научились хлеборобы избавляться от лишней влаги: по вспаханному полю через каждые два-три метра нарезают борозды для стока воды и только потом боронят и сеют. Рожь в этих бороздах обычно выходит хилая, бледная – вымокает. Зато на избавленной от лишней влаги полоске она поднимается буйная, зеленая, колосистая. Борозды эти, конечно, много отнимают урожая. Но без них в краю дождей и туманов не обойдешься.
Нарезать борозды надо тоже умеючи, чтоб вода в них не застаивалась, а быстро уходила с полей. И дед Конон делал это безупречно. Гриша даже залюбовался ровными, чистыми, словно подметенными веником канавками, остававшимися за плугом деда. Соскучился старый пахарь по вольной работе на земле, истосковался и теперь отводил душу за все утерянное, за все несбывшееся в долгой неудачной жизни.
– Что, Сибиряк, чужую землю пашешь?
Дед и внук так увлеклись работой, что не заметили, как подошел к ним высокий хмурый человек с винтовкой на плече и пистолетом за поясом.
Старый Конон поднял глаза, вдруг натянул вожжи, остановил коня и, как подкошенный, сел на плуг.
– Ле-о-ов-ка! – узнав бывшего полицая, протянул Гриша и выронил кнут.
Он хотел сказать что-то еще, но не мог, словно Левка опять, как тогда в кабинете коменданта полиции, заткнул ему рот шарфом. Сухой, туго скрученный комок застрял во рту и не давал свободно дышать. Не шевелясь и не сводя глаз со своего заклятого врага, Гриша стоял за спиной деда.
– Ну! – холодно и люто уставились на Гришу чем-то тяжелым налитые совиные глаза. – Как пальцы? Зажило, как на собаке?
Гриша отвел глаза, чтобы скрыть свою ненависть, и спрятал правую руку в карман: не хотелось, чтоб этот гад, разбивший вместе с пальцами все самые отрадные надежды, еще и теперь глумился, любовался своей «ловкой работой».
– Теперь можешь играть на гармошке, сколько влезет! – дразнил Левка.
Гриша невольно глянул под ноги своего врага и увидел сапоги. Порыжевшие, избитые, но те самые, подкованные железом сапожища, которые растоптали его гармонь. Стало холодно, жутко. Вспомнились слова Левки: «Змею можно посадить за пазуху, если вырвать жало». Потом хруст пальцев под железным каблуком и резкая огненная боль. При этом воспоминании правая рука Гриши вздрогнула. От пальцев до локтя пробежали мурашки. Он сжал кулак, но не вытащил его из кармана.
«Налетела бы милиция!» – стиснув зубы, подумал Гриша.
Он не просто думал о милиции, а мысленно перенесся к деревянному дому районного отделения и, глядя на вывеску, как на икону, молил, уговаривал начальника скорее догадаться и прискакать на Чертову дрягву. Но вокруг, насколько видел глаз и слышало ухо, не было ни топота скачущих коней, ни говора людского, ни даже птичьего щебета.
Ехидно улыбаясь, Левка вошел в борозду, сел на свежий пласт против деда и нарочито громко спросил:
– Ну, как без панов, без хозяев?
Надо было бы смолчать, уклониться от прямого ответа. Но дед Сибиряк не умел притворяться, криводушничать.
– Обходимся. Обходимся, – в тон Левке ответил он.
– Не радуйся! – злобно процедил Левка. – Не долго вам пановать, гонять нас по корчам!
Только теперь дед Конон заметил Барабака, стоявшего в лозняке, опершись на винтовку, приставленную к ноге. Барабак смотрел в сторону села, видно, караулил своего напарника.
Тут дед Конон испугался еще больше. Ни разу в жизни он не был в таком безвыходном положении, как в эту минуту.
Безоружный встречался с медведем. В болотистом лесу напоролся когда-то на разъяренного подстреленного кем-то дикого кабана и целую ночь уходил от него, по веткам перебираясь с дерева на дерево. Да чего только с ним не случалось! Но каждый раз в сознании оставалась хоть маленькая надежда на спасение. А сейчас не было никакой надежды остаться в живых, а главное – спасти внука. Весь район знал об изуверстве бывшего графского стражника Барабака и его сподручного Левки Гири, которые после бегства панов занялись бандитизмом.
– Ты, хлопец, иди погуляй, – повелительно сказал Левка Грише. – Мне с дедом потолковать надо.
Гриша хотел возразить, но в горле все еще стоял сухой шершавый ком. Не в силах что-нибудь произнести, он отрицательно мотнул головой в знак того, что никуда не уйдет, и заслонил собой деда.
– Убирайся! – Левка нахмурился и вынул из-за пояса большой черный пистолет.
– Да бог с тобой, Левко! Что хлопец понимает? – кротко заговорил дед Конон. – Иди, Гриша, не бойся: на такого старого дурня пан пожалеет патрона.
Левка ухмыльнулся и победно глянул на Барабака. А дед тем временем подтолкнул Гришу и, строго посмотрев в глаза, шевельнул длинными седыми бровями: в сторону села, мол, беги.
Гриша направился было к лозняку, но Левка крикнул:
– Погуляй с паном Барабаком, а то ему скучно одному.
Пришлось подчиниться.
Когда Гриша отошел, Левка тихо, зловеще пробурчал деду Конону:
– Верни моей матери корову.
От сердца у деда Конона сразу отлегло. Раз такое требование, значит, не убьет. Он задумчиво почесал в затылке и развел руками, будто советовался:
– Я думаю, не возьмет ее Одарка. Знает, что корова моя.
– Нет, моя! – настаивал Гиря.
– Твоей она была всего неделю. Не знаю, за что ее пожаловал тебе пан, – отвечал дед, не глядя на бандита. – А я ж сам ее выкормил, можно сказать, на руках вынянчил.
– Мы не на сходке. Отведи корову матери, и все! Да! Еще вот что скажи, Сибиряк: правда, что ты подговариваешь людей, чтоб осушить Зеленый клин?
– А чего ж тут такого? Конечно, надо осушить его. Когда-то ж это была пахотная земля. Да еще какая! Жито стояло, что твой камыш!
– Та-ак… И осушить его можно только колхозом? – Левка подмигнул: мол, видишь, как я все знаю.
– Ты что ж, и на собраниях бываешь? – натянуто улыбнулся дед и посмотрел на Гришу, который стоял довольно далеко, но по настороженности было видно, что все слышит.
– У меня везде глаза! – хвастливо ответил Левка. – Так вот, чтоб до новой весны о колхозе больше ни слова. А пока колхоза не будет, то и за болото вы не возьметесь, это как пить дать.
– Да чего ты так печешься об этом болоте?
– Я купил его у пана. Половина Зеленого клина, от грудка Соловья до леса, все это теперь мой сенокос. Мой! – И, воровато посмотрев по сторонам, Левка понизил голос: – Скоро все изменится. Украина будет самостийной, ни от кого не зависимой. Панами будем мы. Ясно? – Левка пошел. Но обернулся и добавил: – Ты, конечно, заяви, что видел меня, – и глумливо ухмыльнулся. – Может, по следу поймают…
Гриша вернулся пристыженный: ему было досадно, что не сумел убежать от Барабака. Но дед словно не замечал его переживаний. Он по-прежнему сидел на плуге и печально смотрел вдоль глубокой, ровной, как струна, борозде.
– Вот тебе и ровная борозда, – тяжело вздохнув, проговорил он. – Э-э-э, хлопче. В жизни ровных путей не бывает. Не-ет, такого не скоро дождешься. И другие думают так же, как ты: не стало панов, значит, сразу мед ложками. А оно ж не так… Вот хоть бы эта земля. Куда она годится? Все из нее высосано, выжато. Какой урожай на ней? Полсотни пудов соберешь, так и то хорошо. Польские паны с нашей землей обходились, как воры в чужой хате: хватай, что поближе.
– А мы теперь половину оставим на перелог, – по-хозяйски решил Гриша.
– Э-э, нет! – качнул отяжелевшей от дум головой дед Конон. – Если по-хозяйски, так надо осушить Зеленый клин и всем селом перейти туда, а этой земле дать отдохнуть. Только ж не нравится это панам. – И дед уже с иронией добавил: – Не дозволяет пан бандит.
– А что, Левка что-нибудь об этом говорил? – с тревогой спросил Гриша.
– Не бойся, Зеленый клин опять будет пашней. Никакого бандюги спрашивать не пойдем. То добре, что учитель стал председателем всего района. С этим человеком добьемся своего. Нам только бы дружно взяться…
Гриша тер картошку, а мать, склонившись у жарко натопленной печи, пекла оладьи. Слева у нее под рукой стояла ночевка с натертой картошкой, справа, на скамье, застланной белым холстом, лежала уже порядочная горка подрумяненных оладий. Но мать все пекла и пекла. А Гриша все тер и тер картошку. Готовился пир горой. Сегодня придет Антон Маракан, которого все считали погибшим. А он, оказывается, жил где-то чуть не в самой Москве.
Даже дед Конон ждал гостя, о котором уже пошел по селу шепоток, будто он в Советах стал машинистом на такой машине, что как зацепит Чертову дрягву, так и уведет в самое море. Старик принарядился, надел синюю сатиновую рубаху, обул сапоги, которые оставил тогда Крысолов да так и не захотел забирать обратно. Это, говорит, исторические сапоги. «Вы, Конон Захарович, в этих сапогах принесли нам новую жизнь. Пусть они остаются у вас навсегда!» От сапог комната наполнилась густым острым запахом дегтя.
Повесив над столом купленную специально для такого торжественного случая керосиновую лампу с голубым абажуром, Конон Захарович сидел в переднем углу и читал газету. Читает он ее уже второй день по буковке. Со времени гражданской войны он ничего не читал и даже забыл некоторые буквы.
В сравнении с мигающим желтым огнем лучины, ровный белый свет лампы казался ярким, торжественным. От одного этого света весь сегодняшний вечер был похож на необычный праздник, какого еще не бывало в этой покосившейся, маленькой, но уютной хатенке.
Гриша за работой тихо напевал, изредка его пение переходило в посвист. И тогда сразу же, как резкий удар кнута, в затылок его впивался недовольный взгляд деда. Гриша тут же умолкал и украдкой посматривал на дедушку, который снова читал свою газету.
И опять шуршала картошка о большую самодельную терку и одна за другой шлепались на рушник горячие, вкусно пахнущие оладьи.
Картофельные оладьи, а по-морочански млынци – самая любимая, праздничная еда полешуков. В домах с большим достатком их макают в сметану, в мед, в масло, в котором плавают ломтики поджаренного, зарумянившегося творога. Никакой сдобы, никаких печений даже зажиточные полешанки не знают, потому что им некогда было заниматься какими-то выдумками. Стряпать что-то особенное могли только паны, за которых все делают слуги. А простой мужичке надо встать чуть свет, поскорее накормить семью и первой выйти в поле. И пусть не судят полешанку за то, что на целую сотню лет отстала она в кулинарном искусстве!
Оладьи уже были перемазаны маслом и в огромной глиняной миске задвинуты в накаленную печь, из которой выбрали на шесток жар. Оляна, глядя в зеркальце, вмазанное в коминок, покрывала голову белым с голубым горошком платком, когда в сенях звякнула щеколда и послышался тихий, осторожный стук в дверь.
В Морочне никто не стучался, входили, как домой. Поэтому все сразу поняли, что это он.
Антон вошел тихий, смущенный. На широком ремне через плечо у него висел огромный ящик, обитый кожей. На ящике сверкали белые железные угольнички, замочки и какие-то кнопочки.
Поставив ящик на лаву и тяжело вздохнув, будто обрадовавшись, что наконец-то сбросил с плеч свою нелегкую ношу, Антон не спеша и торжественно проговорил:
– Ну, здравствуйте в вашем доме! – Подойдя к столу, подал хозяину свою огромную, увесистую руку с жесткими, словно дублеными пальцами. – Доброго вам здоровья, Конон Захарович. Вот и пришлось увидеться, хотя уже и не надеялся попасть в родные края.
– Здравствуй, Антон. Здравствуй. – Выйдя из-за стола, Конон Захарович сердечно пожал руку гостя. – Спасибо, что не забыл. И жил, по всему видно, добре, а родного кута не забыл.
– Не забывается он, родной кут. Хорошо живешь или плохо, а родимая сторонка тянет, вечно кажется самой лучшей на свете…
– Что правда, то правда, – с грустью согласился дед, видно вспомнив свои давние скитания по чужим просторам. – Садись, Антон, рассказывай, где бывал, что видел…
Антон подошел к Оляне, которая все стояла у печи и прятала от отца глаза, тихо поздоровался и спросил, где же Гриша.
– Да вон он сидит. Не узнал?
– Тю! Так это он?! Грыць! Так ты ж вот таким был, как я ушел в Советский Союз. – Антон показал рукой чуть выше пояса и, обратившись к Оляне, спросил: – Это что ж, ему уже шестнадцать?
– В октябре исполнится.
– Здравствуй, Григорий, здравствуй. – Антон солидно, как равному, протянул руку.
Грише показалось, что рука его попала в огромные железные клещи. Пальцы слиплись. Но он и виду не подал, что больно. Гость сам догадался:
– Рука у меня чугунная. – Антон виновато качнул головой. – Раздавлю пальцы, нечем будет играть, а я ж привез тебе… – и не досказав, что именно привез, Антон подошел к своему черному ящику.
Дед Конон еще сильнее выкрутил фитиль. Один рожок белого пламени вытянулся, покраснел и стал чадить. На стекле сразу же появился черный язычок сажи. Но никто не замечал этого, все смотрели на загадочный ящик.
Раскрыв ящик, Антон вынул огромную, сверкающую белоснежными пуговками гармонь и на вытянутых руках поспешно поднес ее Грише.
– Вот, учись играть по-настоящему, – просто, как о чем-то обыденном сказал он Грише. – Я хотел подарить тебе такую штуку еще тогда, при панах, да не за что было купить, сами знаете, каким я был неудачником. Называется эта гармонь баяном.








