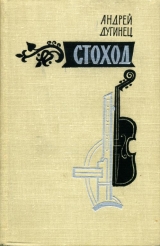
Текст книги "Стоход"
Автор книги: Андрей Дугинец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
Высунулся из-за лесочка целый сарай из железа. Один, другой да сразу три. Зеленые, и у каждой танки на боку черный крест. Подползли они к мосту – и пошло, и пошло! Что они там творили, супостаты! На мосту было больше ж детей, чем взрослых. Все ж старались скорей переправить за речку деток. А гитлеряки садят из пулеметов прямо по бричкам. Глянул я: а в речке вода красная, с моста кровь ручьями.
Бабы, слушавшие рассказ бандуриста, рыдали, прикрывая рты передниками или концами платков. А мужики хмурились и все злобней дымили цигарками.
– Собирался я уже березнячком назад уползти, да слышу, у моста: бах-ба-бах! Ну, думаю, чего уж тут бахать. Я ж хорошо приметил, что в окопах по эту и по ту сторону дороги засело всего-навсего восемь наших солдат и двое цивильных. Видно, добровольцы.
Был у них один хлопчик. Совсем не военный. В руках – автомат, а за плечами какая-то коробочка. Наверно, скрипка.
– Может, наш Гриша? – рванувшись к отцу, проговорила Оляна и прижала руку к сердцу.
– То совсем по другой дороге, – возразил Конон Захарович. – Не расстраивайся понапрасну!
Мать! Не слушай никого! Поверь своему сердцу, которое забилось так горячо и тревожно. Оно не обманет, вещее сердце матери! Расспроси бандуриста, какой из себя тот хлопчик. Расспроси хорошенько. Слышишь, мать?!
– А оружия у них на восьмерых, кроме винтовок да автоматов, один пулемет. Прут немцы как ни в чем не бывало прямо на мост! Одна танка вырвалась вперед, а две с боков заходят. Глядь – выскочил из окопа красноармеец. И правду сказать, хлопчик себе незавидный, одна худоба. А шустрый, горячий! Кинул он какую-то бутылку прямо на крышу танки. Она и загорелась, как смоляная бочка. А тот под нее еще и гранату. Закружилась зеленая неметчина, зачмыхала… А там, вижу, к каждому окопу подбирается еще по одной танке. Сейчас всех передавят, перетрут и – на мост. Да кто-то опять успел гранату подкинуть под ту танку, что ближе ко мне. Разорвалась граната и, как грязь от конских копыт, разлетелись в разные стороны эти самые…
– Гусеницы! – хором подсказали мальчишки.
– Вот, вот, разлетелись они, а вся эта чертова железяка закружилась, рыжий смрад пустила по лесу… А третья танка сама повернула назад. Вот оно как было, – обращаясь только к Барабаку, многозначительно качнул головой бандурист. – А ты говоришь, бегут от первого выстрела!
– Да вы, дедусь, не слушайте этого гусака! – крикнул кто-то из толпы. – А что дальше было? Наши успели уйти?
– Дальше? Да я и сам толком не понял, что творилось дальше, – вздохнул бандурист. – Пришла немецкая пехота. А только наши не подпустили ее близко до моста. Деваться гитлерякам некуда, обойти мост нельзя: лес там болотистый, непроходимый. И около речки трясина. Залегли они по канавке вдоль дороги и – ну по мосту. И из пулеметов, и из автоматов, и из винтовок! А у наших запас патронов, видно, небольшой. Так они попрятались за танками и отстреливаются не спеша.
Барабак вошел в толпу, остановился против бандуриста и тихо, но злобно сказал:
– Кончай брехню! Хватит на сегодня.
Между Барабаком и бандуристом встал Егор Погорелец и спокойно возразил:
– А вы, паночку, не мешайте слушать! Хорошо ж рассказывает старый.
Барабак смолчал. А бандурист продолжал свой рассказ, хотя и чувствовал недоброе:
– И не заметил я, как день прошел в перестрелке… А вечером, когда солнце совсем собралось заходить, под мостом заиграла скрипка. Да так заиграла, будто никакой войны, будто бы все кругом тихо да мирно. Я даже поднялся посмотреть, кто оно там играет. А это ж тот хлопчик…
Оляну эти слова обожгли. Но на этот раз ей просто было жаль хлопца, чем-то похожего на ее сына. Одной рукой она закрывала себе рот, а другой вытирала слезы, которые весь этот вечер текли ручьями.
– А еще с самого начала я заприметил того цивильного, что с хлопчиком. Стройный такой, как топо́ля. Быстрый. И отчаюга! Пока шел бой, я видел его и в окопах, и под танкой, и по ту сторону дороги, и по эту. Ползает, как ящерка, хотя уже не так чтоб и молодой… Ближе к вечеру он стал еще чаще переползать с места на место. И я понял, что всего-то их осталось двое: этот человек да хлопчик с музыкой.
Пока хлопчик играл, старший ползал под мостом, что-то все прилаживал. А потом оба быстро перебрались на ту сторону.
Гитлеряки осмелели, побежали следом. И только вышли на мост, а оно как ухнет. Весь мост в небо черной тучей поднялся. – Тут бандурист развел руками и, словно в чем-то виноватый, закончил: – А больше ж я ничего и не видел. Присыпало меня землей да щепками. С трудом выбрался да скорее назад, в лес. Так и не удалось догнать своих…
– Дедушка, про Брест расскажите! – попросил Санько.
– Так вот я ж рассказал вам про того цивильного потому, что это был ваш человек, – не отвечая на просьбу, заключил бандурист. – Совсем не военный, а воевал за целый взвод!
– Кто это был? Кто? – раздалось сразу несколько встревоженных голосов.
– По-моему, это ж и был наш районный голова, Моцак, – ответил бандурист. Он собирался, видно, еще что-то сказать, но его слабый голос утонул в поднявшемся шуме, рыданиях жены Александра Федоровича и Оляны, теперь окончательно убедившейся, что юноша со скрипкой был ее Гриша. Анну Вацлавовну и ухватившегося за нее Игорька женщины под руки повели домой, а Оляна, дернув отца за руку, тоже побежала домой, сама не зная зачем. И только Олеся, до боли закусив губу, стояла на месте, надеялась еще что-то услышать о Грише. К бандуристу подошел Барабак.
– Кончай красную пропаганду, пся крэв! Людей до слез доводишь своей болтовней!
Егор Погорелец заслонил собой старика. Тогда Барабак вынул из кармана пистолет, наставил на Егора и потребовал идти с ним.
– Куда? – удивился Егор.
– В комендатуру.
– Какую-то еще комендатуру выдумал? – выкрикнула Марфа Козолупиха.
– Я будущий комендант морочанской полиции и не допущу в своем районе красной пропаганды, – совсем другим голосом заговорил «ласковый» пан. И сразу все узнали в нем прежнего Барабака, не хватало только нагайки.
– От же ж мы не знали, что вы и есть наша новая власть. Выглядываем, ждем ее дни и ночи, – подойдя вплотную к коменданту, сказал Антон Миссюра, почувствовавший, что здесь нужна будет его сила. Железной хваткой он сжал пухлую белую кисть Барабака и отвел пистолет от груди Егора. Барабак присел от боли. Антон легко, как хворостину, повернул панскую руку внутрь так, что пистолет уткнулся дулом в грудь своего хозяина. Барабак рванулся. Он, видно, подумал, что силач хочет его застрелить. Неожиданно для всех раздался выстрел. Барабак дернулся всем телом и тяжело рухнул на землю.
Люди стали поспешно расходиться по домам: «Подальше от греха».
Антон растерянно стоял над убитым. К нему подошел бандурист и тихо промолвил:
– Еще в старину говорили – поднимешь меч на другого, сам от него погибнешь.
– Да я не думал, что оно выстрелит, – оправдывался Антон. – Я этой штуки никогда и в руках не держал.
– Бери эту штуку, – кивнул дед, – да уходи в лес.
– Так я ж стрелять из нее не умею.
– Беда научит.
– Алэ. Может, и так. Может, и научусь… – согласился Миссюра.
– А мне ж теперь что делать? – почесывая в затылке, спросил Егор Погорелец убитым голосом.
– Всем нам теперь, хлопцы, одна стежка – в лес! А оттуда с ружьями, а то и с топорами – на дорогу, на широкий шлях, встречать немчуру! – сказав это, бандурист ушел, словно растаял в ночной темноте…
* * *
Оляна до полуночи пробыла у Анны Вацлавовны. Одинаковое горе сблизило женщин, они долго советовались, что делать. Сначала хотели сразу же ехать на место боя. Но, немного успокоившись, рассудили, что ехать надо только Анне Вацлавовне. А Оляне ждать на месте. Ведь неизвестно, что произошло с Александром Федоровичем и Гришей после взрыва моста. Может, оба живы и скоро заявятся. А так как при немцах председателю райисполкома жить в Морочне будет невозможно, то решили, что Анне Вацлавовне с мальчишкой надо заранее уехать к родителям в Цумань. Игорек сейчас болен, везти его нельзя. Несколько дней надо пожить где-нибудь на хуторе.
Вдруг за окном хлопнула калитка, кто-то метнулся во двор. Женщины настороженно замолчали.
Вбежала Олеся и еще с порога выпалила:
– Надо скорее ехать к тому мосту, бандурист мне рассказал, как туда добраться. Они, говорит, наверняка остались живыми, только тяжело ранены.
– Может, лежат где-нибудь в лесу, с голоду умирают… – сквозь рыдания сказала Оляна.
– Олеся, подожди меня день-другой, поедем вместе сразу же, как выздоровеет Игорек, – попросила Анна Вацлавовна.
Возвратившись домой, Оляна увидела отца сидящим все на том же пне под грушей. Она уселась рядом и рассказала о сообщении Олеси и о том, что решили ехать. Отец кивком головы одобрил этот план, и оба надолго умолкли. Оляна тихо плакала, а Конон Захарович с ужасом смотрел в сторону Семиховичского леса, где небо, точно кровью, было залито пламенем сплошного пожара.
– И что оно там горит? – спросил он сам себя. – Даже днем не угасает, как геенна огненная.
– То ж там «новый порядок» начался, – глотая слезы, тихо ответила Оляна. – Антон говорил, что это у них так задумано: все спалить дотла, а потом запрячь нас, чтоб заново построили по немецкому плану.
– Сколько ж можно палить! Там уже и земля горит, не только то, что на ней, – покачал головой видавший виды старик. – Говорилось же в писании, что и земля сгорит, и небо свернется, как свиток…
От этих слов Оляна вздрогнула, как от внезапного озноба. Отец никогда не вспоминал о священном писании. А теперь все приводит примеры из библии. Начал верить в разные приметы да предзнаменования и даже в сны. Не к добру это. Ох, не к добру…
Сидели молча, словно боялись нарушить тревожную, напряженную тишину, которая установилась на селе вскоре после ухода бандуриста. Может быть, где-то по задворкам вот так же сидели и вздыхали, чего-то ждали. Но на улице не было слышно ни одного человеческого голоса, словно вся она была откуплена на ночь собаками, которые жутко и жалобно выли.
Через дорогу против дома деда Конона сидел огромный белый пес, еще при панах прозванный Барабаком. Поджав хвост и закинув голову к небу, Барабак смотрел на черно-кровавое зарево и тихо, не спеша завывал с каким-то зловещим подскуливанием, от которого по спине бежали холодные колючие мурашки и хотелось сжаться, превратиться во что-то незаметное. По временам Барабак умолкал, будто прислушивался. А потом, начиная с самой высокой ноты, завывал с еще горшей тоской и обидой.
Десятка два больших и маленьких собак скулили, подвывали, взвизгивали и позевывали на все лады. Если послушать за селом, то можно подумать, что все живое в Морочне вымерло и лишь собаки тянут последний, похоронный молебен.
Во двор вбежал Санько и, заметив сидящих под грушей, одним духом выпалил:
– Дедушка, надо экскаватор да канавокопатели прятать, завтра немцы нагрянут! Гириха готовит пир горой, фашистов встречать собирается: ребята в окно подсмотрели.
Дед Конон не успел ничего ответить: вдруг сразу все – и он сам, и Оляна, и Санько – повернулись в сторону Семиховичского леса, где в черном непроглядном небе вспыхнула ярко-красная ракета. На середине неба ракета замерла, словно раздумывала, куда упасть. Потом, описав дугу через всю Морочну, упала на Чертову дрягву.
– Немцы! – пересохшими губами прошептала Оляна.
– Немец в лесу? – ухмыльнулся дед Конон. – Он лесу боится, как черт ладана. Это только русскому лес – дом родной.
– А кто ж тогда? – спросил Санько.
– Наши, – доставая под стрехой лопату, спокойно ответил старик, – те, что отстали от своих частей. Пробираются глухими местами, и отряд отряду дорогу указывает ракетами. Это тут тихо, в селе. А в лесу что в твоем муравейнике. Целыми полками идут наши люди к фронту. В один кулак народ собирается, чтобы разом ударить. Не сидят же, как мы с тобой…
– А что мы можем против них? – приняв этот упрек и на свой счет, спросила Оляна.
Санько хотел было сказать, что он-то не сидит, что вместе с друзьями он кое-что уже сделал… Но раскрывать эту тайну нельзя даже деду Конону.
– Был бы с нами Александр Федорович, знали б что делать, – покачал головой дед. – Тот все знал, все видел наперед. – И, неожиданно вскинув лопату на плечо, Конон Захарович сказал дочери, чтобы шла в хату и о нем суток двое не беспокоилась.
– Куда ж вы на ночь глядя?
– На ночь глядя? – удивленно переспросил отец. – А дня теперь не скоро дождешься. Теперь над нами надолго повисла ночь. Лютая, черная ночь… Пойду экскаватор ховать…
– До экскаватора теперь?! – махнула Оляна. – Вон, говорят, заводы да электростанции разрушали, когда отступали. А вы с экскаватором!..
– Машину я тем иродам вшивым не отдам. Пока живу, не отдам. Я теперь главный ответчик за экскаватор.
– Что от него теперь толку, от того экскаватора?
– Э-э, сказано, баба! Что толку от экскаватора! Фашисты откуда пришли, туда и канут, а болото останется. И осушать его не сегодня, так завтра придется. А без машины… Ну, то я пошел…
– Подождите, хоть еды положу в торбу, – убегая в дом, сказала Оляна.
– Тогда и я с вами, – решительно заявил Санько.
– Беги собирайся! – согласился Конон Захарович и, обращаясь к Оляне, вышедшей с торбочкой, продолжал: – Электростанцию подорвали! А мне и экскаватора жалко не меньше. Ты еще не поняла, что то за машина. Э-э, дочка… Да осуши наши проклятущие болота, тут сразу другая жизнь пойдет. Вонючие постолы забудутся. Люди на горбу плуг перестанут таскать по болотам. За сеном по горло в воде не надо будет бродить… А она: «Не до экскаватора!» Кончится война, вернутся наши, с чего начинать? Нет! – Дед упрямо качнул головой. – Такую машину я тем проклятым иродам не отдам.
День стоял солнечный, с ветерком. Только бы молотить да веять. Но делать ничего не хотелось: руки не поднимались. Все казалось ненужным, чужим. Мужики, не попавшие по непригодности на фронт, слонялись по дворам, курили, вздыхали. Бабы прятались по задворкам, шушукались, рассказывали страшные сны, гадали на картах, все пытались узнать, придут сюда немцы или минуют их глухомань. И только ребятишки старались забраться как можно повыше, чтобы первыми заметить появление немцев. Одни карабкались на деревья. Другие сидели на крышах. А кучка самых отчаянных караулила мост, с которого далеко просматривается песчаная проселочная дорога на Пинск.
И вдруг в полдень вихрем пронесся по улице крик:
– Едут! Ее-е-ду-ут!
Кто-то изо всех сил ударил в церковные колокола. Кто-то во всю мочь начал бить в рельс возле пожарной будки.
С улицы всех словно вихрем смело. Попрятались не только собаки, но даже куры да свиньи. Лишь аисты по-прежнему спокойно стояли в гнездах или расхаживали по соломенным крышам хат.
Все, кто чувствовал себя неугодным новому порядку, поспешно уходили в лес. А оставшиеся, собрав ребятишек, попрятались по домам и следили за дорогой, на которой уже показались брички и черный трескучий мотоцикл, бегавший то вперед, то назад, как собака дворняжка.
Только дед Сибиряк спокойно сидел на своем пеньке под грушей и разговаривал с Оляной, которая боялась в такое время сидеть в хате одна и вышла к отцу «вместе встречать беду». А Конон Захарович теперь ничего не боялся. Экскаватор на понтоне они с Саньком загнали в глухую заводь Стохода, окруженную густым высоким лозняком да ольшаником. До осени, пока не облетят с лозы листья, никто не обнаружит драгоценную машину. А там будет видно. Если война затянется, придется разобрать и закопать по частям.
Под скрип немазаных колес тяжело груженных бричек, под усталое хеканье лошадей, под тихий шелест песка, струйками поднимавшегося за колесами, жирный, краснощекий немец беспечно наигрывал на губной гармошке веселый мотивчик.
Чужое, постылое до озноба в костях было в его музыке.
– Оляна, у тебя глаза получше. Глянь! Что оно там творится, напротив райкома, – сказал дед Конон, заметив возле палисадничка против большого деревянного дома стол, накрытый белой скатертью.
– Э-э, тату, так то ж Гиря! Так и есть, за столом Иван Гиря, а по ту сторону – старый Тарасюк.
– А нарядные! Такими шикарными я их не помню даже в кавалерах!
– Гиря бороду сбрил! – удивилась Оляна.
– А что там за турухтан [11]11
Турухтан – болотная птица, которая весной меняет оперение до неузнаваемости.
[Закрыть]во всем белом да еще и в шляпе?
– Да это ж секвестратор. И откуда его нечистая вынесла?! А постойте… – насторожилась Оляна. – Он, кажется, с буханкой хлеба идет навстречу немцам…
– Вот собака! – зло сплюнул дед Конон. – При Советах в банде ходил, а теперь, чего доброго, в начальство вылезет!
Пан Суета, расставив возле парадного стола Гирю и Тарасюка, взял накрытый вышитым полотняным рушником огромный каравай, поставил на него новенькую деревянную солонку, высоко перед собой поднял хлеб на вытянутых руках и понес. Шел он той же степенной, размеренной походкой, которой два года назад обходил Морочну с черной книгой под мышкой, собирая долги ясному пану. Но ему показалось, что идет он недостаточно почтительно, и он вдруг сбавил шаг, ниже опустил голову и теперь не просто шел, а священнодействовал, точно направлялся на поклонение святыне.
И все же не пан Суета первым встретил оккупантов. Старый аист с облезлой и красной, точно ошпаренной кипятком шеей, стоя в гнезде на заброшенной хате Савки Сюська, вдруг громко и скрипуче защелкал клювом прямо над головой проезжавших немцев.
С повозки раздался выстрел. Аист вскинул голову и, ломая крылья, клубком скатился с крыши в густую зеленую мураву.
Подводы двигались медленно. Лошади, запряженные парами, были в пене. Низко свесив головы, они едва волокли тяжело нагруженные телеги. На каждой из них поверх груза, прикрытого брезентом, сидело только по одному немцу. Возчики шли обок дороги, держа вожжи в руках и беспрерывно пощелкивая кнутами.
Невиданная капустно-зеленая форма, тусклые металлические черепа на пилотках и такие же нашивки на рукавах наводили страх.
– Это только разведка, – говорили старики, знавшие толк в военном деле. – Подождите, за ними придут и те, что расстреливают да палят…
Во дворах, мимо которых проезжали немцы, наступала гробовая тишина. А когда удалялся скрип подвод, люди облегченно крестились.
– Пронесло!
– Миновало!
– Может, еще как-нибудь уладится, обойдется, – успокаивали себя люди.
Наконец подводы, встреченные паном Суетой, остановились. Держа хлеб-соль в левой руке, пан Суета щеголевато пристукнул каблуками и козырнул по-польски, двумя пальцами. Потом низко, как баба в церкви, поклонился каждому немцу и передал хлеб-соль офицеру, все еще сидевшему на первой повозке. Молодой подтянутый гитлеровец соскочил на землю. Солонку бросил в бричку, а хлеб, ударив о колесо, разломил пополам и кинул лошадям. Двумя пальцами осторожно достал из кармана платок и вытер руки. Пан Суета сначала растерянно смотрел на хлеб, брошенный в пыль, к ногам лошадей. Но потом нашелся, поднял хлеб и сам стал кормить усталых, изголодавшихся лошадей. При этом он заискивающе смотрел на офицера, насильственно улыбался и приговаривал:
– Гут, гут, очень гут!
– Ну что? – злорадно кивнул дед Конон пану Суете, словно они стояли рядом. – Хлеб-соль? Встретил? Постой, они тебе еще не то покажут…
Немец закурил и махнул рукой. На первой бричке откинулся зеленый плащ, и на дорогу соскочил высокий, тонконогий и верткий парень в черном костюме. Щелкнув каблуками и франтовато вскинув руку к козырьку, он что-то сказал офицеру, и они направились к столу. Пан Суета рысцой трусил за ними, широким жестом указывая на стол.
– Это ж Сюсько! – сердито плюнул Конон Захарович.
– Да у меня и язык отнялся, как увидела… – приглушенно ответила Оляна. – Немцы ж не так страшны, как этот бугай. Он же все про нас знает. И откуда они берутся? То Барабак заявился, то секвестратор, а теперь и этот… Откуда они?
– Откуда ж! Из Чертовой дрягвы! – ответил Конон Захарович. – Видела, как та бомба вывернула из болота все нутро, всю гадость смердячую. Вот так и они выплывают, пузырями выскакивают.
Дед Конон молча глядел на суетившихся вокруг немцев Гирю, Тарасюка и пана Суету. А потом, словно себе самому, тихо, но уверенно сказал:
– Да не бойся, дочка, и за это смердячее болото люди возьмутся. Крепко возьмутся!..
* * *
– Шнель, швайнэ-рррайнэ! – громко, во все свое луженое горло гаркнул Сюсько, вбежав в коридор школы, из которой хлопцы выносили столы и парты, а девушки – книги, портреты, учебные пособия. – Через фюнф минутэн чтоб помещение было чисто! Доблестные немецкие солдаты будут тут пить шнапс! Бистро, швайнэ-рррайнэ! – подгонял Савка.
Ребята и так все делали бегом. А теперь носились вихрем. Но еще больше спешили девушки, потому что боялись остаться в школе без хлопцев.
Во всем черном, хорошо подогнанном, в лакированных сверкающих сапогах Сюсько пробежал по коридору, заглянул в каждый класс, где девчата мыли полы, и вышел на крыльцо школы.
Савка не поверил своим глазам: в школу с ведром воды шла Олеся.
Увидев Сюсько, девушка отпрянула было назад. Но тот встал на пороге. И она прижалась к косяку, держа ведро дрожащей рукой.
– Олеся? – вкрадчиво заговорил Савка. – Как ты живешь? А я думал, ты эвакуировалась вместе с комсомольским активом.
Девушка вздрогнула. Глаза сверкнули синим огнем из-под насупившихся широких бровей.
– Что ж, теперь мсти! Твоя власть…
– Олеся! За что ты меня так обижаешь? Я ж никогда тебе не делал зла. И не сделаю. Ей-боженьки! А что люблю тебя, так я ж не виноват.
– Как ты сумел так высоко подпрыгнуть, сразу в коменданты? – оставив без внимания его признание в любви, спросила Олеся.
– Это меня один большой немецкий начальник назначил, – важно ответил Сюсько.
– А ты что, от Гриши Багна убежал прямо в Германию и там жил?
– Почему в Германию? У Гитлера и тут давно были свои люди… – Спохватившись, что говорит лишнее, Савка закончил: – Да не об этом сейчас разговор…
– Пусти, мне надо пол мыть, – пытаясь пройти, промолвила Олеся.
– Пол! Чепухенция! Я прикажу – другие языком вылижут!
– Пусти, – уже смелее требовала Олеся. – А то ненароком оболью твои назеркаленные чоботы!
– Если говорить не хочешь, иди домой, отдыхай. Я не знал, что дурень десятник и тебя выгнал на эту грязную работу. Иди. Без тебя управятся. Сейчас я только прикажу другим, и…
– Не вздумай! – крикнула Олеся.
– Ну хорошо, хорошо, – Савка умиротворяюще махнул рукой. – Давай просто посидим, посмотрим друг на друга.
– А чего смотреть?
– Ну, мы ж давно не виделись. Я соскучился по тебе, Олеся. Ей-бо, соскучился…
Олеся, потупившись, молчала.
– Скажи, разве я нисколечко не изменился? Я ж теперь не такой, как был раньше! Правда?
Олеся понимала, Савке хотелось, чтобы она похвалила его за то, что он стал комендантом, что красиво одет, подтянут, молодцеват. Но Савка был ей постыл еще больше, чем прежде. Он, казалось ей, стал еще более мокрогубым, носатым. Белесые глаза навыкате еще нахальнее, а на лице появилось выражение беспощадности. Если раньше Савка всем угодливо улыбался, заискивал, по-собачьи покорно заглядывал в глаза, то теперь смотрел на все пренебрежительно и злорадно: «Наконец-то я до вас добрался. Теперь вы у меня попрыгаете!»
– Ну, я уже насмотрелась! Красивый, как турухтан!
– А я не насмотрелся. Давай сядем, – предложил Савка.
Воспользовавшись тем, что Савка уже не стоял на пути, Олеся схватила ведро и, не оглядываясь, быстро ушла.
– Ну, постой! – злобно процедил ей вслед Савка. – Ты у меня еще в ногах поваляешься!
«Теперь не даст проходу, – думала Олеся, начиная мыть пол в огромной комнате, бывшем пионерском уголке. – Надо вымыть поскорее и уйти вместе с девчатами, а то пропаду…»
Распахнулась и гулко хлопнула о стенку дверь. Вздрогнув, Олеся обернулась.
– Олеся, Савка книги палит! – заорал Санько с порога и бросился вон.
Олеся метнулась за ним.
На середине школьного двора лежала высокая, как добрая копна, куча книг. Савка и немецкий солдат брали по одной книге, поджигали и бросали на кучу.
– Что ты делаешь? – Олеся подбежала и выхватила из рук Сюсько горящий томик Пушкина.
Савка загоготал и отступил от вороха разгорающейся литературы.
– Хлопцы, девчата, воды! – крикнула Олеся. – Заливайте огонь!
Сюсько громко, с расстановкой сказал:
– Все большевистские книжки сгорят!
– Пушкин никогда не был большевистским!
– Я выполняю приказ шефа герр Гамерьера! – Сюсько вынул из кобуры пистолет и молча помахал им.
Закусив губу, Олеся с болью посмотрела на разгорающийся костер и, расплакавшись, убежала.
Пользуясь тем, что Олеся на время отвлекла Савку, Санько зашел с другой стороны двора и, подкравшись к костру, начал выхватывать из огня самые ценные книги. Скоро он набрал большую стопку. И вдруг взгляд его упал на книгу, по уголкам которой уже извивались красные змейки, а на середине обложки, еще не тронутой огнем, отчетливо, черными буквами было выбито одно только слово: «Спартак». Санько мгновенно вспомнил батрацкий барак, свою каморку, где при свете лучины, под визг пилы читал с ребятами эту книжку. И теперь ему показалось, что на глазах его горит не просто хорошо знакомая книга, а друг детства, верный, задушевный товарищ. Бросив подальше от огня спасенные книги, Санько прыгнул в огонь и выхватил любимую книгу. Выскочив из огня, он налетел на Савку, стоявшего с пистолетом в руке.
– Что за роман? – спросил Сюсько и протянул руку.
– Да так себе… – замялся Санько и спрятал книгу за пазуху.
– Дай сюда, швайнэ-рррайнэ! – повысил голос Сюсько.
Подошел немец с автоматом на груди, и Санько отдал книгу. Савка полистал обгоревшие страницы, бросил роман в огонь и приказал подростку:
– Доставай!
– Не полезу в огонь! – отказался Санько. – Очень разгорелось.
Сюсько подступил с пистолетом:
– Доставай! Швайнэ-рррайнэ!
– Сам загорюсь, – упорствовал Санько.
– А кто пел: «И в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим»? – заорал комендант и выстрелил над самым ухом паренька.
Санько присел на мгновение. Савка кивнул немцу. Тот его понял. Они внезапно схватили сопротивлявшегося Санька, один за руки, другой за ноги, и, раскачав, бросили в огонь.
Паренек упал в середину костра. Из школы с криком выскочила Олеся. Подбежав к пылающим книгам, она увидела клубок огня, выкатившийся из костра. Охваченный пламенем Санько побежал к школе. Навстречу выбежала Зося с полным ведром и окатила горящего парня. Но озверевший Савка подбежал к Саньку:
– Ты, комсомольская морда, еще сопротивляться?
Олеся ударила Савку по руке. Сюсько выронил пистолет. Схватив его, она повернулась к Саньку:
– Что стоишь, убегай! Иначе они убьют тебя.
Немец бросился наперерез пареньку. Но Зося успела распахнуть перед ним дверь школы:
– Беги в лес!
Немец выбежал на середину двора и поднял стрельбу.
Санько невредимый устремился к лесу. У опушки паслись лошади, среди которых он сразу же узнал Везувия. С разбегу Санько вскочил на мягкую спину любимого коня и, одной рукой держась за гриву, а другой похлопывая по крупу, галопом поскакал в лес…
Олеся из школы не пошла домой, а отправилась на хутор, где жила жена Моцака. И в ту же ночь они выехали на поиски Александра Федоровича и Гриши.
* * *
На селе было тихо. Ночь заходила с болота осторожно, нерешительно, словно чего-то боялась. Даже собаки, запертые в сараях, не выли, а лишь изредка чуть слышно поскуливали.
И в этой гнетущей тишине вдруг раздался оглушительный треск и грохот. Полуторавековая груша возле дома Конона Багно накренилась, подпиленная с двух сторон, задрожала всеми листочками, зашумела, как в осеннюю бурю, и тяжело рухнула поперек дороги. Дрогнули ближние хаты, будто разорвалось сердце села. Пыльный, навозом пахнущий ветер пошел по всей улице.
Дед Конон вогнал топор в свежий бледно-желтый пень, сел на толстый корявый комель поверженного дерева и заплакал. Крутой нравом дед Сибиряк, который даже не стонал под шомполами врагов и пережил столько, что другому хватило бы на три века, безутешно плакал…
Жалко было спиленного дерева. Но сильнее жалости была обида, что на старости пришлось выполнять «срочный приказ» какого-то мокрогубого Сюсько, которому за каждым деревом, за каждым кустом мерещился красный. Подперев голову кулаком, старик задумался и не замечал, что слезы текут по кулаку и падают на свежие, чуть желтеющие в вечерней темноте душистые, теплые щепки.
Грушу эту посадил прадед Конона Захаровича, заблудившийся в болотах во время войны с Наполеоном. Рассказывал когда-то отец Конона, что прадед был отчаянным воякой. Погнался он с отрядом партизан за французскими солдатами, настиг их в Пинских болотах, перебил. Но и сами партизаны полегли в бою. Остался в живых только он. Да и то заблудился в топях, закружили его болотные огоньки, заморочили. Кое-как добрался до леса. Срубил себе хату и зажил отшельником. Питался дичью, рыбой да грибами. А от запасов провианта отряда осталась только сушеная груша. Долго берег ее как единственную память о матери, снарядившей его в далекий поход. Потом закопал грушу в землю перед своим куренем да и забыл. И только через два года заметил три стройных молодых деревца. Потом нашел на болотах таких же, как и сам, отшельников, спасавшихся в коргах от барского гнева. Разжился у них семян ржи. Начал расчищать лес, сеять, завел скотину. Узнав его историю, соседи и прозвали его замороченным. Со временем вокруг одинокой хатки выросло село, и его стали называть то Морокой, то Морочной.
Много видела и слышала эта груша. И рассказала бы еще очень много… Но теперь ее листья никогда не прозвенят тонким серебряным звоном, и никому она больше ничего не нашепчет…
«Был бы моложе хоть на пять лет! – думал Багно. – Разве сидел дома… Только ж не вернешь былую силу. Не вернешь…»
* * *
Утром все заборы в центре села были заклеены приказами коменданта полиции Морочанского района Сюсько и распоряжениями головы районной управы Иакова Шелепа. (Люди не скоро поняли, что Шелеп – фамилия пана Суеты.) Приказов и распоряжений было столько, что народ терялся в догадках, с чего начинать. Да и трудно в этом было разобраться, так как на каждой бумажке стояло грозное предупреждение: «За невыполнение – расстрел».
А в середине дня всех морочан согнали в парк, на площадку, где прежде был пионерский лагерь и сохранилась еще трибуна. Перед трибуной, на самой середине широкого зеленого поля, плотники под наблюдением немца-автоматчика строили виселицу. Народ, согнанный на это зрелище, молча, с ужасом глядел на высокую, громадную, рассчитанную на несколько человек сосновую виселицу.
На трибуне долгое время топтался только голова районной управы Шелеп. Глядя себе под ноги, он неторопливо расхаживал взад и вперед.
В парк быстрым маршем вошли немцы и отряд полицейских во главе с Сюсько.
Кто-то спросил, с удивлением глядя на здоровенных, как на подбор, красномордых полицаев:








