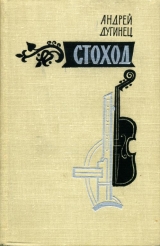
Текст книги "Стоход"
Автор книги: Андрей Дугинец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
– Откуда их нагнали?
– Что, не видишь? Свои, больше все хуторские, – ответил другой. – Повылезали из уголовных тюрем да лесных корчей…
И начал вслух называть имена кулацких сынков да уголовников, ставших полицейскими.
– Вон Левка Гиря.
– А это ж сынок Тарасюка.
– А тех ворюг, видно, прямо из тюрьмы да в полицию!
– Целая банда!
– Ну, мужики, теперь держитесь! Зажмут нам дых!
На трибуну вбежал немецкий офицер. Высокий, тонконогий, как аист, он молодцевато повернулся на одних носках, еще больше вытянул свою длинную шею и посмотрел на людей так, словно ледяной водой окатил. И вдруг закричал, зачастил на своем, никому здесь не понятном языке.
Что он хотел сказать своим криком, люди не знали, но, судя по его порывистым, злобным жестам, решили, что он всех гонит к виселице, и отхлынули, попятились. Брызгая слюной и размахивая руками, фашист закричал еще свирепее. Кое-кто начал уже прятаться за деревьями. Тогда немец умолк и пальцем подозвал Шелепа, стоявшего теперь на лестнице трибуны. Пан голова, немного понимавший по-немецки, внимательно выслушал шефа и, встав на его месте, заговорил:
– Суетный народ! Чего вы шарахаетесь, как дикие овцы! Пан шеф вас приветствует, а вы…
– Вот так привет! – пробасил кто-то из толпы. – Чего ж он все время руками на виселицу показывает?!
– Господин ясный пан, наш шеф полиции, герр Гамерьер рассказывал вам о мужестве армии фюрера, – продолжал Шелеп. – Он говорил, что вы должны теперь честно трудиться за то, что армия фюрера освободила вас. – Услышав удивленный гул морочан, Шелеп возвысил голос и по слогам повторил: – Да, да! Ос-во-бо-ди-ла! Навсегда освободила от красной большевистской заразы! – И, преисполненный самодовольства, не спеша сошел с трибуны.
Некоторое время трибуна оставалась пустой. Люди терпеливо ждали, что будет дальше, в страхе косились на виселицу и невольно втягивали голову в плечи, будто бы уже ощущали на голой шее готовую затянуться петлю. И вдруг по рассохшимся за лето, скрипящим ступенькам на трибуну вбежал Сюсько. Он явно подражал Гамерьеру: так же вытягивал и без того длинную шею, так же молодцевато вертелся на острых носках сверкающих сапожек и даже точно так, как шеф, притопывал ногой, когда стоял на месте. Когда он подошел к перилам трибуны, народ шарахнулся назад: всем показалось, что бывший графский десятник сейчас, как когда-то, гаркнет во всю свою широкую, луженую глотку: «На шаррваррок! На шаррваррок!»
Во всю силу своего трубного баса Сюсько с радостью, словно сообщал долгожданную весть, закричал:
– Волею фюррерра! Мне! Дадена! Власть! Каррать! – Звук «р» остался для Сюсько по-прежнему самым любимым, и произносил он его с особым смаком: «Карррать!» – Объявляю военное положение в селе и за селом. Всякий, кто появится на улице раньше восьми часов утра или позже шести вечера, будет ррасстрелян! Запрещаю кормить беглых красноармейцев. За нарушение – ррасстррел! Требую сообщать мне, где скрываются советские активисты! За нарушение – ррасстррел! Завтра с каждого двора привести по корове и сдать по пятьдесят пудов хлеба. За нарушение – ррасстррел!
По толпе прошел глухой ропот. Кто-то несмело, но все же вслух спросил:
– Где же их взять, пятьдесят пудов?
Но Сюсько продолжал:
– Тем, кто в тысяча девятьсот тридцать девятом году, когда пришли Советы, взял из имения графа Жестовского корову или лошадь, немедленно сдать скот в районную управу.
– За нарушение – расстрел! – подсказал кто-то из толпы.
Савка с радостной улыбкой подтвердил:
– Да! Угадал! За нарушение – ррасстррел! Марфе Козолуповой приказываю за три дня найти своего сына Санька, убежавшего в лес, и привести в комендатуру. Заложниками оставляю всех ее детей и старую мать. Если приказ не будет выполнен, вся семья и сама Козолупиха будут расстреляны. Где-то на хуторах скрывается Антон Миссюра, который позавчера застрелил временно исполняющего обязанности коменданта полиции Барабака. За живого или мертвого Антона Миссюру объявляю награду десять тысяч рублей и лесу на новый дом!
В это время полицейские приволокли маленького, избитого до черноты, окровавленного старика. Морочане не сразу узнали в этом изувеченном человеке бандуриста, приходившего недавно в село. Бандуриста выволокли на трибуну и черно-синим, распухшим от побоев лицом повернули к народу.
– Это красный агитатор! – ткнул пальцем в сторону старика Сюсько. – И всем вам нужно поступать так, как поступил пан Шелеп, верный слуга фюрера. Еще в тот вечер, когда вы, развесив уши, слушали брехню этого большевистского шпиона, Яков Германович заманил его на хутор, связал и держал до прихода немецкой власти. Он знал, что без награды его не оставят!
– Да, такой иуда не просчитается! – приглушенно выкрикнул кто-то в толпе.
Савка приподнялся на носках, стараясь найти смельчака. Но все стояли молча, не шевелясь, и он продолжал:
– Не смотрите, что бандурист тот старый. Это злейший враг великой Германии. Он ходил по селам и распускал басни, что Красная Армия скоро вернется. А этому никогда не бывать! И вы это должны твердо помнить.
По бесстрастным, замкнутым лицам односельчан Савка не понял, разделяют они его веру в гибель Красной Армии или нет.
– Им-менем фюррерра красный агитатор Иван Дубовик приговорен к смертной казни и будет повешен.
Дед Конон, стоявший в гуще народа, печально покачав головой, сказал:
– Бандуристы всегда, во всех войнах и бунтах, первыми ложились на плаху!
Сюсько начал о чем-то шептаться с шефом. А бандурист тем временем прислонился к перилам трибуны и, с трудом превозмогая одышку, быстро заговорил:
– Люди добрые! Я слышу звон, страшный звон железа. То ворог кует вам кандалы!..
Толпа, потеснив немцев и полицейских, придвинулась к трибуне. Сюсько подбежал к бандуристу и наотмашь ударил его. Старик упал. Но, и лежачий, пытался еще что-то сказать. Тогда Сюсько заткнул ему рот носовым платком. Два полицейских подхватили под руки обреченного и поволокли сквозь густую толпу к виселице.
Народ стеной двинулся следом.
Поднялся шум, крик. Кто-то изловчившись, выхватил платок изо рта старика.
– Не давайтесь! – неожиданно громко, видимо уже из последних сил, закричал бандурист. – Не давайтесь заковать вас в кандалы! Люди! Не давайтесь!
* * *
– Гонят?
– Уже гонят?
На этот вопрос никто не отвечал, хотя задавали его все, кто приходил на околицу, к старым покореженным соснам, откуда проселочная дорога видна до самого леса.
Весть о том, что через Морочну прогонят колонну пленных, а вместе с ними и тех, кто попал под руку, показался подозрительным, дошла до морочан еще утром, и люди готовились к этому, словно к стихийному бедствию.
И вот из лесу выкатилась сначала небольшая тучка пыли…
К толпе женщин и ребятишек, собравшихся возле крайней хаты, подошел Конон Багно. Молча поставил корзину с едой на придорожную мураву и, глядя вдаль, за село, где на неширокой проселочной дороге все увеличивалась серая тучка пыли, как бы сам себе, тихо сказал:
– В Вульке бондарь вернулся из Красной Армии. Тоже в окружение попал. Весь израненный, только счет, что человек. Вместо рук – култышки. А вот же говорит, остановили фашиста.
– Все-таки остановили?
– Остановили! – теперь уже твердо, будто сам видел, заверил Конон Захарович. – Где-то сразу за Минском и остановили.
– Только бы остановили! – с угрозой кивнула крепко слаженная, по-мужицки устойчивая на ногах женщина. – Абы уперлись покрепче, а там и назад погонят! – Она уверенно махнула своим громадным, как у молотобойца, кулачищем.
– Погонят… – скептически вздохнула маленькая, не по летам сморщенная женщина. – Вон, гонят…
– На войне без этого не бывает! – устало глянул на нее грустными глазами дед Конон. – На войне всякому своя доля. Одному – быть убитым. Другому – раненым. Третьему – в плену настрадаться. А у кого храбрость да счастье на роду, глядишь еще и с наградой домой вернется.
Низко, над самыми крышами пролетел громадный фашистский бомбардировщик. Но никто не обратил на него внимания: все смотрели на приближавшуюся запыленную толпу измученных, полуживых людей. Еще не видно было ни лиц пленных, ни их неперевязанных ран, не слышно было стонов раненых, но оттуда, как от пожарища, веяло ужасом. Там муки, страдания, смерть…
Впереди на повозке стоял станковый пулемет, нацеленный на колонну пленных. По обочинам дороги, один от другого метрах в пяти, шли немцы с винтовками наперевес. Ножевые штыки холодно поблескивали на жгучем, полуденном солнце. Пленные шли колонной по восемь во всю ширину дороги, тощие, оборванные, израненные.
Не лица, изможденные, заросшие и черные, не руки и ноги, грязные, потрескавшиеся от жары, а пропитанные кровью бинты бросались в глаза морочанам, со слезами смотревшим на это шествие.
Первыми навстречу колонне выбежали, конечно, ребятишки. Каждый старался отдать раненым то, что припас, что сам не съел за обедом или тайком утащил со стола или с огорода. За детьми бросились женщины, старики.
Немцы не подпускали посторонних к пленным, и людям все приходилось бросать через поблескивающие каски и штыки. Изголодавшиеся пленные хватали еду на лету, подбирали с пыльной дороги и тут же съедали, вернее, проглатывали в один миг. Но еще с большей жадностью они набрасывались на воду. Сплошным тяжелым стоном, точно в жгучих Кара-Кумах, неслось по селу:
– Воды!
– Воды!
– Воды!
Люди бежали с полными ведрами. Но передать их через головы конвоиров, как еду, не было возможности. Пленные, пренебрегая опасностью, сквозь штыки лезли к ведрам. Одни тут же, под ударами прикладов, жадно пили, другие, схватив ведро, бежали в строй, к товарищам.
И только два человека не бросились ни к воде, ни к еде. Они шли низко опустив головы и угрюмо смотрели себе под ноги. Это были Александр Федорович Моцак и Григорий Крук.
Война застала их недалеко от Лунинца. Автомобиль, на котором они ехали, был мобилизован для эвакуации больных.
Моцак и Крук пешком возвращались в родные места. Но при переходе речки решили помочь красноармейцам защищать мост, пока эвакуируется детдом…
Бандурист рассказал все как было, он не знал только, что взрывной волной Моцака контузило и Гриша просидел возле него целую ночь, стараясь привести в сознание. А утром пришли немецкие саперы наводить мост и угнали обоих русских в лагерь для пленных.
На второй же день в лагере стало известно, что колонну погонят в Картуз-Березу. Гриша и Александр Федорович решили по дороге бежать. Когда же миновали Волчицы, они поняли, что пойдут через Морочну и совсем воспрянули духом: уж в родном-то селе их выручат из неволи.
Но все их надежды рухнули, как только вошли в Морочну. Первым, кого они увидели, был Савка Сюсько.
В черной щегольской форме полицейского офицера Сюсько стоял на высоком крыльце школы. Над головой его тяжело и зловеще колыхался фашистский флаг со свастикой.
– Пане коменданте! – громко обратился подбежавший к Савке хорошо знакомый Грише парень из Мутвицы, теперь тоже ставший полицейским.
– Пане коменданте?! – повторил про себя Гриша и поспешно натянул на глаза черный рукав, которым была повязана рана на голове, спрятал под полу пиджака скрипку, замотанную в тряпицу. Когда миновали опасное место, Гриша стал посматривать по сторонам, надеясь увидеть деда, мать, Олесю. Он и хотел увидеть их, и боялся, что невольным возгласом они выдадут его да и себе навредят. Сюсько, если узнает, что Гриша идет в этой колонне, тут же выдаст его немцам.
Из переулка выскочил коренастый, черноголовый мальчуган лет девяти, сын Александра Федоровича Моцака.
– Игорек! Куда ты? Вернись! – закричали женщины.
Мальчуган ловко прошмыгнул под штыком конвоира и, отдав ведро высокому костлявому юноше, который поддерживал пожилого раненого командира, бросился назад. Наперерез ему выбежал конвоир, которого он только что обманул. Немец с размаху ударил мальчишку прикладом по спине, и тот, даже не вскрикнув, ничком упал в дорожную пыль. Мальчишку подхватили женщины и понесли навстречу еще ничего не знавшей Анне Вацлавовне…
Не увидел этого и Александр Федорович, шедший далеко впереди.
Раненый, которого вел высокий костлявый юноша, поднял с дороги булыжник и выскочил из колонны.
– Зайцев, остановись! – крикнул кто-то из строя. – Товарищ батальонный комиссар, назад!
Но тот шел все быстрей и быстрей, как в последнюю смертную атаку. И вдруг изо всех сил ударил камнем по каске конвоира, убившего мальчишку. Грузно осев, немец глубоко вогнал в землю старательно отточенный, сверкающий штык. Сразу трое фашистов бросились на комиссара. Один с разбега вонзил ему штык под лопатку. Другой уже целился в Зайцева. Но подбежавший молодой щеголеватый офицер оттолкнул солдата, крикнув, что сейчас застрелить этого русского – все равно что помиловать. Пусть идет, пока не подохнет. Пусть мучается. Не давать ему ни воды, ни еды. На каждой остановке бить, бить, бить!
Высокий костлявый юноша, не обращая внимания на озверевших конвоиров, подошел к комиссару, поднял и с трудом поволок в колонну. Зайцев, прикрывая рану рукой, судорожно, рывками хватал воздух. Офицер догнал их и приказал:
– Бандыт айне пошель! Айне!
Но боец делал вид, что ничего не понимает. Тогда офицер не спеша вынул пистолет и выстрелил юноше в затылок.
Дед Конон видел все это: сам того не замечая, давно уже шел рядом с колонной. Зачем он шел? Куда? Он и сам не знал. Но шел не только он. Половина жителей Морочны, как за похоронной процессией, тянулась за пленными по обочине дороги.
– Дедушка Конон! Дедушка! – вдруг долетел до слуха Конона Захаровича приглушенный голос.
Оглянулся – сзади только женщины да дети. А голос был мужской.
– Дедушка! – еще громче послышалось теперь уже рядом.
Конон Захарович остановился.
– Сюда, сюда! – услышал он и одновременно увидел над головами пленных взмах руки.
Махал паренек невысокого роста с черным бинтом на голове, в изодранной, выцветшей гимнастерке.
Окончательно узнанный родной голос словно толкнул деда Конона, и он изо всех сил, какие только были в его старых ногах, рванулся к внуку.
– Гриша! Гриша! Да что ж это такое! Боже ж мой! – Дед пристал к конвоиру. – Пан, пан! Там мой внучек, хлопчик, совсем еще хлопчик. Не солдат.
Растерянным, жалким, беспомощным, как нищий, впервые просящий подаяние, был в ту минуту Конон Захарович – гордый, никогда ни перед кем не унижавшийся Сибиряк.
Гриша замахал деду, шедшему рядом с конвоиром:
– Дедушка! Никому не говорите, что видели меня: у вас же там Сюсько.
– Так, так! Сюсько теперь за главного. Теперь ему на глаза не показывайся. То ты умно решил. Только ж куда тебя гонят? Как ты будешь?
– Да вы за меня не бойтесь. Нас ведут на работу. Дедушка, а где мама?
– Дома. Она дома.
– Не говорите ей, что видели таким. А то убиваться будет.
– Да уж помолчу. А ты не знаешь, куда вас? В неметчину?
– Нет. Нас ведут в Картуз-Березу. Там теперь лагерь.
Как сказал он про Картуз-Березу, дед так и сел в канаву возле дороги.
Старик не видел односельчан, окруживших его, и не слышал, что они ему говорили: в ушах, как тяжелые удары колокола, гудело: «В Картуз-Березу! В Картуз-Березу!»
* * *
К концу дня Гриша так устал, что, казалось, вот-вот упадет. Он так обессилел, что уже не мог помогать совсем ослабевшему Александру Федоровичу, и того вели под руки матросы Пинской флотилии. Гриша все отставал и отставал, получая за это удары и толчки прикладами. Он не обратил внимания даже на громкие, нараставшие с конца колонны окрики конвоиров и очнулся только от чересчур сильного удара прикладом по плечу. Оказывается, вся колонна уже подалась вправо, на обочину, уступая кому-то дорогу. Кому, Грише было не интересно. Он даже не оглянулся. Понуро вошел в колонну. Шедший впереди красноармеец в замасленных штанах, видно шофер, воскликнул:
– Эх ты, какой шикарный «оппель-капитан»! Видать, важная шкура едет!
Гриша оглянулся. И невольно вскрикнул:
– Иван Петрович!
В роскошной открытой машине рядом с шофером сидел Иван Петрович Волгин с неразлучной трубкой в зубах. Это был он, Гриша не мог ошибиться. Но странно, Волгин даже головы не повернул, только сильнее пыхнул трубкой. Да и понятно – ему было не до разговоров. За спиной у него сидели два фашиста с автоматами наизготовку и офицер с жирной шеей, показавшейся Грише толще самого лица. А следом надсадно ревели два грузовика с солдатами.
– Знакомый? – удивленно спросил тот красноармеец, который первым обратил внимание на «оппель-капитана».
– Наш, морочанский. Крысоловом зовут, – недоуменно глядя вслед промчавшимся машинам, сказал Гриша и вкратце рассказал о Волгине, о том, как Иван Петрович спасал председателя райисполкома, когда тот был еще учителем, что теперь и он тоже здесь, в их колонне.
– Ну тогда ты вот что, малый, – выслушав его, сказал шофер, – председателю молчи про Крысолова… Его, конечно, стукнут. Таких они истребляют подчистую. Не смотри, что увезли на такой шикарной машине. Все равно замучают…
Гриша совсем приуныл: собирался рассказать Моцаку обо всем. Но теперь понял, что это было бы опрометчиво. Александру Федоровичу и своей беды хватает: сам еле-еле идет, да и об Анне Вацлавовне с Игорьком думает. Он их в Морочне не увидел.
Волгин слышал, как из колонны пленных его окликнули по имени, которое он носил около двадцати лет. Но теперь его никто не интересовал в этой стране, прошлое осталось за колесами автомобиля. И если он когда-нибудь сюда вернется, так только хозяином этих лесов, рек и озер. И не Иваном Петровичем, не Крысоловом, а Иоганном Бергером.
Тихая, лунная ночь над Морочной. Ни говора людского, ни крика петухов, ни лая собак. Только где-то возле комендатуры пьяно, нестройно поют немцы.
Санько бесшумно полз на четвереньках по картофелищу своего огорода. И удивлялся, что молчат даже собаки, которые последние полмесяца не умолкали ни днем ни ночью. Неужели всех перестреляли? А может, в селе никого не осталось в живых и хозяйничают здесь только эти пьяные немцы…
Целую неделю бродил Санько по лесу вдали от родного села, ночевал в стожках, в копнах сена. Боялся даже идти в домик на понтоне. Наконец не выдержал, решил навестить мать и ребятишек. И вот крадется к родному дому, как вор. Идти во весь рост нельзя: при луне далеко видно. Санько неслышно ступает на рыхлую, руками матери возделанную землю, а сердце стучит так, что в ушах отдается, как тяжелый топот конских копыт.
Вот и сарай. Запах прелого камыша, накошенного еще зимой и сложенного под сараем, запах родного двора. Чужие дворы не так пахнут. В них неуютно и всегда чего-то не хватает. А в родном дворе, как и в самом доме, стоит особый, на всю жизнь запоминающийся запах. Почти не остерегаясь, Санько выбежал из огорода и встал под стрехой сарая, в тени. Но здесь к знакомому запаху двора примешалось что-то другое, чуждое, непривычное. Со двора потянуло гарью. Тревожно защекотало ноздри, когда новый порыв ветерка принес кисловато-горький запах. Санько высунулся из-за угла сарая, посмотрел на освещенный луной двор и подумал, что заблудился: двор перед ним был чужой, незнакомый. В правом углу, там, где стояла хата, чернела какая-то огромная куча. А над этой кучей склонилась почерневшая верба, у которой вместо тяжелых раскидистых ветвей торчали в небо короткие, покореженные сучья.
– Ма-а-ма! – приглушенно позвал Санько.
– Саня, Санек! – тихо и нежно послышалось в ответ откуда-то из-за соседнего сарайчика.
Санько сбежал с пепелища на середину двора, ярко освещенного луной.
– Сынок, иди сюда, – послышалось снова.
Санько вздрогнул: это звала не мать. Но голос был такой душевный и ласковый, что Санько невольно пошел на него.
В тени старого соседского сарайчика его без слов обняли теплые женские руки. Он покорно прильнул, еще не зная к кому. И, чувствуя, что женщина плачет, тоже безудержно заплакал. И не по лицу, которого не было видно, не по натруженным шершавым пальцам, лежавшим у него на щеках, а внутренним чутьем узнал он мать своего друга.
– Тетя Оляна! Где же они?
– В хате… – чуть слышно прошептала Оляна, глотая слезы. – В хате. Это Сюсько. Загнал всех в хату, старух, детей. Двери, окна забил. А потом… – Слезы не дали ей досказать, и она одними губами прошептала: – Подпалил…
– А где ж были люди! – скорее простонал, чем закричал Санько. – Почему не тушили?!
– Были тут и люди. Всю Морочну согнали полицейские. Только тушить не дали: кругом с автоматами стояли, а на середине двора пулемет выставили. Коля был на рыбалке. Вернулся, когда хата уже вся занялась. Савка с Левкой схватили его один за руки, другой за ноги, раскачали и бросили в окно, прямо в огонь…
Санько больше ни о чем не спрашивал, да и не в силах был спрашивать… Оляна что-то ему говорила, о чем-то предупреждала, куда-то посылала. Но все это шло мимо его сознания.
Тихо, теперь уже не таясь, Санько подошел к пепелищу и вздрогнул: почудилось, что там застонала мать. Не соображая, что делает, быстро направился на улицу. Но сильным рывком Оляна удержала его.
– Не ходи туда. Погибнешь. Один ты против них, как жаба против быка. Иди в лес. Там теперь много таких, как ты. У них оружие…
Санько, понурив голову, долго молчал. Наконец тихо, угрюмо ответил:
– Искал. Никого нету в лесу.
Оляна глянула вдоль улицы, залитой туманом, и шепнула в самое ухо:
– К графскому озеру иди. Туда красноармейцы никого не пускают. Значит, что-то есть…
– А вы ж чего тут в полночь? – спохватился Санько.
– Я ж знала, что ты придешь домой… Да и за Гришу боюсь. Вернется, а не знает, что тут Сюсько хозяйничает.
– То правда. Этот гад не помилует. – И Санько, стиснув зубы, поклялся: – Ну я ему долго хозяйничать не дам!
– Только не связывайся один. Убьет!
– Меня теперь ни огонь, ни пуля не возьмут, пока не отомщу!
Из села Санько возвращался тоже огородом. Но уже не пригибаясь, не таясь. В конце своего огорода остановился и долго смотрел на обожженную вербу, выглядывавшую из-за сарайчика. Смотрел на черные, поднятые к безучастной луне обгорелые ветви, и ему казалось, что это не дерево, а руки матери. Из-под кучи тяжелого пепла, из-под обуглившихся бревен сгоревшей хаты она подняла руку со сведенными судорогой пальцами и то ли молилась, прося у неба жалости, то ли проклинала убийц.
Санько, глубоко засунув руки в карманы и сцепив зубы так, что они заскрипели, с лютой злобой посмотрел туда, где волчьим глазом светился желтый огонь и по-прежнему раздавались пьяные выкрики немцев.
На опушке леса он опять оглянулся. Село утопало в сизом тумане, над которым одиноко плыла полная холодная луна. И снова, как наяву, Санько увидел руку матери, поднятую над селом. Она взывала к мести…
* * *
Тяжело, бессильно повисли руки. Устало, безнадежно опущена голова. В ней звон, тихий, монотонный, в висках, в затылке, в ушах. Лишь ноги с огромным трудом, словно на разбитых кирзовых сапогах налипло по пуду грязи, шаг за шагом отмеривают километры, десятки, сотни, а может, уже и тысячи километров – так бесконечен и горек этот путь.
Тупо, бесцельно смотрел Гриша на зеленый солдатский котелок, болтавшийся на поясе за спиной бредущего впереди тяжело раненного комиссара Зайцева. Всю дорогу этот надоедливо тренькающий, монотонно, как маятник, раскачивающийся котелок раздражал Гришу.
Можно было перейти в другой ряд колонны или поменяться с соседом местом. Но на это требовалось лишнее усилие, а главное – желание. Но желаний, кроме желания есть, не было.
Шедшие рядом товарищи хотя с трудом ворочали языком, но упрямо, всю дорогу спорили о политике, о войне, выясняли причины, почему фашистам удалось так быстро прорваться в глубь нашей страны…
Когда человек устает от одной день и ночь угнетающей его мысли, когда в голове его начинает гудеть от кошмарных видений, он теряет способность думать о чем-либо важном и все его внимание сосредоточивается на чем-нибудь совершенно ненужном, незначительном. Так и Гриша не в силах был думать о том, о чем спорили окружавшие его товарищи. Случилось это с ним после Морочны, когда он потерял надежду на спасение.
Можно было бы попытаться бежать. Но Александр Федорович был слишком слаб, а оставить его одного Гриша не хотел да и не мог. Поправиться же в этих условиях Моцак едва ли сможет. Да и куда бежать? В родном селе теперь появляться им нельзя. Ведь Савка обязательно отомстит матери, деду, Анне Вацлавовне. Безысходность положения стала исподволь размагничивать подростка, выматывать его последние силы.
И вот уже который день Гриша плелся в колонне, не способный ни о чем думать, ничего желать. Лишь изредка вкрадывались воспоминания о прошлом, о матери с дедом, об Олесе, об учебе. Но все это заглушалось надоедливым треньканьем солдатского котелка.
И вероятно, как раздражал Гришу котелок, так шедшего позади него старого усатого солдата раздражал черный футляр со скрипкой, что висел за спиной паренька. Усатый в конце концов не выдержал:
– Сам еле скрипит, а несет скрипку… Кому собираешься на ней играть?
– Тебе! – обернувшись, ответил Зайцев. – Тебе сыграет, если поумнеешь да надумаешь жить.
Усатый ничего не возразил, только безнадежно махнул рукой:
– До музыки ли теперь…
– Да-а, – соглашаясь с ним, тяжело вздохнул седой интеллигентный человек лет пятидесяти, шедший рядом с Гришей. – Когда гремят пушки, музы молчат…
– Но вам, товарищ доктор, – с расстановкой, отдыхая после каждого слова, заговорил комиссар, – должно быть известно и другое: ни одна революция не обходилась без музыкантов, а на Украине ни одна освободительная война не проходила без кобзарей. Музыка дух поднимает… Мы сейчас бессильны: безоружны. А он один во всей колонне не бросил своего оружия!
Колонна вошла в лес. И у многих загорелись глаза жаждой побега.
Дикий, буйный и какой-то зажигающий взгляд бывает у человека, решившегося бежать из неволи. Что-то степное, тревожное и радостное появляется в его лице, как бы он ни был изнурен и замучен. Посмотришь на такое лицо и сам невольно станешь сильным, решительным.
Шедший рядом с Гришей высокий белобрысый боец давно порывался бежать. Но каждый раз ему что-то мешало… И все же настал его час.
Как только вошли в лес, конвойные взяли винтовки наизготовку. Старший передал по колонне, что за каждого бежавшего будет расстреливать десяток. Этим он хотел добиться, чтобы пленные сами удерживали беглецов. Но такая угроза уже давно потеряла силу. Пленные не только не удерживали тех, кто еще имел силы бежать, но, наоборот, радовались каждому удачному побегу.
Белоголовый передал Грише свою сумку от противогаза, в которой остались хлебные крошки и вполне съедобные картофельные очистки. Высоко вытянув шею и неотрывно глядя в густую зелень леса, он жадно докуривал цигарку, которая уже обжигала руки и губы, когда затягивался. Но бросать ее было еще рано. Бросить ее можно только как сигнал к прыжку.
– Братцы, не поминайте лихом! Буду жив – за всех отомщу паразитам! – прошептал белобрысый. И тут же цигарка его, описав дугу через головы товарищей, полетела направо в кювет, а сам он метнулся в другую сторону.
Едва ли здоровый, сытый человек смог бы так быстро, так ловко бежать, как этот измученный долгой дорогой, изнуренный голодом и жаждой, искалеченный до полусмерти, но почуявший дыхание воли, услышавший могучий зов свободы, воскресший человек!
Он промчался прямо за спиной только что прошедшего конвоира. Услышав его топот, немец повернулся, вскинул винтовку, но целиться уже было поздно: густая темно-зеленая листва сомкнулась за плечами беглеца. Пока конвоир стрелял вслед убежавшему, впереди в образовавшуюся безнадзорную прореху рванулось сразу человек десять. Охрана открыла беспорядочную стрельбу по беглецам…
* * *
Вот она Береза Картузская! Двухэтажные казармы за высокой кирпичной стеной. Красный кирпич почернел от времени, и стены кажутся закопченными.
Здесь белополяки мучили деда. Здесь, на сыром цементном полу карцера, получил чахотку и умер, не выходя на волю, отец Гриши. Побывал тут и Александр Федорович Моцак.
И вот судьба привела сюда и Григория Крука.
Видно, никуда ты, полешук, не уйдешь от нее, как от судьбы, от этой бессчетно раз проклятой Березы Картузской.
Так будет, вероятно, до тех пор, пока ее не превратят в музей или груду развалин.
Огромные железные ворота распахнулись с душераздирающим скрежетом. Навстречу пленным выскочила добрая сотня на подбор здоровых, откормленных тюремщиков. За плечом у каждого – автомат, в руке – черная резиновая дубинка. Тюремщики встретили пленных ударами дубинок и громкими, гортанными криками: «Вэк! Вэк!»
Смысл этого окрика пленные уже хорошо усвоили еще в пути и шарахались от него, зная, что за ним обязательно последует удар.
Пленные под градом ударов бежали сквозь строй тюремщиков и расходились по огромному пустому двору, заросшему цветущей ромашкой.
Вбежав в ворота и получив жгучий, пронзивший все тело удар тяжелой резиновой дубинкой, Гриша почти потерял сознание, хотя и продолжал бежать.
Каким-то лютым, давно знакомым кошмаром повеяло от всего, что он сейчас видел и ощущал. Когда-то его уже били вот так же резиновыми дубинками, так же кричали и гнали все вперед и вперед. Лишь остановившись на середине двора, возле главной казармы, Гриша вспомнил, что все это было не с ним самим, а с его учителем. Это он, Александр Федорович, рассказывал о пережитом в Березе Картузской при ясновельможных панах. Гриша тогда так близко принял к сердцу услышанное, что теперь вот даже забыл, с кем все это происходило: с учителем или с ним самим.
При Советской власти эта тюрьма, видно, пустовала: весь двор зарос травою! Вон даже на окнах второго этажа цветет ромашка.
Гриша бродил по двору, искал потерявшегося в толчее Александра Федоровича. Вместе с другими лазил в большие глубокие погреба, нашел пачку польской «черной кавы». Половину пачки припрятал для Александра Федоровича. А увидев, что все едят ромашку, тоже начал рвать и жевать желтую кашку. Ромашка была горькой, вязала во рту, но он жевал ее, потому что жевали все. Только он поздно хватился. Цветочки ромашки вскоре исчезли, как после налета саранчи. Грише пришлось грызть сухие, терпкие стебли. Но скоро не стало и стеблей. Тогда одичавшие от голода люди полезли в землю, начали выкапывать корешки. Через несколько минут двор почернел, словно его вспахали.
Пленные начали располагаться на отдых. Они впокат один к другому ложились вдоль высоких, надежных стен тюремной ограды, вокруг длинного двухэтажного корпуса казармы, внутрь которой входить не разрешалось.
Александра Федоровича Гриша нашел на куче угля в дальнем углу двора, под вышкой, на которой сидели часовые возле начищенного до блеска станкового пулемета. Отдав учителю «каву», Гриша сел рядом и с опаской смотрел на коварно спокойный ствол. Юноше казалось, что он нацелен прямо ему в лоб. Но деваться было некуда. Пришлось отвернуться и забыть обо всем на свете, кроме голода, который был теперь страшнее и дубинок, и пулеметов, и виселиц.








