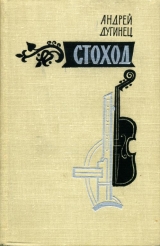
Текст книги "Стоход"
Автор книги: Андрей Дугинец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
А в полдень, когда Олеся возвращалась с обеда на работу, на улице ее догнал Сюсько. Сегодня он был опять в новой форме. Олеся, осмотрев его, сказала:
– Ты, как турухтан, чуть не каждый день меняешь костюмы!
– А чего ж! В моем районе одних портных больше десятка. А материал нам не покупать! – самодовольно ухмыльнулся Савка, пытаясь взять Олесю под руку.
Девушка отстранилась:
– Иди так просто, рядом. Люди будут говорить…
– А пусть говорят, что хотят! Все равно ведь ты выйдешь за меня! Все теперь у нас будет: и дом самый лучший, и что ты захочешь!
– Помолчи! – остановила его Олеся, когда поравнялись с хатой, возле которой на старом, трухлявом бревне сидели старухи. – Добрый день! – поклонилась Олеся.
– Доброго вам здоровья! – поздоровался Савка.
Старухи не ответили ни тому, ни другому, будто бы и не слышали. Лишь, злобно сплюнув, отвернулись.
Олеся горько вздохнула. Миновав этот дом, почувствовала колючие, злые взгляды.
– Сказано, росла без отца, без матери, что твой бурьян в поле… – послышалось сзади.
– И правда, бурьян, куда ветер дует, туда и хилится.
– Алэ, при Советах комсомолкой ходила, а при этих, видно, в фашисты записалась.
Словно удар кнута, обожгли эти слова Олесю. Дальше она шла, уже ничего не соображая, и на все, что говорил ей Сюсько, отвечала невпопад. Так и не заметила, как пообещала прийти к нему вечером домой играть в карты. И лишь возле комендатуры, когда Савка крепко пожал ей руку и, многозначительно подмигнув, потребовал не опаздывать.
– Куда не опаздывать? – спросила она, и черные крылышки ее бровей вспорхнули испуганно.
Сюсько терпеливо начал повторять все, что сказал несколько минут назад.
Олеся слушала его, а сама думала: «Придушила бы я тебя, если б могла, и убежала в лес». И вдруг дерзкая мысль мелькнула в ее голове: «Замануть бы его на речку, на лодке кататься. Веслом по башке треснуть и перекинуть лодку…» Подумав об этом, Олеся вздрогнула, как от озноба.
– Ты чего? – удивился Савка.
Олеся хотела сказать, что замерзла. Но был слишком теплый вечер. И она заговорила о своем:
– Чем сидеть в хате, давай лучше на лодке покатаемся. Я давно не каталась, вы ж мне не разрешаете от дома отходить: Поедем, Сава?
Олеся впервые назвала его так ласково. И Сюсько готов был идти кататься с ней на лодке хоть сейчас. Но страх перед теми, кто скрывался в лесу, был сильнее даже такого соблазна. И Савка ответил, что лучше выждать несколько дней, пока расправятся с бандой Миссюры.
– Ну, когда это будет! – отмахнулась Олеся, делая вид, что хочет уйти. – Это не скоро еще…
– А вот похороним Советскую власть, и весь отряд полиции отправится в лес, на облаву.
Олеся недоуменно посмотрела на Сюсько:
– Ты, пан комендант, плетешь что-то непонятное: похороните Советскую власть!
– Ну да! А что, голова тебе еще не говорил? – удивленно спросил Савка. – В воскресенье будут похороны.
– Да как ты ее будешь хоронить, ту власть, это ж не человек! – возмутилась Олеся.
– Как! С попами, с молитвами, с хоругвями! Кое-где ее давно уже закопали… – И Сюсько подробно рассказал о церковном ритуале похорон Советской власти.
Олеся слушала, запоминая каждое слово.
Оляна и обрадовалась, и встревожилась, когда под дубом, где они в последний раз договорились с Антоном о встрече, увидела Моцака с корзинкой черники.
– А где?..
– Антон сегодня занят, – догадавшись, о чем хочет спросить эта женщина, сказал Александр Федорович. – А я рад, что начал ходить, и вот отправился сам.
– То еще лучше, что сегодня пришли вы, – тревожно заговорила связная, – Антон не знал бы, что мне и посоветовать…
– Что случилось? – насторожился Моцак.
– Собираются Советскую власть хоронить, – развела руками Оляна и рассказала все, что узнала от Олеси. – Уже яму копают. На селе говорят, что в ту яму побросают всех активистов и тех, кто за Советскую власть.
– Нет. Это делается не так, – возразил Александр Федорович. – Я слышал, что это делают бендеровцы. – И после недолгого размышления твердо добавил: – Не дадим глумиться над нашей родной властью! Не дадим!.. Оляна Кононовна! Вы не сможете поговорить с какой-нибудь надежной женщиной, чтобы детей на эту церемонию не пускали да и сами подальше держались от той ямы?
– А чего ж, это можно, – ответила Оляна, прикидывая в уме, кому бы могла довериться.
– Поговорите, а она пусть еще кому-нибудь скажет, так, будто бы слышала что-то от случайного прохожего. Важно, чтоб возле ямы не было наших людей. А остальное сделаем мы. Понимаете?
– А чего ж тут не понять!
– Тогда идемте, отдам вам ягоды и возвращайтесь.
– Да вы еще и ягод набрали! – всплеснула руками Оляна. – Я б сама…
– Нет уж, вам целый день в лесу нельзя пропадать, – возразил Моцак. – Тот, кто будет приходить к вам на связь, заранее будет заготовлять ягоды или что другое, за чем вы вздумаете идти в лес. Об этом всегда договаривайтесь заранее. И место встречи каждый раз меняйте.
Высыпав чернику из корзины в кошелку Оляны, Моцак пожал ей на прощание руку и, зная, о чем она хотела его спросить, но так и не решилась, сказал:
– Будем надеяться, Оляна Кононовна, что Гриша скоро придет. Вчера прибились еще двое из тех, что со мною бежали, придет и он…
Рассвет был серый, тягучий, медлительный. И такой же тягучий, нудный тянулся над Морочной необыкновенно ранний звон церковного колокола. Звонарь, видно, недоспал, потому что звонил редко и неохотно. Ударит: «Бом-мм!» – и долго сквозь дрему прислушивается, как разливается звон по селу, окутанному плотным холодным туманом.
«Бом-мм!»
Конон Захарович и Оляна проснулись до рассвета, но лучины не зажигали: полицаи без предупреждения стреляли в окно, в котором появлялся свет. Отец и дочь сидели во тьме и гадали, что это за звон. На этой неделе не слышно было, чтоб убили кого-нибудь из немцев или полицаев. А если сами фашисты убили кого из мирных жителей, то звонить не станут – таких запрещено хоронить с попом. На рассвете в окно постучали, отец и дочь выскочили во двор.
– На похороны! – крикнул десятник. – Запрягайте коня, берите лопаты, на бричку ставьте короб – землю возить.
– Да где ж он у нас, тот конь! – отмахнулся дед Конон. – Забрали ж сразу, как пришли «освободители».
– Ну, тогда с лопатами. На площадь все трудоспособные! За неявку…
– За неявку – расстрел… То мы уже знаем, – сказал дед. – А кого ж хоронить?
– Советскую власть! – хлопнув калиткой, ответил десятник.
– Тю-уу! – протянул дед Конон, – такое сморозил! Советскую власть хоронить!.. Оляна, ты поняла, что он сказал?
– Да, я краем уха слышала, что по другим селам прошло такое – хоронили Советскую власть. А как оно, что к чему, ума не приложу.
– Вот же и я думаю, как ты ее похоронишь, Советскую власть, это ж не один человек и не сотня. Сперва ж надо перебить всех людей от Москвы до Владивостока, тогда… Да нет, тут мы с тобой чего-то не расслышали…
– А бес их поймет, – отмахнулась Оляна. – «Новый порядок» же!
– Одного не пойму, зачем с бричкой, какую землю возить, куда? – вслух размышлял старик. – Может, сами себе будем яму копать?..
– Да уж лучше скорей в яму… А стойте! – Оляна настороженно подняла руку. Ей показалось, что где-то поют, словно кого-то отпевают. Выглянула за ограду: на краю села, в той стороне, где районная управа, увидела запрудившую узкую улицу многолюдную и необычайно пышную похоронную процессию. Жестом позвала отца. Впереди стройной шеренгой шли сразу семь попов из разных деревень. Шагали они в ногу, как солдаты, и даже кадилами размахивали, словно по команде. За попами следовали мужики с хоругвями, иконами и золотыми крестами. Золото на иконах и крестах светилось холодно и зловеще. Потом шла толпа старух и стариков, которые вразнобой, но громко и усердно пели:
Свя-а-тый боже,
Святый крепкий,
Святый бессмертный,
Помилуй нас.
За хором, который уже миновал двор Багно, дюжие парни несли на плечах вытесанный из огромной сосны крест.
– Можно подумать, что собрались второй раз Христа распять, – заметил дед Конон, кивнув на крест.
– А может, вешать будут тех, кто за Советскую власть… – со страхом прошептала Оляна.
– Очень много крестов надо, – буркнул Конон Захарович и направился в хату. – На всех и лесу не хватит.
– Потише б говорили о таком.
– Багно! – раздался голос десятника, снова проходившего мимо двора. – Вам что, особое приглашение? Предупреждаю, сейчас по дворам пройдет патруль и всех, кто не вышел…
– Знаем, знаем! – живо подхватил дед Конон и пошел за лопатами.
Отец и дочь присоединились к толпе, молча и понуро следовавшей за странной процессией. Позади ее тянулись подводы, груженные землей.
Люди недоуменно оглядывались: зачем везут землю? куда? Но никто не спрашивал. Шли в горестном, безмолвном оцепенении.
Возле церкви к шествию присоединилась группа морочанских богатеев во главе с Гирей. Из этой шайки наперед вышла Ганночка, одетая в белое пышное платье. На вытянутых руках торжественно несла поднос, на котором лежал большой лист бумаги, исписанный черными чернилами.
Что это была за бумага, никто пока не знал, но все чувствовали, что бумаге этой уделяется особое внимание, так как Ганночку пустили первой впереди попов. Процессия повернула на площадь. Колокола теперь гремели стройно, а хор все выше и выше поднимал свое: «Святый боже, святый бессмертный…» И голосистее всех выводила Ганночка.
«Что за церемония? Кто ее придумал? И чем она кончится?» – недоумевали дед Конон и десятки других мужиков и баб.
Шествие остановилось на площади, где уже была выкопана большая, глубокая яма. Попы взобрались на высокую кучу земли, насыпанной возле ямы. Ганночка и тут оказалась на видном месте, на самой верхушке кучи. Хор окружил яму. А уж за ним встали полицейские, работники районной управы, сельские старосты, богатые, празднично одетые мужики. Крест положили в стороне от ямы. На куче земли поставили стол, на который тут же взобрался церковный староста Иван Гиря. Помолодевший, веселый, он браво подкрутил черные острые усы и, протянув руки, громко провозгласил:
– Панове! Паночки! Всем вам звесно, что великая немецкая Германия хюрера звольнила нас, так сказать, ослобонила от большовицкой заразы! Сегодня мы своими руками захороним ту Советскую власть.
Гиря взял бумагу, лежавшую на подносе, с которым Ганночка стояла возле стола. Высоко подняв белый широкий лист бумаги, Гиря начал громко читать.
Перечисление всех обид, которые Советская власть причинила сперва ясновельможным панам, а потом и другим «хозяевам», перемешивалось с грубыми проклятиями. В конце каждой такой фразы Гиря возвышал голос.
Закончив чтение, он взял из рук Ганночки черную литровую бутылку и, свернув лист трубкой, всунул его в горлышко и туго заткнул пробкой.
– Панове! Теперь мы бросим в глубокую могилу ту власть большевиков, поставим на ней крест и навозим высокую гору земли, чтоб никогда она больше до нас не вернулась! – изо всех сил прокричал Гиря и на вытянутых руках медленно поднял черную бутылку.
Попы дружно замахали кадилами, а хор грянул песню, слова которой трудно было разобрать, но звучала она как продолжение проклятий, перечисленных на бумаге.
Народ молчал. Лишь кое-где слышался тихий, сдавленный шепот:
– Такое придумали! Власть – в бутылку из-под самогона!
– И почему в бутылку?
– Да, видно, чтоб не сгнила.
– Алэ! Знают же, что придется откапывать!
– И дурные ж попы! – тихо сказал Оляне отец. – А еще ж образованные! Даже если б та власть погибла, то зачем такая комедия?
– Понимают они, шкодливые коты, все, – проговорил стоявший рядом старый лесник из соседнего села. – Все разумеют, да такая у них прохвэсия, чтоб голову нам затуманивать. Надо ж додуматься: целую державу засунули в бутылку и думают, все покончено. Это еще не все. Не-ет!
Когда кончили отпевать, Гиря медленно, с нарочитой натугой, как огромную тяжесть, поднял бутылку высоко над головой и, готовясь бросить ее в глубокую яму, прокричал как заклинание:
– Навеки веков геть от нас Советская большовицкая власть!
Но тут Гиря как-то нелепо взмахнул правой рукой. Черная бутылка ослепительно брызнула, словно вспыхнула, и разлетелась мелкими осколками. Со стороны парка донесся звук винтовочного выстрела. Все оглянулись и увидели быстро поднимавшийся над столетними липами парка алый флаг.
Гиря, дико вскрикнув, бросился прочь.
А толпа зашумела, заволновалась.
Флаг поднялся на самую верхушку мачты, ветер подхватил его и расправил. На большом куске кумача ярко вырисовывались серп и молот – символ Советской власти.
– Похоронили! – кивнув на победно реющий над селом флаг, сказал леснику Багно.
– Алэ, – в тон ему поддакнул лесник.
– Ну что, можно и по хатам?
– А чего ж, черемония кончилась. Нам по хатам, а им, может, и по кустам… Головы свои ховать от пуль…
Народ шумным, неудержимым потоком хлынул с площади… А полицейские, стреляя на ходу, побежали в парк.
В парке в это время с высокой липы слезал Омар Темиргалиев.
– Мал-мал промазал, не самый середина бутылка попал, – досадовал он и сам же пояснил причину неудачи: – Винтовка незнакомый. Так? Оптический прицел совсем нету. Так? Рука мал-мал не совсем вылечился, – и он помял запястье правой руки в красных, еще свежих рубцах.
– Я бы умел так стрелять! – вздохнул Санько, закреплявший под мачтой стропы, которыми только что поднял флаг. – А этому гаду и голову пулей прошить было бы не грех!
Омар спрыгнул с дерева. Спокойно взял винтовку на плечо и пошел вслед за Саньком к лодке, стоявшей в протоке, огибающей парк.
– Пока полицай стреляет в небо, в парк бежать боится, плыви, Санько, самый третий скорость! – сказал Омар, входя в лодку.
Лодка быстро скользнула в обросшую камышом протоку.
Стрельба в парке длилась долго, а флаг с серпом и молотом ярким пламенем полыхал над селом до полудня. Затаившиеся в своих закутках морочане удивлялись, почему так долго фашисты не срывают флаг.
И только под вечер все выяснилось. Когда над селом взвился советский флаг, полицейские побежали в парк и сразу кинулись к мачте, чтобы снять флаг. Но возле трибуны остановились и в ужасе начали пятиться, а некоторые даже спрятались за толстые стволы столетних лип. На трибуне с двух сторон висели листы фанеры, на которых было написано огромными буквами:
«Мины!!! Смерть фашистам и собакам-полицаям!»
Заметив какие-то нагромождения под трибуной, полицейские решили, что все это взрывчатка, и долго не могли ничего придумать. Самые ретивые залегли за старыми липами и стали стрелять в стропы, надеясь сбить флаг. Но вскоре отказались и от этой затеи. Никто из них не попал ни в верхушку мачты, ни в стропы.
Шеф вызвал из города саперов. Те примчались на грузовике, оцепили площадку. И один, видимо самый храбрый, двинулся с миноискателем к трибуне. Он шел все медленней и неуверенней. И наконец, метрах в трех от трибуны, остановился.
– Какие-то новые мины! – крикнул он. – Никакого влияния на прибор!
Потом взял другой миноискатель. Но и тот ничего не показал даже под трибуной. И наконец, рассмотрев кучу бумажного хлама, солдат доложил, что никаких мин здесь нет.
Саперы уехали, а пристыженные полицаи, осмелев, сняли флаг и на трибуне со стороны мачты обнаружили еще одну надпись:
«Советская власть жила и вечно будет жить!
Миссюра».
К вечеру на стенах домов, на воротах появились огромные серые листы приказа коменданта полиции.
«В Морочанском районе действует красная банда Миссюры. Банда терроризирует мирное население, мешает ему нормально жить и трудиться, вредит новому порядку.
За голову живого или мертвого Антона Миссюры объявляю награду 1000 марок, новый дом и корову.
Комендант морочанской полиции С. Сюсько».
Утром на приказе, висевшем на стене районной управы, поверх черного типографского шрифта появились красные буквы, написанные почерком малограмотного:
«А я за твою дурну голову ни копийкы ны дам!
Миссюра».
Бумажку эту сорвал патруль и принес коменданту. И Сюсько начал повальные обыски и аресты, надеясь узнать о местонахождении Антона Миссюры.
Оляна возвращалась с огорода, где окучивала картошку, как вдруг хлопнула калитка. Оляна подняла глаза и оторопела: во двор вошел незнакомый полицай с винтовкой наперевес. Он спросил ее фамилию и приказал идти за ним.
– Куда? – обомлела Оляна, чувствуя, как во рту сразу пересохло.
– В комендатуру, – коротко ответил полицай и увел ее, не разрешив даже зайти в дом.
А через полчаса за Оляной захлопнулась окованная железом дубовая дверь камеры, в которой побывали когда-то и ее сын, и муж, и отец. Камера была еще пустой, и дверь захлопнулась так гулко, что под потолком долго стоял густой, тяжелый звон. В ушах Оляны этот звон стоял весь день. В голове была пустота, словно этот хлопок двери лишил ее способности думать. А когда наконец Оляна поняла всю безнадежность своего положения, она бросилась к окну, ухватилась за толстые решетки и зарыдала.
Сначала самым страшным было то, что расстреляют, а она так и не увидит своего Гришу. Потом стало жалко старого отца, которого ни за что ни про что могут тоже забрать. А потом вспомнился и Антон. И даже не он сам, а та крохотная болотная курочка, что так ловко обманула их когда-то. Как наяву, встало перед глазами все, что произошло тогда на речке.
…Курочка подпустила их совсем близко… А как только протянули к ней руку, упорхнула… Перед глазами Оляны закачалась белая, как снег, царственно пышная лилия, послужившая точкой опоры для спичечной ножки птички.
«Поймал?» – услышала Оляна свой вопрос, заданный тогда Антону. Что он ответил, уже забылось, но она сказала, как будто знала наперед: «Вот какое у нас с тобой счастье: было и нету! Даже следа не осталось…»
«Антон! Где ты? Не поймали тебя? Хотя бы ты остался живой! Антон! Будь осторожней!»
И вдруг вспомнилось, что Олеся знает дорогу к нему.
«Олеся! Она проговорится! Побьют, и все выболтает! А может, ее не тронут? Савка ее любит…»
* * *
Нового музыканта хозяин ресторана поселил в чуланчике, рядом с кладовкой. Выхлопотал ему документы. И Гриша стал жителем Бреста. В первое время хотел бежать из города. Но проходил день за днем, а побег все откладывался.
По вечерам он играл в ресторане, днем бродил по городу или спал в своем чуланчике. Гриша ждал, что к нему придет кто-нибудь из однополчан Зайцева, бежавших из лагеря. Ну а уж если уходить из города, то нужно так отомстить фашистам, чтобы было не стыдно показаться на глаза односельчанам и родным. Часто, ложась спать, он в ночной тишине вдруг, словно наяву, слышал последний, победный возглас умирающего комиссара: «Еще одного!»
Юноша метался по городу, присматривался к прохожим, чего-то искал, что-то высматривал… искал среди них тех, кто сумел бежать из концлагеря…
Каждый по-своему встретил приход оккупантов. Одни решили отсидеться, «набрав в рот воды», другие намеревались, спалив все свое добро, уйти в лес. Пан Суета надеялся правдой или неправдой сделать Олесю своей женой, хотя знал, что об этом же мечтает и Сюсько. А в Ганночке пробудилась необычайная жажда деятельности. Она почувствовала, что наконец-то настала пора исполнить давнее желание – разбогатеть. Быстро, внезапно, у всех на виду разбогатеть и зажить разгульно, пышно, всем на зависть. Возвратившись с похорон, она первым делом пошла в сарай и откопала маленький почерневший сундучок.
Больше сорока лет назад, еще в публичном доме, начала она откладывать деньги на черный день, как это делали все проститутки. Потихоньку скопила приличную сумму. Обменяла на нетленное золото, и вот теперь оно оживет в ее руках.
Надев самое лучшее платье и захватив с собой только сумочку с золотом, Ганночка уехала в Брест, ни с кем не простившись: здесь теперь не оставалось никого и ничего, достойного ее внимания.
* * *
Оляна пробыла в одиночной камере целую неделю. Никто ее не допрашивал, никто никуда не вызывал. И если б не кормили, она считала бы, что о ней забыли.
Лишь когда все камеры полицейского участка были переполнены, к ней в камеру втолкнули арестованных. Это были незнакомые люди из других сел, и все же Оляна обрадовалась им, надеясь, что легче будет вместе ожидать своей участи. Но когда этих людей одного за другим стали уводить на допрос и одних расстреливали, а других приволакивали в камеру избитыми до бесчувствия, до потери человеческого облика, жизнь ее превратилась в кошмар. Она не могла уснуть ни днем ни ночью. И завидовала тем, кого увели в «Хвоинки». Так называлось быстро выросшее кладбище на холмике, поросшем хвойным молоднячком. Лесок этот был в километре от полицейского участка, и в оконце хорошо было видно, когда вели кого-нибудь на расстрел. Каждый заключенный обреченно посматривал на эти «Хвоинки»…
Наконец Сюсько вызвал ее и с веселой улыбкой сказал:
– Ну, Оляна Кононовна, пойдем посмотрим наше хозяйство. – Он кивнул Левке Гире, стоявшему у дверей камеры: – Открывай по порядку, без задержки, у нас мало времени.
И Савка повел Оляну по огромному, длинному коридору. Левка открыл дверь. Савка подтолкнул Оляну к порогу. И та, решив, что ее сюда переводят, молча, покорно вошла в камеру. На нарах сидели незнакомые мужики с окровавленными лицами, на которых не было видно глаз.
– Нравится? – все так же весело спросил Сюсько. – Идем дальше.
В следующей камере сидели люди, на лицах которых крови не было, зато синяки и черные кровоподтеки делали их неузнаваемыми. У всех были огромные раскровавленные губы и блестящие, как перезрелый синий баклажан, раздутые скулы. Глаз или совсем не было видно или они чуть поблескивали из щелочек, заплывших сплошным черным месивом.
– Дальше, швайнэ-ррайнэ! – воскликнул Сюсько.
В третьей камере Оляна увидела неподвижно распластанное на полу человеческое тело, искровавленное, исполосованное все теми же черно-синими кровоподтекам!
– Видела? – остановившись против Оляны, громко произнес Сюсько. – Так мы поступаем с теми, кто против нас. А тех, кто нам помогает, мы щедро награждаем. Зови Антона домой. Дам новый дом и хозяйство. – Савка неожиданно дружелюбно обратился к арестованной. – Напиши ему, пусть сам придет.
Оляна с ужасом глянула в глаза коменданта.
– Не бойся. Мне давно нужен человек с такой силой, как у твоего Антона. Пусть вместе с Гришкой возвращаются в село. Нам и музыкант нужен!
– Гриши нету, – печально прошептала Оляна.
– Что, никакого слуху? – недоверчиво спросил Сюсько.
– Никто его больше не видел с того дня, как уехал.
– Ну ладно. Идем. Пиши. – И Савка доверительно прошептал: – Я на Антона не сержусь за убийство Барабака. Остался бы тот дурень живой, не бывать бы мне комендантом. Зови Антона. Он станет моим заместителем… Ей-бо!
Оляна простодушно посмотрела в глаза Сюсько и, отрицательно качнув головой, ответила:
– Нет. Того я не можу.
– Ты не хочешь… спасти человека?!
– Люблю я его. – И, с тяжелым вздохом взглянув на замордованное тело, лежащее на полу, тихо закончила: – Меня кончай, а его… Нет! Ты себе как хочешь, Сава, а Антона я тебе на муки не отдам!
– Ну, тогда пеняй на себя! Левка, уведи ее. Завтра мы на веревке, как дикого кабана, приведем твоего Миссюру, и пройдет он все, что ты видела.
Весь остаток дня и всю ночь Оляна гадала, что значили эти слова коменданта. «Неужели он узнал, где теперь находится Антон? Но кто может сказать ему об этом? Олеся? Она на новом месте не была и не знает, куда переселился Антон со своими товарищами. Да ничего он не знает, этот мокрогубый бугай, иначе не выпытывал бы».
Уснула Оляна только под утро чутким, тревожным сном…
Не зря Сюсько грозился поймать Антона Миссюру. Ночью после безрезультатного допроса Оляны Сюсько во главе отряда полицаев в строгой тайне выехал в лес на четырех пароконных подводах. Савка был уверен, что Миссюра с друзьями засел в каменном графском паласе. Шеф полиции Гамерьер и пять немцев, служивших при нем, тоже отправились с полицаями на эту первую серьезную акцию. Акциями шеф называл вообще всякие вы езды в села для расправы с непокорными.
Савка хорошо знал все дороги в лесу и выбрал самую глухую колею, по которой давно уже не ездили. Он сидел на первой бричке с четырьмя полицаями, вооруженными ручными пулеметами, и думал, что удастся нагрянуть в имение неожиданно и с той стороны, откуда скрывающаяся там «красная банда» меньше всего ждала нападения. Это была та самая дорога, по которой три месяца назад Сюсько бежал из Морочны. Шла она густым смешанным лесом, пересекала множество ручейков и речушку, через которую был ветхий мосток. Есть он, этот мосток, или разобрали?.. Не хотелось в первой же операции опозориться перед шефом: сегодня надо доказать, что ты настоящий хозяин района, все знаешь и все можешь.
Сытые кони медленно, с трудом тащили тяжело груженные боеприпасами и людьми подводы. Но их и не понукали. Нужно было прибыть на место к рассвету.
На второй подводе ехал Левка и его дружки.
– Мы ни черта не знаем об этой банде, – вполголоса ворчал Левка.
– Да, трое их или сотня? – вторил сидевший рядом Степан Колун, добровольцем пришедший в полицию и соседнего села.
– Ну, хватил – сотня! – возразил Левка. – Скажи другое, что никто толком не знает, где они, в самом имении или в лесу.
– Застава у них в березнячке, возле дома управляющего. Это точно, – вмешался в разговор возница, тоже полицейский. – Сам видел.
– Ты видел возле дома, а моего тестя остановили на тропинке к озеру, в километре от дома, – заспорил Колун. – Крикнул кто-то: «Назад!» А самого не видно. Приказал больше в этом лесу не появляться и другим заказать.
– Да что они, по-вашему, на пять верст расставили свои посты? – в сердцах проговорил возница. – Жинка ж моя не из трусливых, да и брехать мне не будет. Ее остановили совсем в другой стороне. Она пошла на разведку, как будто бы ягоды собирала. И на нее тоже крикнул: «Назад! Больше в этот лес не ходи и другим закажи!»
– Вас послушать, то каждое дерево в лесу кричит: «Назад!», – с досадой заметил Левка и сплюнул: – Разведчики из вас! Вам поручишь дело, а вы то старика вперед выставляете, то за бабьей юбкой прячетесь.
– А, тихо, – подняв кнут, предупредил возница.
Головная подвода остановилась в нескольких метрах от черневшего впереди мостика через речушку.
– А ну, Самох, сбегай посмотри на мост, – скомандовал Сюсько полицаю-вознице. – Хорошенько все ощупай руками, а то, может, балки прогнили. Залезь в воду, не бойся, там не утонешь.
Полицейский подбежал к мосту, но, видно, ощупывать его не стал, потому что возвратился очень скоро и доложил, что мост в полной исправности, но там между бревнами палка, на которой висит какая-то табличка.
– Что еще за табличка? Докладывай точно!
– Я ж, пане коменданте, неграмотный по-русски. Учился только по-польски. Русских литер совсем не знаю, проше пана коменданта.
– Левка, пойди ты, что там за табличка, – приказал Савка своему заместителю.
Тот нехотя слез с воза и, широко разбрасывая свои длинные ноги в огромных сапогах, пошел к мосту. За ним – человек пять любопытных полицейских.
На середине моста действительно была укреплена палка с небольшой фанеркой. Подойдя вплотную, Левка, тоже плохо знавший русскую грамоту, медленно, по слогам, прочитал:
– «Смерть фашистам! Миссюра».
А внимательнее присмотревшись, Левка заметил еще одно слово перед фамилией Миссюры. Более мелкими буквами и, кажется, другим почерком, было написано: «Генерал».
– Генерал Миссюра? – Левка злорадно, басовито рассмеялся. – Ну и мастак Антон, возвел себя уже в генералы!
– Какой Антон? – спросил Самох.
– Да ты его не знаешь, был тут слепой батрак, – отозвался Левка, уходя от моста.
– Это совсем не тот Миссюра, – вмешался другой полицай. – Я слыхал, что…
Но не успел он договорить… Подошедший самый молодой в отряде, но самый ретивый полицейский схватил палку с крамольной надписью, намереваясь забросить ее подальше, но только он ее дернул, раздался сильный взрыв. Бревна моста вместе со всеми, кто на них стоял, взметнулись высоким черным облаком. Только Левка, уже успевший отойти от моста, отделался легким ранением.
Полицейские, даже не пытаясь разыскивать тела убитых сослуживцев, повернули коней и погнали их вскачь. Теперь немцы, сидевшие на задней подводе, оказались лицом к противнику. Они открыли огонь из станкового пулемета. Полицаи тоже начали палить во все стороны. Но вслед им не раздалось ни одного выстрела.
Днем к мосту Савка послал десять морочанских мужиков из самых бедных, тех, кого он считал ненадежными. Мужики подобрали останки незадачливых карателей и привезли в комендатуру. На второй день на похороны согнали жителей всей Морочны и ближайших сел и хуторов. Прикрываясь стариками и детьми, полицаи, видно, надеялись быть в безопасности. Памятны им были похороны Советской власти.
За два дня слава о красном генерале Миссюре разлетелась далеко за пределы района. Многие верили, что в лесу обосновался не Антон Миссюра, а настоящий, оставленный в тылу фашистов или заброшенный десантом генерал, однофамилец Антона Миссюры.
Морочанам откуда-то стали известны все подробности «победного» похода карателей. Люди втихомолку потешались над трусостью полицейских. А шеф Гамерьер чуть не застрелил Савку Сюсько за то, что из-за его непредусмотрительности погибли трое лучших полицейских.
Позже всех подробности происшествия на мосту узнали в отряде Антона. Заминировали мост сразу, как только получили сообщение Олеси о том, что Савка затевает облаву на отряд. Делали это сам Миссюра, Санько и прибившийся к отряду сапер, старшина Александр Бурдин, человек молчаливый, но неистощимый выдумщик. Бурдин и приписал слово «генерал», когда фанерку с надписью уже закрепили на мосту. На вопрос Миссюры, зачем он это сделал, Бурдин ответил:
– Написать «бывший батрак Миссюра», так никого не удивишь. А тут солидно…
Узнав о провале карательного похода полицаев, Оляна и радовалась за Антона, и боялась. Ей казалось, что слишком долго не вызывает ее Сюсько, значит, готовит какую-то каверзу.
И когда в полночь загремели ключи и заскрежетала окованная дверь, Оляна с готовностью спустилась с нар, уверенная, что пришли именно за нею.
«В «Хвоинки»… – холодеющими губами прошептала она. – Только бы Антона не поймали. Только бы он уберегся».
В распахнувшуюся дверь втиснулся Левка Гиря. Одной рукой он, словно мешок, втащил в камеру человека. Брезгливо шмыгнув носом, выскочил и гулко захлопнул дверь.
Глухой, тяжелый стон наполнил густую тьму камеры. Как только дверь за полицаем захлопнулась, заключенные бросились на помощь новичку. Дали воды. Положили мокрую тряпку на виски.
Несчастный постепенно успокоился, затих. Когда ему стало легче, его решили положить на нары. Он отказался и просил оставить его в покое. Заключенные один за другим возвратились на свои места. Долго сидели молча, ожидая, что еще придумают полицейские. Но в коридоре, кроме пьяных выкриков дежурных полицаев, ничего не было слышно.








